Текст книги "Очерки истории европейской культуры нового времени"
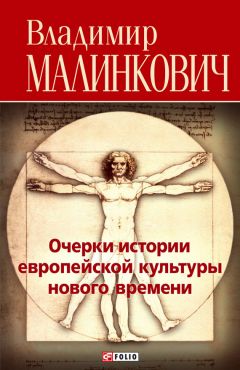
Автор книги: Владимир Малинкович
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Гамлет и Дон Кихот
Мы подошли к сути конфликта Льва Толстого с почитателями английского драматурга. Толстому не так уж важно продемонстрировать читателю неталантливость Шекспира. Куда важнее убедить его в неизменности религиозной основы всякого искусства. В том, что драма, «чтобы иметь значение, которое ей приписывается, должна служить уяснению религиозного сознания». Такою, по мнению Толстого, драма была всегда – в дохристианском и христианском мире.
Трудно не согласиться с тем, что древнегреческая трагедия была наполнена религиозным содержанием. Но уже в Римской империи античная драматургия в значительной мере утратила свой религиозный смысл, что вынужден признать и Толстой. Искусство Средневековья, конечно, было насквозь религиозным. В средневековом театре долго доминировала церковная драма (литургическая и полулитургическая), к которой затем добавились миракли (представления о чудесах) и мистерии, тоже, в основном, религиозного содержания. Правда, не театр, а в первую очередь архитектура и изобразительное искусство определяли общую направленность средневековой эстетики, но этот факт, в принципе, ничего не меняет – религиозная суть всех видов художественного творчества в то время не вызывает сомнения. Но к началу XVI века многое изменилось. Настало время Ренессанса и Реформации, и искусство стало иным.
Толстой с этим, в общем-то, согласен. «При появлении протестантства в самом широком смысле, то есть появлении нового понимания христианства как учения жизни, – пишет он, – драматическое искусство не нашло формы, соответствующей новому пониманию христианства, и люди Возрождения увлеклись подражанием классическому искусству». В самом факте обращения к античной традиции Толстой не видел ничего дурного, но это увлечение, с его точки зрения, может быть оправдано лишь как явление временное. В конце концов, писал Толстой, «искусство должно было найти (как оно и начинает находить теперь) свою новую форму, соответствующую совершившемуся изменению понимания христианства». Возможно, в начале XX века, когда Толстой писал свою статью, ему могло показаться, что искусство действительно «начинает находить» формы, соответствующие новым представлениям о сути христианства (в России как раз тогда начинался Серебряный век философии и поэзии), но сегодня, сто лет спустя, очевидно, что такие формы найдены так и не были. Духовная жизнь европейцев, не получив импульса к обновлению, стала стремительно деградировать.
Надо отдать должное Льву Николаевичу. Он очень точно подметил время, когда искусство стало терять свой религиозный смысл. Это время последовало сразу за Ренессансом и Реформацией. Духовный мир человека вырвался за тесные пределы многовековой христианской традиции. Реформация, освободив человека от церковной опеки, перевернула (как и положено подлинной революции) все прежде существовавшие устои европейского мира. Теперь люди должны были сами, без посредников, определять свои взаимоотношения с Богом. Больше не было поводыря, который указывал бы им, куда идти и что делать. Решая, что хорошо, а что плохо, люди полагались, в основном, на самих себя – во всяком случае, когда это не касалось дел государственных. Резко подскочила самооценка человека, что проявилось в появлении идеологии гуманизма, которая поначалу отстаивала безмерные, как тогда казалось, возможности человека.
На самом деле эти возможности оказались далеко не беспредельными. Отказавшись от церковных наставлений, человек шел по жизни, без конца ошибаясь, спотыкаясь, нанося себе и другим увечья. Очень скоро он почувствовал, что окружающий его мир полон острейших противоречий, что в нем отсутствует какое-либо связывающее единство и господствует разрушительный хаос. Человек больше не ставил перед собой никаких универсальных целей, теперь он стремился лишь к удовлетворению собственных желаний, любой ценой добиваясь богатства, власти, славы, наслаждений. Но он уже успел утратить ощущение собственного величия, что появилось у него в начале Ренессанса или Реформации. Обладая способностью видеть явления окружающего его мира, человек «не мог понять ни их начала, ни их конца» (Паскаль). Жизнь, которая раньше казалась вечной, продолжающейся на небесах, теперь воспринималась им как нечто скоротечное и эфемерное. Один из героев пьесы «Мера за меру» выражает отношение современников Шекспира к жизни следующими словами:
Ты – дуновенье, пар, тобою правит
Астральное влиянье всех светил,
Разящих ежечасно эту землю,
У смерти ты в шутах; ей на потеху
Бежишь к ней, убегая от нее.
«Распалось все, ни в чем порядка нет», – писал современник и соотечественник Шекспира великий английский поэт Джон Донн. То же самое, по сути, говорит устами Гамлета и сам Шекспир: «The time is out of joint» («Время вывихнуто» или же «Распалась связь времен»). Человек оказался на распутье. Что делать дальше? Куда идти? Одни все еще искали выход из тупика в религии, другие же барахтались в житейском море, рассчитывая, прежде всего, на собственные силы, разум и волю. Это были новые люди, и Шекспир был одним из первых, кто вывел их на сцену. Персонажи пьес Шекспира жили в разные времена в разных странах, но, в общем-то, все они были его современниками – людьми той эпохи, когда заканчивался ренессанс и начиналось барокко.
Толстой, конечно, был не прав, утверждая, будто монологи Гамлета, короля Лира, остроты его шута, иные резонерские высказывания, которыми перенасыщены шекспировские пьесы, не имеют никакого отношения к развитию представляемой драмы. Именно они, а не сюжетные перипетии определяли реальное место и время происходящего на сцене. Совершенно неважно, в каком веке, согласно фабуле пьесы, правил король Лир и в какой стране жил принц Гамлет. Проблемы, которые перед ними вставали, – это проблемы людей Нового времени (которое еще не завершилось, что делает творчество Шекспира актуальным и сегодня). Именно в силу того, что «распалась связь времен», Гамлет не мог опереться на традицию и опыт героев прошлого. И выход из психологически невероятно сложной для него ситуации ему приходилось искать самостоятельно. Не от кого было ждать подсказки. Чтобы выверить все возможные последствия своих действий, надо было пропустить сквозь себя, причем многократно, все то, с чем он столкнулся.
«Гамлет» – это рассказ о рефлектирующей личности, которая в течение всей многоактной пьесы готовится и никак не решается совершить поступок:
Так трусами нас делает раздумье,
И так решимости природный цвет
Хиреет под налетом мысли бледным
И начинанья, взнесшиеся мощно,
Теряют имя действия.
Первый европейский интеллигент – абсолютно новый образ, какого не знала прежде мировая литература, хотя о Гамлете писали еще до Шекспира. В течение всего спектакля мы наблюдаем за процессом рефлексии, за работой тончайшего механизма человеческой души. В работу эту никто не вправе вмешиваться, – утверждает Гамлет в своем знаменитом монологе о флейте. А вот еще один его монолог – о человеке как «красе вселенной, венце всего живущего» и в то же время «квинтэссенции праха». Разве не ту же мысль выскажет позже столь любимый Львом Николаевичем Блез Паскаль: «Человек – это нечто среднее между всем и ничем»?
Шекспир действительно стремился оправдать человека деятельного. И в этом своем желании он тоже следовал велению времени. Раньше было все просто: человек совершал важные поступки потому, что к ним подталкивали его либо церковь, либо власть. Самостоятельно он принимал решения лишь по мелочам. Сейчас же приходилось самому искать оправдание всему тому, что приходилось совершать. Даже если речь шла о клятвопреступлении, предательстве и даже убийстве. Герои пьес Шекспира обычно не видят грани между дозволенным и недозволенным. Действуют они, будучи неуверенными, что поступают правильно, а в случае Гамлета и вовсе не решаются на какие-либо поступки. Вывод о том, хорошо или плохо поступили персонажи шекспировской драмы, приходилось делать самим зрителям. Что, кстати, превращало их в соучастников спектакля и, конечно, способствовало его успеху.
Толстой явно недооценил мастерство и провидческий талант Шекспира, не заметил, что великий английский драматург был, пожалуй, первым, кто показал нам человека, сформировавшегося уже после протестантской революции. В России, не знавшей Ренессанса и Реформации, время шло по-иному: свободный от традиционных моральных обязательств человек как типическое явление появился там гораздо позже – во второй половине XIX столетия, т. е. уже в век Толстого. Но он пришел в Россию из Западной Европы, и Толстой попытался определить время, когда он там появился, и найти причины, этому способствующие. Время он определил точно. Толстой занялся Шекспиром, потому что тот раньше и четче, чем другие, представил нам образ такого человека. Что же касается причин, то здесь Лев Николаевич, думаю, ошибся. Он набросился на Шекспира, считая его ответственным за появление на свет столь отталкивающих, с точки зрения Толстого, героев. На самом деле они были рождены историей, а Шекспир их только вывел на сцену.
В том году, когда Шекспир завершил «Гамлета», в Испании написал первую часть своего «Дон Кихота» другой великий писатель Мигель де Сервантес Сааведра. Рыцарь Печального Образа совсем не похож на шекспировских героев. И вряд ли это связано с тем, что Англия к тому времени уже освободилась от духовной власти римского папы, а Испания еще оставалась главной опорой Контрреформации. Сервантес вовсе не был примерным католиком, Ортега-и-Гассет называл его «самым языческим из испанских писателей». Все дело в том, что Дон Кихот посвятил свою жизнь универсальному идеалу, а у шекспировских героев, как и у большинства наших современников, таких идеалов уже не было. В момент, когда еще только прерывалась связь времен, одновременно существовали и гамлеты, и донкихоты.
Еще сто пятьдесят лет назад Иван Сергеевич Тургенев обратил внимание на главное, что отличало Дон Кихота от Гамлета. «Что выражает собою Дон Кихот?» – спрашивал Тургенев. И отвечал: «Веру прежде всего; веру в нечто вечное, незыблемое, в истину, одним словом… Дон Кихот проникнут весь преданностью идеалу, для которого он готов подвергаться всевозможным лишениям, жертвовать жизнью… Жить для себя, заботиться о себе – Дон Кихот почел бы постыдным… Он весь живет вне себя, для других, для своих братьев, для истребления зла, для противодействия враждебным человечеству силам – волшебникам, великанам, т. е. притеснителям. В нем нет и следа эгоизма, он не заботится о себе, он весь самопожертвование – оцените это слово! – он верит, верит крепко и без оглядки… Он знает, в чем его дело, зачем он живет на земле, а это – главное знание».
А Гамлет? «Он весь живет для самого себя, он эгоист, – пишет Тургенев. – «Я», в которое он не верит, дорого Гамлету. Это исходная точка, к которой он возвращается беспрестанно, потому что не находит ничего в целом мире, к чему бы мог прилепиться душою; он скептик – и вечно возится и носится с самим собою; он постоянно занят не своей обязанностью, а своим положением. Сомневаясь во всем, Гамлет, разумеется, не щадит и самого себя; ум его слишком развит, чтобы удовлетвориться тем, что он в себе находит: он сознает свою слабость, но всякое самосознание есть сила; отсюда проистекает его ирония, противоположность энтузиазму Дон Кихота. Гамлет с наслаждением, преувеличенно бранит себя, постоянно наблюдая за собою, вечно глядя внутрь себя, он знает до тонкости все свои недостатки, презирает их, презирает самого себя – и в то же время, можно сказать, живет, питается этим презрением».
Тургенев, не без основания, полагает, что в каждом из нас есть что-то от Гамлета и что-то от Дон Кихота, но при этом замечает: «Правда, в наше время Гамлетов стало гораздо более чем Дон Кихотов». Соотношение между двумя противоположными началами в человеке со временем постоянно меняется. В Средневековье было больше донкихотов. В эпоху барокко, когда перевелись рыцари, возобладали гамлеты. Романтизм начала XIX века на какое-то время сделал привлекательным образ Дон Кихота, который до того считался, в общем-то, карикатурным. Судя по замечанию Тургенева, во второй половине того же столетия, когда романтизм пошел на спад, вновь стали численно преобладать гамлеты. А еще полвека спустя, когда писал свою статью о Шекспире Лев Толстой, гамлетово начало окончательно возобладало. Эгоизм в Европе к тому времени уже, безусловно, доминировал.
В начале Ренессанса еще могло казаться, что достижение гармоничного равновесия двух начал в человеке возможно. Но после Шекспира и Сервантеса, когда уже окончательно «распалась связь времен», стало очевидно: донкихоты останутся в прошлом, а гамлеты завоюют будущее. Толстого, глубоко преданного идее служения высшему смыслу жизни, доминирование Гамлетов, несомненно, пугало. Конечно же, он не только всецело был на стороне Рыцаря Печального Образа, но и сам, по сути, был донкихотом. Грубо и порой несправедливо атакуя Шекспира, он пытался вернуть на место вывихнутое из сустава время. Не для того, разумеется, чтобы возродить всевластие церковных иерархов (Толстой всегда был противником церкви), а чтобы восстановить в своих правах высокие и универсальные идеалы.
У читателей статьи Толстого может возникнуть вопрос: «Зачем он так много внимания уделяет шекспировской эстетике, если его интересуют, прежде всего, проблемы этические?» По-видимому, Толстой чувствует, что шекспировская эстетика, говоря условно, «индуктивна» – в ней отсутствует связь со всеобщим. Именно поэтому пьесы Шекспира, по мнению Толстого, состоят из отдельных фрагментов, которые никак не складываются в целостную картину. Потому и характеры шекспировских героев противоречивы и не имеют внутреннего стержня. Такой стержень есть у совсем немудрого Дон Кихота, но его нет у разумного Гамлета. Потому что свои чувства и мысли Дон Кихот всегда сверяет с абсолютным идеалом, а у Гамлета такого идеала нет. В эстетике драм Шекспира воочию проявляет себя аморализм его этики.
В чем суть спора?
Виланд, Гердер и Гете, привлекая внимание немцев к Шекспиру, сделали большое и полезное дело. С их благословения героями европейской драмы стали выразители настроений живых людей той или иной эпохи, а не ходульные персонажи театра классицизма, с реальностью имеющие мало общего. И не их вина, что живые люди Нового времени не верили в «вечные ценности» и прокладывали себе дорогу в жизни путем проб и ошибок, порой трагических. Сами же деятели «Бури и натиска» как раз не разделяли мнения бюргерского большинства, находились в постоянном поиске духовных ценностей, исчезнувших в столетие барокко и век Просвещения, и стремились облагородить поступки героев собственных драм, заставив их служить высоким идеалам (вспомним, хотя бы, рыцарские деяния главных действующих лиц пьес Шиллера). Когда Толстой утверждает, будто у Гете и людей его круга было то же мировоззрение, что и у Шекспира, он явно ошибается.
Вряд ли прав Толстой, называя «нелепыми и дурными по содержанию» духовные поиски Фридриха Ницше. Не Ницше виноват в том, что в сознании большинства образованных людей второй половины XIX века Бог уже умер. Он лишь зафиксировал в известной фразе эту смерть и пытался возродить духовность людей в безбожном мире. Возможно, Ницше ошибался, но его ошибки так же простительны, как и ошибки Толстого (в том числе и в оценке творчества Шекспира). Ни Толстой, ни Ницше не могли жить в окружающем их бездуховном мире и, чтобы выйти из него куда-то, строили свои собственные, во многом утопические миры. В конце жизни Толстой уже не очень верил в то, что христианская церковь сможет найти новые, соответствующие духовным потребностям современного человека, формы религиозной жизни. Ницше не верил в это с молодых лет. Оба, тем не менее, стремились утвердить приоритеты духовных ценностей, и в этом они были союзниками (хотя Ницше предлагал людям жесткие и даже жестокие методы духовного самосовершенствования, абсолютно неприемлемые для Толстого). Пусть Фридрих Ницше и отвергал Бога, но его творчество все же вполне соответствовало религиозной сути культуры, как ее понимал Лев Николаевич Толстой.
Прошло сто лет, и о статье Толстого против Шекспира почти все забыли. Лучшие режиссеры до сих пор ставят все новые и новые спектакли и фильмы по Шекспиру, получая за них престижные международные награды. Сыграть Гамлета мечтают все знаменитые актеры нашего времени. Что еще нужно для доказательства неправоты Льва Николаевича? Беда, однако, в том, что многие нынешние постановщики шекспировских пьес вынуждены подстраиваться под вкусы массового зрителя, а этому зрителю рефлектирующий интеллигент, увы, больше не нужен. А это означает, что очень скоро, боюсь, уйдут навсегда в историю не только донкихоты, но и гамлеты. Именно потому, что еще во времена Шекспира из европейской жизни (и, соответственно, из искусства) стала исчезать вера в абсолютные истины.
В 1940-х годах два очерка по поводу статьи Толстого о Шекспире написал Джордж Оруэлл. Сначала он подготовил для Би-би-си специальную программу, посвященную этой статье. Тогда он считал ее одним «из величайших в истории образцов моральной, неэстетической, точнее, антиэстетической критики». По мнению Оруэлла, несмотря на взрыв негодования, с которым она была встречена, «никто не сумел сколько-нибудь убедительно ответить Толстому». Оруэлл писал, что Толстой совершенно прав, утверждая, что Шекспир как мыслитель ничего не стоит, и те, кто говорит о нем как об одном из величайших философов в мире, «порют вздор». В свои драмы Шекспир намешал без разбору «всякой всячины». Сюжеты его пьес неправдоподобны, о логике характеров он не заботится, переиначивая чужие сюжеты на свой лад, «нередко привнося в них бессмыслицу и нелепицы». Словом, «то, что написал Толстой, в основе своей и по-своему правомерно, и его высказывания внесли полезную поправку в слепое преклонение перед Шекспиром». Правда, уже тогда Оруэлл считал: «В Шекспире есть что-то бесспорное, великое, неподвластное времени, то, что сумели оценить миллионы простых людей и не сумел оценить Толстой. Шекспир будет жить, несмотря на то, что он не оригинальный мыслитель и его пьесы неправдоподобны».
Это было написано в 1941 году, а шесть лет спустя Оруэлл почему-то вновь вернулся к этой же теме. И рассматривал ее уже совсем по-другому. Теперь он полагает, что спор Толстого с Шекспиром – «это спор между религиозным и гуманистическим отношением к жизни». Трагедии Шекспира, по Джорджу Оруэллу, «проникнуты гуманистической верой в то, что, несмотря на все несчастья, жизнь стоит прожить и что человек – это благородное животное». Толстой же предъявлял к искусству «неземные требования». Он стремился отречься от мирской жизни для того, чтобы стать счастливым. Счастья он так и не обрел, и конец его жизни заставляет вспомнить судьбу шекспировского короля Лира. Что же касается обычных людей, то им Царствие Небесное не очень-то нужно, куда важнее успех в земной жизни. «Большинство людей получают от жизни довольно много радостей, хотя, в сущности, жизнь – это страдание, и только самые юные и самые глупые воображают, что это не так, – пишет Оруэлл. – Люди продолжают работать, растить потомство и умирать, а не калечат то, что заложено в них природой, надеясь обрести где-то иную форму существования». Их право на такую жизнь защищает, по мнению Оруэлла, идеология гуманизма. Религиозное и гуманистическое мировоззрения непримиримы, считает он, хотя между ними порой и возникает «кажущееся согласие».
Думаю, что Джордж Оруэлл верно заметил, что спор Толстого с Шекспиром носит мировоззренческий характер. В этом споре отражается конфликт между религиозным и арелигиозным (даже антирелигиозным) сознанием. Но только вряд ли шекспировское мировоззрение можно однозначно считать гуманистическим. Напомню, что Лев Николаевич писал о том, что в миросозерцании Шекспира нет места не только религиозным, но и гуманитарным устремлениям.
Впрочем, представления Толстого и Оруэлла о гуманизме различны. Оруэлл, будучи человеком неверующим, упрощенно, на мой взгляд, если не сказать примитивно, толкует религиозное мировоззрение Толстого. С его точки зрения, «христианское мироощущение своекорыстно и гедонистично, поскольку цель у христиан одна: уйти от болезненной борьбы в земной жизни и обрести вечный покой в какой-то небесной нирване». Корыстен был, по мнению Оруэлла, и Лев Толстой, рассчитывающий получить на том свете компенсацию за праведную жизнь. Неслучайно, мол, он набросился в своей статье прежде всего на шекспировского «Короля Лира». Ведь трагическим финалом этой пьесы Шекспир, как считал Оруэлл, хотел выразить абсолютно неприемлемую для Толстого мысль: «Если хочешь, отдай свои земли, но не рассчитывай этим поступком достигнуть счастья. Скорее всего, ты его не достигнешь. Если живешь для других, так и живи для других, а не ищи себе выгоду окольным путем».
Упрека в своекорыстии Толстой, уверен, не заслуживал. Ни в какую «небесную нирвану» он не верил и писал, что «сущность перемены, совершающейся при телесной смерти, недоступна человеческому уму». И все же сознание Толстого в конце жизни, несомненно, было религиозным. Не только потому, что он верил в Бога. Важно, что Толстой совершенно иначе, чем Шекспир и, по-видимому, Оруэлл, смотрел на главную жизненную задачу человека. Лев Толстой, конечно, знал, что в каждом человеке есть животное и духовное начало, но он очень хотел, чтобы первого было поменьше, а второго – как можно больше. Толстой был убежден: человек обязан подчинить потребности тела потребностям души.
У шекспировского короля Лира есть высказывание о природе женщин:
Наполовину – как бы божьи твари,
Наполовину же – потемки, ад,
Кентавры, серный пламень преисподней,
Ожоги, немощь, пагуба, конец!
В более широком контексте эти слова, очевидно, касаются не одних только женщин, но всех людей обоего пола. В этом позиции Шекспира и Толстого совпадают. Различие состоит в другом, в том, что Шекспир воспринимал двойственную природу человека как данность, которую изменить нельзя. Он полагал: в любых обстоятельствах человек всегда обязан продолжать борьбу за жизнь, действуя так, чтобы можно было реализовать в конце концов все то, что заложено в нем природой. Согласно его логике, человек обязан проявить в земной жизни как свой духовный потенциал, так и свои животные инстинкты. Ясно, что Толстой с такой точкой зрения согласиться не мог и потому сердился на Шекспира. Оруэлл же с шекспировской оценкой был солидарен. В этом как раз и проявилось совершенно разное понимание двумя писателями смысла человеческого существования.
Что может служить критерием истины в этом споре? С точки зрения Оруэлла, ценность драм Шекспира доказана их долговечностью. «Всю силу своего осуждения он (Толстой – В. М.) направил против Шекспира, словно разом загрохотали все корабельные пушки, – писал Оруэлл. – А каков результат? Прошло уже сорок лет, но слава Шекспира по-прежнему непоколебима; от попытки же ее уничтожить остались лишь пожелтевшие страницы толстовского очерка, который вряд ли кто-нибудь читает и который бы совершенно забыли, если бы Толстой не был также автором “Войны и мира” и “Анны Карениной”». Да, Толстой был величайшим писателем, и поэтому к его голосу особенно внимательно прислушивались. Но он был еще и глубоким мыслителем и пользовался громадным авторитетом в народе. В 1902 году А. Суворин писал в своем дневнике: «Два царя у нас – Николай II и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой, несомненно, колеблет трон Николая и его династии». «Трон» Льва Толстого был непоколебим, потому что его нравственная позиция была понятна и близка простым русским людям и в то же время привлекала к себе внимание едва ли не всех выдающихся деятелей мировой культуры.
Думаю, самому Оруэллу не так-то просто было бы объяснить, почему он дважды в течение нескольких лет обращался к «совершенно забытой статье». Причем в первом своем очерке Оруэлл пишет о том, что все, написанное в статье Толстого, правомерно и полезно, а во втором называет статью «надуманной», противоречивой, имеющей целью отравить удовольствие от наслаждения творчеством Шекспира, долговременная популярность которого лучше всего доказывает его «невиновность». Возможно, изменение отношения Оруэлла к статье Толстого в 1947 году связано с тем, что в это время он уже написал «Скотный двор» и работал над романом «1984». Бывший троцкист как раз пересматривал свое отношение к всеобщим ценностям, и активная защита Львом Николаевичем универсальных идеалов в статье о Шекспире стала его раздражать. В те годы, когда только что был уничтожен нацизм, но еще жив был другой вид тоталитаризма – сталинский, не один только Оруэлл, но очень многие европейские интеллектуалы явно недооценивали опасность превалирования эгоистических интересов. Но такая опасность всегда существовала, и сегодня, к сожалению, она являет собой серьезную угрозу человечеству.
Правящая сейчас в мире либеральная система, с одной стороны, всячески поощряет индивидуализм, а с другой, вырабатывает действенные механизмы управления уровнем человеческих потребностей. Вполне способна эта система влиять и на общественные вкусы, в том числе и художественные, но направляет она их, увы, почти всегда в одну сторону – туда, где это помогает крупному бизнесу извлекать из вложенного капитала максимальную прибыль. Вряд ли в этих условиях популярность произведений искусства можно считать критерием их достоинства. Пьесы Шекспира наверняка еще какое-то время будут привлекать внимание зрителей, но и они, по-видимому, скоро утратят былую славу. Потому что сейчас всякое большое искусство активно вытесняется примитивнейшей шоуманией. Не исключено, что все это закончится гибелью культуры как таковой. Хотелось бы верить, что этого не случится.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































