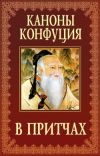Текст книги "Конфуций"

Автор книги: Владимир Малявин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
«Учиться и во всякое время претворять это – разве не радостно? Увидеться с другом, приехавшим издалека, – разве не удовольствие? Люди его не знают, а он не печалится – ну не благородный ли муж?»
Эти высказывания Конфуция принимаешь не просто умом, а всем сердцем. Они кажутся родными и понятными. С ними соглашаешься с какой-то радостной легкостью, словно они и вправду открывают давно известную, самую важную, но только забытую в сутолоке дней правду жизни.
Вчитаемся непредвзято в это собрание осколков очарованной памяти, и перед нами возникнет не образ изощренного ума, раскладывающего свой секретный пасьянс из готовых фраз, но образы скромных учеников, движимых простодушным, даже слегка наивным и по-своему возвышенным стремлением сберечь до последних подробностей драгоценный образ Учителя; стремлением, предполагающим возможность добавлять в копилку предания все новые и новые свидетельства. Этим ученикам дороги каждое слово и каждый поступок наставника, для них в его жизни нет ничего незначительного – и это счастливо спасает их от мнимой многозначительности. Они не стремятся изобразить любимого Учителя непременно героем или святым, не скрывают, что при жизни он не был избалован почестями и что многие считали его простаком и неудачником. Они создали самый ранний в истории человечества портрет человека. Портрет настолько неприукрашенный, что кажется иногда даже не портретом, а как бы словесным слепком своего прототипа, явленным, подобно настоящему отпечатку тела на бумаге, в хаотической россыпи пятен, штрихов, нюансов тона. Как всякий след, этот слепок не имеет внешнего сходства с телом, его оставившим, и все же он глубоко интимен ему по самому качеству своего присутствия. Перед нами возникает образ человека, как бы разрастающегося в людях и поколениях. Этого человека мало понимать. С ним нужно жизнь прожить – долгую, углубленную жизнь.
Слова «Бесед…» могут быть обманчивы, здесь есть даже явные ошибки, но искренность тех, кто подхватил и записал их, не может нас обмануть. Эта искренность – искренность чувства прежде всего – заявляет о себе в самом факте извечного присутствия прерывности, паузы, недосказанности в тексте главного памятника конфуцианской литературы. Мозаичность как главный принцип композиции в «Луньюе» свидетельствует все о том же обостренном внимании к вещественной данности жизни, которая так убедительно заявляет о себе в мемориале Конфуция на его родине. И она же делает «Луньюй» памятником традиции. Ведь паузу, безмолвие нельзя сделать личным достоянием; они не принадлежат никому, но доступны всем. И бесконечно тянутся во времени. Отнюдь не случайно «Беседы…» – плод коллективного творчества, создававшийся многими десятилетиями. Здесь видится не только естественное желание Конфуциевых учеников как можно правдивее передать слова и поступки Учителя, но и потребность – быть может, вполне сознательная – сделать наследие Учителя Куна вестью сверхличной жизни, пробуждающей в каждом вкус к сотворчеству, допускающей беспредельное разрастание хранимого традицией смысла. Говоря музыкальным языком, в наследии Конфуция нет темы, а есть только вариации. Пауза же, творящая ритм, как раз и воспитывает наш духовный слух, открытость нашего сознания музыке бытия во всем ее неисчерпаемом разнообразии.
Традиция живет и развивается по закону экономии выражения: чем меньше скажешь, тем больше выскажешь. Ее явленные формы существуют лишь для того, чтобы обозначать необозримо-безбрежное, неизбывное и нерукотворное, каковой только и может быть жизнь подлинная. Говорить, по Конфуцию, нужно ровно столько, чтобы «выразить смысл». В осмысленной речи сказанное уравновешивается неизреченным. Традиция в действительности не имеет основоположников. Она имеет только поручителей. Поручителей несбывающихся, немыслимых, баснословных обещаний.
Если мы признаем присутствие в «Беседах…» некоего затаенно эмоционального, к интуиции обращенного подтекста или фона – тех почти бессознательных эмоций и порывов, которыми питается очарованная душа, – если доверимся этому подтексту, нам не составит труда объяснить, например, почему авторы книги при всем их благоговейном внимании к Учителю Куну, при всей близости к нему остались совершенно равнодушны и к хронологии, и даже ко многим ключевым датам его жизни. Дело в том, что их в жизни Конфуция интересовали не факты, а события, а если еще точнее – события-свершения, обладающие неотразимой силой нравственного воздействия, могущие лечь кирпичиками в здание традиции. Из фактов складывается биография, из свершений получается житие, серия отдельных «случаев», исполненных какого-то таинственного смысла.
Словесная лава «Бесед и суждений» с ее краткими, часто маловразумительными сентенциями, обрывками разговоров, записями разных житейских казусов и проч. исторически и в самом деле отливалась в две литературные формы: афоризм и анекдот. И то и другое указывает внутренние пределы развития конфуцианской словесности. Оба являют собой простейший словесный образ события, а значит – и столкновения, событийности жизненных миров: в них разыгрывается жизнь духа, ищущего опоры в вещах лишь для того, чтобы оттолкнуться от них. В рассказах о Конфуции есть нечто, что нужно понимать прежде слов. И… после всех слов. Ибо жизнь, втиснутая в афоризм или анекдот, ломает указанные ей границы, рвется за пределы сказанного, несет в себе нечто другое. Эту жизнь нужно домысливать, доживать (хотя вовсе не обязательно проживать вновь).
Итак, афоризм, как напоминает исходное значение этого греческого слова (оно связано с понятием «проведения границы»), ничего не описывает и даже не называет, а выявляет сами пределы понятого и понятного и, следовательно, условие всякого смысла, со-мыслия в человеческой деятельности. Афоризм есть слово, само себя ограничивающее и потому способное указывать на сокрытые глубины смысла. Оно – само в себе, будучи вне себя. Поэтому китайский мудрец способен «все сказать, прежде чем откроет рот», и все его слова «исходят из пустоты» – того внутреннего разрыва в речи, в котором таинственно зарождается всякий смысл. Вот почему он начинает свою книгу с «заглавной фразы» (хуаmay), в которой уже содержится весь смысл его учения. Такой статус приписывали в Китае и первой фразе «Бесед и суждений» (о ней речь ниже) и первой, самой глубокомысленной фразе книги Лао-цзы «Дао-дэ цзин», которая гласит: «Путь, которым можно идти, не есть вечносущий Путь» (вариант: «Истина, которую можно счесть таковой, не есть вечносущая истина»).
Немецкий ученый XVIII века Гаман однажды заметил, что истина, или Логос, в языке открывается человеческому разуму как бездна, непостижимая тайна. В Китае афористическая словесность или подлинно осмысленная речь, как вместилище «великой пустоты», и есть вестница этой бездны смысла в языке. Бездна не имеет образа. И русский язык наглядно подтверждает, что истина-Логос не может не иметь своим внешним выражением ложь, – в тютчевском смысле: «Мысль изреченная есть ложь». Афоризм есть некая первородная словесность в том смысле, что он предстает литературным аналогом запечатленной в культуре многих древних народов таинственной нераздельности святости и брани. И эта внутренняя сопряженность истины и лжи подсказывает неизбежность превращения афоризма в анекдот. Последний есть предел развития первого, ведь в анекдоте внутренний разрыв в смысле выводится наружу, становится самим «предметом» сообщения. Иначе говоря, афоризм разлагается в анекдот, событие – в случай. И там и здесь сопряжение неизреченного и сказанного, глубины и поверхности становится все более очевидным и контрастным, все менее объяснимым, и то, что воспринималось вначале как тень бездны, отблеск внутреннего света жизни, в конце концов обращается в карикатуру, подчеркивающую разрыв между сущностью и явлением.
В набросанной здесь эволюции «осмысленного слова» уже содержится весь путь развития образа Конфуция в реальной истории. Путь, предопределивший то обстоятельство, что свидетельства об Учителе Куне в Китае так и не вышли за рамки нравоучительного, а часто – и причем гораздо чаще, чем принято думать, – также комического анекдота. В «Беседах…» анекдот выступает еще в своем исконном обличье внезапного происшествия, единичного житейского «случая». Следующая ступень его эволюции отчасти отобразилась уже в тех же «Беседах…», но полнее всего представлена в книге «Семейные предания об Учителе Куне», окончательно сложившейся спустя шесть веков после смерти Конфуция. В «Семейных преданиях» мы находим богатое собрание все тех же анекдотов, но уже подвергшихся литературной обработке, нередко выросших в короткие рассказы и расставленных по тематическим рубрикам. Одновременно набирает силу традиция комментирования слов Конфуция, по существу своему – описательная, придающая буквальному смыслу наставлений Учителя самостоятельное значение. Со временем получили распространение картинки, иллюстрирующие отдельные эпизоды из жизни Конфуция и сопровождающиеся словесным пояснением: таковы уже известные нам рисунки из храма Конфуция. Появление рассказов в картинках вовсе не случайно, ведь мысль и слово Конфуция всегда слиты с обстоятельствами; они, так сказать, мудро «обставлены» вещами и гораздо прочнее связаны с предметностью быта, нежели с миром отвлеченных идей. Впоследствии эти иллюстрации стали располагать в хронологическом порядке. А в позднее Средневековье появились похожие серии гравюр, которые заметно усилили элемент гротеска в изображении Конфуциевой жизни и отчасти сделали Конфуция персонажем «низовой», народной культуры в противоположность официальным образцам конфуцианской книжности.
Подчеркнем еще раз, что афоризм и анекдот иносказательны по своей природе, но в лучших своих образцах снимают противопоставление буквального и переносного смыслов. Поистине нет более неблагодарного занятия, чем разъяснять, почему нас смешит удачная шутка. И афоризм, и анекдот как бы выводят смысл за пределы наличного значения и оказываются, так сказать, украшением собственного смысла. Им врождено эстетическое качество, и вся история конфуцианской словесности есть не что иное, как все более утонченное раскрытие их эстетизма. В сущности, традиция означает оберегание этого интимно внятного, но неназываемого смысла, этой неизъяснимой преемственности осмысленной жизни.
Теперь мы можем со всей определенностью обозначить главную проблему литературной биографии Конфуция. Каждый пишущий об Учителе Куне стоит перед трудным выбором: либо изобразить жизнь Конфуция чередой анекдотов, орнаментирующих и, в качестве украшения, скрывающих истинный ее смысл, либо устанавливать факты жизни Конфуция как исторической личности, причем такие факты имеют свой идейный прообраз: определенную систему мысли, принадлежащую индивидуальному мыслителю. Конечно, одно не исключает другое. Но если мы хотим понять, каким образом человек по имени Кун Цю превратился в Учителя десяти тысяч поколений, мы должны признать, что литературная история жизни Конфуция выявляется на пересечении жанров биографии и жития. Назовем эту точку условно жизнеописанием. Образу Конфуция, вырисовывающемуся в таком скрещении как будто несовместимых повествований будут свойственны особая зыбкость и даже драматизм, который порожден столкновением двух разнонаправленных литературных тенденций. Одна из них – это тенденция к максимальному смысловому насыщению слова, и она представлена в импульсе стилизации, выделки символических типов. Другая тенденция представлена стремлением к расширению, все более подробному описанию явлений жизни, одним словом – к инфляции смысла и завершается, соответственно, утратой качественной определенности бытия. Ее логический исход удачно обозначил П. Валери, когда назвал современную цивилизацию миром «бесконечно богатого ничто».
Итак, жизнь Учителя Куна как родоначальника традиции – это не история отдельной личности с ее внутренне единым мировоззрением, а образ творческой метаморфозы жизни, свидетельство событийности миров. Она знаменует возобновление непреходящего и выражает себя не в логике суждения или рассказа, а в простой соположенности отдельных событий. Она предстает, совсем как традиционные китайские глоссы, цепью метафор, нанизываемых на одну невидимую нить или, если воспользоваться любимым образом Ж. Делёза, бесконечно ветвящимся корневищем. Интересно, что предание приписывает Конфуцию высказывания о том, что в основе культурного творчества человечества лежит восприятие неких непостижимо сложных «узоров Неба и Земли», которые породили графические символы древнейшего китайского канона – «Книги Перемен», а от этих символов произошли знаки письма. Таким образом, язык, по китайским представлениям, отсылает не к логическому порядку понятий, а к зыбким, расплывчатым «образам», которые в конце концов растворяются в бесконечно-утонченном «узоре» мироздания. Движение к истокам смысла в китайской картине мира требует не столько работы умозрения, сколько усилия воображения. Все это означает, помимо прочего, что по-настоящему понять Конфуция можно только в отдаленной исторической перспективе, в качестве Учителя всех поколений, ибо подлинная цена простых слов и поступков Учителя Куна есть сама вечность.
Принятая идея жизнеописания напоминает, что любое новшество осознается нами лишь на фоне чего-то непреходящего, навеки хранимого в памяти. Новизна формирует память, а память делает возможной опознание новизны. В таком случае так ли уж наивны неизвестные авторы «Бесед…», предоставляющие полную свободу игре случая и потоке жизни? Не свидетельствует ли сама необычайная жизненность их книги о том, что они остались верны, пусть интуитивно, глубочайшим законам жизни самого сознания, в котором память и воображение друг друга определяют и поддерживают. Оттого же «наивность» авторов «Бесед…», как легко было бы показать, не теряет своего значения и для зрелого, даже изощренного художественного творчества (вспомним хотя бы технику монтажа в современном искусстве). Выходит, первичная и самая непосредственная данность человеческого сознания не отличается от глубочайшей его умудренности; первозданный «сон жизни» не отрицается даже высшей просветленностью духа.
Достичь ускользающего единения темных глубин памяти и кристальной ясности сознания, вечного и вечно нового может лишь тот, кто сумеет «измениться сам», вместить в себя творческое изобилие жизни, возвыситься, умалив свое мелкое, частное «я». Пожалуй, самая примечательная черта Учителя десяти тысяч поколений – нежелание говорить в ущерб другим голосам, а точнее – отделять свой голос от «небесного хора» творческой жизни:
Учитель сказал: «Я не хочу больше говорить…» Тогда спросили его: «Но если вы, Учитель, не будете говорить, какие же наставления передадим мы грядущим поколениям?»
«Но разве Небо говорит? – ответствовал Учитель. – А ведь времена года исправно сменяют друг друга, и все живое растет. Разве Небо говорит что-нибудь?..»
Нет, Конфуций не играл в таинственность. Но тайна неотступно следовала за ним, потому что он был одним из тех «трудномыслимых» мыслителей, которыми движет потребность не высказаться, а указать границы высказанного, не понять, а уразуметь самое усилие понимания, помыслить немыслимое в мысли. Молчание Конфуция – свидетельство высшей гармонии бытия. Отказавшись записать свое учение, Конфуций, несомненно, высказал нежелание ущемлять свободу случая, выстраивать раз и навсегда установленный порядок вещей. Высказывания Конфуция – это всегда отклик на обстоятельства его жизни, будь то внешние события или внутренний опыт; отклик единственный и неповторимый. Иными словами, Конфуций мыслит и действует сообразно «времени года», он уподобляется «небесному» движению мироздания. Для него всякое деяние уникально, и каждый момент самосознания – дверь в вечность. Всегда конкретное, бесконечно изменчивое слово Конфуция есть воистину его жизнь. Это память и мечты, чувства и понимание, обретаемые в жизненном произрастании человека.
Что же за человек был Конфуций? Правда в том, что он мог быть каким угодно! Пестрый набор штрихов и нюансов, составляющих как литературный, так и музейный образ Учителя Куна, делает зыбкими и призрачными всякие извне налагаемые границы личности, зияет бездной всечеловека. И этот образ не мог не передаться всей китайской традиции. Каждый, кому доводилось видеть, например, игру актеров китайского театра, сплошь состоящую из декоративно-стилизованных жестов, или созерцать старинный китайский пейзаж с его устойчивым репертуаром все тех же стильных образов, без труда узнает в подобной манере освещения жизни Конфуция самобытнейшую черту китайской культуры. Все, что нам известно о жизни Конфуция, словно преподносится с театральной сцены, окутано флером эпической возвышенности. Но все-таки это только «жизнь как она есть», во всей ее непритязательной, даже не предназначавшейся для созерцания будничности. Мы любуемся этими житейскими мелочами, как будто разглядываем в бинокль неразличимые невооруженным глазом детали пейзажа или, если воспользоваться примером из художественной традиции Китая, созерцаем карликовый сад, в котором с игрушечной, но бесподобной по мастерству исполнения точностью воспроизведено богатство природного мира. Мы созерцаем реальность или фантастику? И то и другое сразу. И подобно тому, как миниатюрный сад, созданный китайским мастером, чудесным образом разрушает барьеры между фантазией и естеством, игрой и действительностью, свидетельствования о Конфуции озаряют блеском легенды саму прозу жизни, делают невозможным и ненужным противопоставление воображаемого и действительного. Здесь не просто все мыслимое реально, как мог бы утверждать европейский философ-идеалист. Тут скорее реально именно немыслимое. Даже немыслимо простое!
В усадьбе рода Кунов хранится старинный портрет Конфуция и двух его ближайших учеников, края и складки одежды которых выписаны крохотными иероглифами текста «Бесед и суждений». Трудно придумать более наглядную иллюстрацию существа Конфуциева слова: скромного и практичного, как предметы домашнего обихода, сказанного всегда «к случаю», предназначенного быть усвоенным «всем существом» – и притом слова-орнамента, прикрывающего, как всякое украшение, символическое тело традиции…
Мы не можем «читать Конфуция» – мы можем только читать о Конфуции и благодаря Конфуцию. Ученики излагают заветы Учителя. Но и сам Учитель лишь сообщает об истине, высказываясь по тому или иному поводу. Это погружение в бесплотную твердь парящих облаков, это движение от одного зеркала к другому в поисках источника света, блуждание в лабиринте в поисках выхода-входа не имеет конца в пространстве традиционной культуры. Скажем сразу: мудрецы Китая, призывая своих послушников «возвращаться к истоку», требовали от них доверяться и самому лабиринту. На самом деле, говоря языком китайской традиции, «исток вещей» и есть движение в «небесном круговороте» мирового времени. Правда одухотворенной жизни – это не идея, не вещь, не кумир, а лишь выверенное, ориентированное движение. Правда китайских мудрецов – это Путь (дао) всего сущего. Путь всех путей.
Такой дается нам жизнь Конфуция: хаотическая мозаика фрагментов, череда ускользающих реминисценций, узор мерцающих отблесков незримого лика. «Блики на воде, эхо в ущелье»: мир до реальности фантастичный и фантастически реальный. Стоит нам попытаться собрать из этого калейдоскопа жизни некий целостный образ, воссоздать реальную личность с ее неповторимо индивидуальным характером, с присущим только ей чувствованием мира, с ее стремлением очертить свое пространство, как мы рискуем провалиться в пустоту как раз там, где привыкли находить плотное ядро человеческой души.
Да, учение Конфуция есть воистину только его жизнь, но это жизнь, не вмещающаяся в биографию, в «описание жизни». Словно музыкальный аккорд, эта жизнь навевает память о незапамятном и наполняет сознание ликующей радостью неисповедимых перемен…
Действительный прообраз жизни Конфуция, какой она отложилась в традиции, нужно искать все же не в субъективном, внутренне однородном «я», а в мире телесной интуиции. Ведь именно телесный опыт раскрывается нам как бесконечное разнообразие, изобилие жизни; именно тело является средой нашей сообщительности, событийности с миром и только им определяется качество и глубина переживания. Наконец, тело – это всегда оболочка, покров, укрытие и, следовательно, природное, еще совершенно безыскусное украшение.
Все эти свойства как раз и отличали подлинное слово традиции, которое было словом-плотью – знаком жизненных метаморфоз и единственности каждого мгновения жизни. Это слово обозначало не предметы, не сущности как таковые, а саму предельность опыта, стихию творческого поновления. В конечном счете оно соскальзывало в нюанс, рассеивалось в необозримо сложной паутине мировых соответствий между вещами, являя в этом качестве ускользающе-смутное «настроение», «атмосферу» той или иной жизненной ситуации.
«Седая луна над высокой башней, струится потоком прозрачный свет… Дремлешь, возложив на колени цитру, душистый аромат наполняет складки халата…» Вся эта цепочка образов (приведенная здесь только частично) призвана символизировать, по мысли китайского поэта, «целомудренно чистую» жизнь.
Образы поминаются как бы вскользь, между прочим: давно накрепко заученные и навсегда осевшие в памяти, они выговариваются словно в полузабытьи, почти непроизвольно и, мгновенно сжимаясь до нюанса, тонут в легкой дымке грез, растворяются в летучем и всеобъятном Чувстве. И вот то, что кажется на первый взгляд смелой метафорой, в конце концов преломляется в среду, то есть всеобщую усредненность, ускользающий от взора фон. Зыбкая атмосфера такой словесности, сотканная из мимолетных образов и трепетных звуков, не улавливается умом, замкнувшимся на видимости и не умеющим смотреть в глубину. Она являет мир бесконечно малых метаморфоз, каждая из которых равнозначна превращению всего мира.
Порой сознание невольно подмечает парадоксальный смысл сведения всего богатства бытия к нюансу, и тогда перед нами возникнет шутливая пародия на поэтически возвышенную игру ассоциаций:
Что доставляет удовольствие:
в жаркий день острым ножом разрезать
спелую дыню на красном блюде…
Приведенные цитаты взяты из китайской словесности позднего периода. Они показывают итоги развития той литературной традиции, начало которой было положено «Беседами и суждениями». И нельзя не подчеркнуть, что заложенное в этой традиции внимание к бесконечной глубине каждого мгновенного впечатления формировало особую двухперспективность видения мира, способность воспринимать мир одновременно в двух разных масштабах, в двух разных и даже противоположных перспективах созерцания. Вот и в классической живописи Китая пейзажи имеют как бы два зрительных плана: с одной стороны – заботливо выписанные эпизоды, предстающие законченными миниатюрами, с другой – уходящие в бесконечность дали, которые требуют всеобъятного, как бы охватывающего целый мир видения. Пейзажные сады Китая – еще более наглядное выражение этой извечной потребности китайцев «постигать великое в малом». Китайская классическая поэзия добивалась сходного эффекта, оперируя естественными, почерпнутыми из повседневного опыта образами, но внушая чувство всеобщего и всевременного в человеческой жизни. Их наглядность – сродни наглядности картины на китайской ширме, где на плоскости, служащей экраном и призванной ограничивать наше видение, прозреваются бескрайние дали мироздания.
Мифологичность Конфуциева наследия как раз и заключается в этой особой двойственности восприятия, в присутствии незримого второго плана, внутреннего подтекста, какого-то ускользающего иного видения в картинах Конфуциевой жизни, где взгляд «в упор» внушает созерцание с бесконечно большого расстояния, а целостное постижение бытия побуждает искать выразительные нюансы. Так жизнь Конфуция обретает свойство казаться одновременно необыкновенной и обыденной, производить впечатление и не иметь в себе ничего примечательного.
«Слова мудрецов просты», – гласит древнее китайское изречение. Слова мудрого Куна просты потому, что они возвращают нас к стихии естественной речи, к извечной потребности человека выразиться в творчестве, прозвучать в многоголосом хоре жизни, как призывно и гордо звучит колокол. Эта простота не имеет ничего общего с банальностью и скукой. Она захватывает и увлекает, ибо рождена чутким откликом на происходящие в мире события. Говорить «вообще», рассуждать без насущной необходимости казалось Конфуцию противоестественным. И это было для него не вынужденным воздержанием, а сознательной позицией: чем лаконичнее речь, тем красноречивее безмолвие. Слово Конфуция, изумляя своим внезапным появлением и открывая перед нами новые миры, мгновенно блекнет и тает, чтобы переплавиться в творческую мощь самой жизни, обрести неотразимую силу воздействия. Неудивительно, что Учителя Куна всегда ценили не столько за то, что он сказал, сколько за то, что он умел безмолвствовать. Конфуций, заметил один ученый муж древнего Китая, «говорил о близком и очевидном, но в себе воплотил далекое и глубокое». Не принимая точки зрения, выраженной в этих словах, нельзя понять, почему слова Конфуция, ничем вроде бы не примечательные, были восприняты китайцами как высшее откровение.
Правда Конфуция, сделавшая его патриархом всей китайской традиции, – это всегда отсутствующее вечнопреемство одухотворенной жизни, небесное безмолвие, вмещающее всю многоголосицу земли. Этот поэтический тезис было бы, наверное, очень трудно разъяснить, если бы сам Конфуций не обронил несколько многозначительных признаний, позволяющих судить даже о том, о чем он умалчивал (да и не мог сказать, даже если бы хотел). Приведем здесь только одно из них – едва ли не единственное, в котором Конфуций оценивает всю свою жизнь. Вот жизненный путь Учителя Куна в его собственном изложении:
В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к учению.
В тридцать лет я имел прочную опору.
В сорок лет у меня не осталось сомнений.
В пятьдесят лет я знал веленье Небес.
В шестьдесят лет я настроил свой слух.
А теперь в свои семьдесят лет я следую влечению сердца, не преступая правил…
Сдержанные, но какие взвешенные и оттого поразительно весомые слова! Слова, вместившие в себя тяжесть человеческой судьбы и потому не нуждающиеся в риторических красотах. Исповедь, высказанная с аккуратностью медицинского заключения, но обозначающая вехи сокровенного пути человеческого сердца. Пожалуй, более всего удивляет в ней то, что духовное совершенствование Конфуция сливается здесь с ритмом биологических часов его жизни, что моменты внутренних прозрений отмерены общепризнанными рубежами общественного мужания человека. По Конфуцию, человек умнеет, как идет в рост семя – неостановимо, непроизвольно и нескончаемо: нет предела совершенству. Это органическое произрастание духа не знает ни драматических поворотов судьбы, ни каких-либо «переломных моментов». Не знает оно ни раскаянья, ни даже сожаленья. Но оно, конечно, не приходит само по себе, а требует немалого мужества, ибо предполагает способность постичь свою границу, ограничить себя, прозреть неизбывное в «прахе мира сего». Конфуциево «я» живет с меняющимися представлениями о самом себе, его жизнь есть именно путь, и всякий временный итог этого пути ничего не перечеркнет из пройденного. Это изменчивое, подлинно живое «я» не есть некая вневременная данность; оно есть то, чего оно хочет. Но в своем вольном пути оно повинуется ориентирующей и направляющей силе – способности судить самого себя, преодолевать свои собственные пределы. Этот путь есть подвижничество свободы. Учение Конфуция и есть не что иное, как жизнь – чистая и светлая радость пере-живания.
Отсутствие кризисов жизненного роста, которые, как уверяют психологи, неизбежно сопутствуют процессу мужания человека, составляют столь же великую загадку, как и неизбежность таких кризисов. Мы касаемся здесь одного из самых важных различий между цивилизациями Европы и Китая. Нежелание иметь твердое ядро своего «я», невозможность открыто отстаивать свои личные интересы, свойственные китайскому пониманию личности, вполне вероятно, покажутся европейцу чем-то ненормальным и даже противоестественным. Впрочем, столь же ненормальным покажется китайцу присущее западной традиции стремление четко определить границы и содержание своего «я» – стремление, очевидно, произвольное и догматическое. Остается признать, что жизненный путь Конфуция – это даже не столько произрастание, сколько именно разрастание сознания, которое в конце концов приходит к безмятежности и покою всеобъятного Океана мировой жизни. Впрочем, как ни покоен океан в своих глубинах, он всегда обращен к нам нестихающей зыбью поверхностных вод. Так и в житии великого мудреца нам видны лишь пена дней, треволнения повседневности…
Мудрость Конфуция – это смыкание духа и тела в жизни осознанной и сознательно прожитой. Тяжесть бренного тела – лучшее укрытие для невесомого духа. Плоть и кровь жизни, материальная бытность быта веют непроницаемой глубиной сознания. Китайский мудрец находит безмятежную радость в переживании опыта, который невыразим и не требует выражения, и в этом, пожалуй, заключается главное его отличие от европейского философа, толкующего об истинах всем доступных и всем понятных. Но если каждое слово Конфуция воистину символично и указывает на нечто отсутствующее в понятном и видимом – на сокровенное «тело жизни», то справедливо и обратное утверждение: внутренняя, интимная реальность, о которой сообщает (а точнее было бы сказать, именно не сообщает) нам жизнь китайского мудреца, не может не изливаться в чисто внешние образы, в декорум бытия, и всеобъятное «тело жизни» не может не быть выставленным напоказ, предельно обнаженным. Такова подоплека потребности Конфуция преобразить жизнь в узор стилизованных жестов. Здесь нет никакого эстетства и актерства. Напротив, перед нами искреннее свидетельствование о реальности, не нуждающейся в выражении, и лишь потому, что она вся «на виду»; реальности, которая несводима ни к идеям, ни к представлениям, ни к фактам, а только передается «от сердца к сердцу» в громовом безмолвии мимического языка тела.
Постигать сокровенную правду Конфуция как Учителя, то есть того, кто сообщает о вечнопреемственном в потоке жизни (и приобщает к нему), нам предстоит, сопоставляя две очень разные перспективы созерцания: одна из них направляет наш взор от внешнего к внутреннему, от зримого образа к внутренне убедительному переживанию правды вещей, ставит пределы отвлеченному знанию, заставляет пережить ограниченность всего понятого и понятного, а другая, наоборот, выводит сокровенное на поверхность, представляет внутреннее как внешнее, творит «миф о Конфуции», предоставляет простор повествованию и размышлению. Вряд ли можно по-иному отнестись к наследию Учителя Куна, в котором обыденнейшие детали быта дышат эпической торжественностью мифа, а священные предания старины вынесены на суд здравого смысла, и где божественное выворачивается к нам своей человеческой изнанкой.