Текст книги "Направление – Берлин"
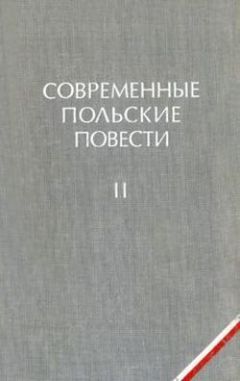
Автор книги: Войцех Жукровский
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Войцех Жукровский
Направление – Берлин
Солдатам не хотелось удаляться от дороги. Утомленные долгим маршем, они валились в мягкую весеннюю траву, сбрасывали с плеч трофейные ранцы, на которые охотно обменивали свои вещмешки, и, отпустив ремни, расстегнув воротники, тяжело дышали. Рука, привыкшая к оружию, безотчетно гладила зеленый покров фруктового сада; яблони уже отцвели, и увядшие лепестки белели в траве, мешаясь с перьями из вспоротых перин немецких бауэров.
Когда со стороны леса налетал ветер, пахло так, будто мир уже наступил. Капрал Войцех Наруг снял конфедератку, которая изнутри засалилась и блестела, подложил руки под голову и прикрыл глаза, как кот, греющийся на солнце. Его небритые щеки отливали чернотой. Лицо задубело от мартовских ветров и переменчивой погоды. С закрытыми глазами, нахмурившись, он подавлял в себе бессильную злобу: так и не удалось вовремя подоспеть деревне на помощь. Но их партизанский отряд был окружен, и сил на то, чтобы вырваться, у них не хватало. Это все равно, что пытаться пробить головой стену. Надо было отходить, нащупывать бреши в кольце окружения. Немцы, как бы предчувствуя наступление, с первым же снегом, который выдавал следы перемещения отрядов, решили очистить свои тылы. А фронт проходил уже у самой Вислы, по вечерам слышались отзвуки артиллерийской канонады, казалось, будто дровосек наотмашь бил обухом по клину, чтобы расколоть твердый комель выкорчеванного из земли корня.
Капрал пожевал длинную травинку, наслаждаясь едва заметным ароматом, в котором чувствовалось и пробуждение жизни, и свежесть впитанного дождя, что рано утром обмыл небо. А солнце мягко, словно рука матери, касалось его лица, и от острой грусти у капрала даже повлажнели глаза.
Они петляли, ускользая от немцев. Это не были пузатые полицейские или толпа согнанных партайгеноссен, с повязками на коричневых рубашках, которые сначала вслепую стреляли по лесу, а потом отправлялись охотиться на кур и свиней в деревню – как обычно, на легальный грабеж, именуемый контрибуцией. И хорошо еще, если дело ограничивалось побоями. Часто разъяренные каратели прикладами сгоняли всех, кто подвернется под руку, в овин, заставляя обреченных самих копать себе яму. И мужики, сбросив рубахи, поплевывали на ладони и брались за лопаты. Возможно, они находили утешение в том, что готовили себе вечное успокоение в родной земле, которая их вскормила.
Обложив партизанский отряд, преграждая партизанам доступ к продовольствию и теплым печкам, возле которых можно было погреть мокрые спины, в деревнях засели регулярные немецкие части, обстрелянные «солдаты-фронтовики. С трудом удавалось выкуривать их из замаскированных дзотов. В белых маскхалатах гитлеровцы на лыжах патрулировали вдоль лесных опушек, а подчас, незаметные для глаз, подобно браконьерам, устраивали засады. Едва партизанские взводы сталкивались с ними, как они вызывали танки, парами налетали «мессеры» и басом присоединялась артиллерия. Приходилось отступать. Слышалось тяжелое дыхание, топот бегущих. И долго еще партизаны слышали, как позади снаряды кромсали кроны сосен, а громовые раскаты разносились по лесу.
Когда, описав круг после недели петляния, засад, задерживающих преследование, внезапных налетов на Шоссе, чтобы сбить с толку немцев, отряд Крука снова оказался возле Нецедеёнжи, родной деревушки Наруга, он, несмотря на усталость, отлучился, чтобы узнать, как семья перенесла облаву. Но деревни не существовало. В садах – тронутые огнем деревья уцелели – торчали, подобно воздетым кверху кулакам, печные трубы, увенчанные белыми шапками снега. Холодный саван накрыл гигантскую братскую могилу. Сдерживая рыдания, Наруг прислонился к яблоне, поднял лицо к небу. Неслышно падали крупные снежные хлопья, оседали на щеках и, тая, мешались с его немужскими слезами. И вдруг он почуял, что из-под снега тянет гарью, смрадом обуглившегося тряпья, человеческих тел, птичьего пера – знакомым запахом войны.
Сгорбившись, Наруг побрел в отряд. Там его уже ждали, боялись измены, слишком большие потери понесли от неожиданных встреч с врагом. Тупо понурившись, слушал он, как поручик распекает его… Тогда Наруга впервые разжаловали за самовольную отлучку из расположения отряда. Это было ему безразлично. Вскоре у мальчишки из соседней деревни он узнал, что немцы уничтожили всю его семью, «всю целиком», – это никак не умещалось у него в голове. И сестру Ганку, и двенадцатилетнего брата Сташека… Что-то в нем сжалось, застыло, как лава. Он жаждал одного – взять немцев за горло, расквитаться за все. Он не лез на рожон. Был осторожен, и ему везло. Почти с облегчением поручик представил его к очередному званию. После январского наступления, когда войска маршала Конева с ходу заняли Ченстохову, а потом кружным маневром стали отрезать Силезию, ему представился выбор: пойти в милицию или в армию и на фронт. Не хотелось оставаться в родных краях, выслушивать все новые подробности от «очевидцев», как Нецемёнж усмиряли эсэсовцы, или стрелять в своих (таких же, как и он, ребят), которые не разбирались в политике, а пошли туда, где им совали оружие. Чем они виноваты, что выбрали неудачно… Он двинулся с пополнением на Злотув, а потом осаждал Колобжег. Впервые в жизни увидел море. С недоверием омыл закопченное лицо, зачерпнул ладонью воды и отхлебнул, с облегчением отметив, что она соленая, значит, ему не соврали. У нее был вкус слизанной языком слезы. Когда же знамя, напоенное водами Балтики, отяжелело, а над берегом зазвучала вырвавшаяся из тысячи охрипших глоток песня, он с глубоким волнением осознал, что Польша и впрямь «не сгинела». И он один из тех, кто возвращает ее к жизни.
Хотя их порядком потрепали, командование не давало им передышки. Последовал неожиданный приказ, что их полк перебрасывается на Одру, так как русские понесли большие потери. Правда, танков у них достаточно, а пехоты маловато. Наши должны поддержать, чтобы не прервалось наступление, бить швабов по башке, не давая им ни единого дня на то, чтобы опомниться, добить зверя в его логове.
И вот уже третий день они на марше, соблюдая величайшую осторожность и строжайшую тайну. Идут главным образом ночью, чтобы авиация их не выследила. Но самолеты с черным крестом появлялись все реже. Видимо, они патрулировали над Одрой, через которую, захватив плацдарм, прорвались уже советские полки. Долго продержаться они не могли, теснимые офицерскими частями, атакуемые добровольческими отрядами, фанатичной молодежью, слепо преданной фюреру. Следовало во что бы то ни стало облегчить положение плацдарма за Одрой. Проще всего было нанести удар еще в двух местах, отвлечь внимание врага, создавая для него новую угрозу. Чтобы повести наступление на Берлин, русским требовалось взломать немецкую оборону на широком фронте. Не случайно Гитлер называл в листовках разлившуюся после весеннего паводка Одру «рекой жизни», он верил, что, если на ее берегу остановит русские и польские части, возможно, еще не все будет потеряно; если же придется капитулировать, то лучше сдаваться американцам, англичанам и французам – только не большевикам. Если он не верил в Wunderwaffe,[1]1
Чудесное оружие (нем.).
[Закрыть] то надеялся на чудо. Что-то должно измениться. Он верил в свою звезду. Кто-то из его противников должен умереть, возникнут какие-то возможности для переговоров… Запад не может допустить, чтобы русские дошли до самого сердца Германии, предрешив исход победы.
И война продолжалась с яростным упорством.
Капрал Войцех Наруг лежал в саду, чувствуя, как сухо потрескивает огонь в догорающем доме. Видно, ветер заново раздул пламя. Благодатный запах пробудившейся земли и близкого леса перебивал проклятый запах гари. Когда он щурил глаза на солнцепеке, ему вспоминалась родная деревня, в которой даже заборы сгорели, остались одни печи, занесенные снегом, да трубы, словно несуразные памятники по убитым. Он стиснул зубы. Надо гнать, преследовать немцев. Они распространили войну по всему миру, сеяли ветер, пусть теперь пожинают грозовую жатву той бури, которую сами вызвали на свой кров. Теперь война ведется уже на их территории, и они на своей шкуре испытали то, что готовили другим.
Он прислушивался к посвисту скворцов и далекому, очень далекому орудийному гулу. «Наши стреляют, – подумал он, – стволы повернуты на запад, потому эхо слабое. Как хорошо, что скворец, несмотря на войну, продолжает петь и строить гнездо».
Ему сделалось грустно от птичьего свиста. Прикрыв глаза, он видел на фоне озаренного солнцем неба искромсанные взрывом стропила и зияющие дыры на месте сорванной черепицы. Он слышал голоса лениво переговаривавшихся солдат, пиликанье губной гармошки и грустную мелодию песни, слова которой пытались убедить, будто «военная служба – это прелестная пани… Хотя она солдата не приголубит, зато в сердце ранит и навек погубит…». Пожевывая травку, он бормотал ругательства, не желая гибнуть, как и любой из этих вооруженных крестьян и рабочих в солдатских мундирах. Война для них была тяжелой работой, войну им навязали, приходилось выполнять этот труд добросовестно. Но о смерти никто из них не думал. Особенно теперь, когда уже было ясно, что конец близок, что враг будет добит в течение нескольких недель, если не суток… В этот солнечный день чертовски хотелось жить.
Хорошо полеживать, прислушиваясь к ворчанию повара, который поторапливает солдата, чтобы тот наколол дровишек. Картошка засыпана в котел, пахнет подрумяненными шкварками. Скоро начнут раздавать обед.
На лицо Наруга упала тень. Он нехотя приоткрыл один глаз. Над ним склонился Михал Бачох, молодой солдат, для которого капрал являлся воплощением всех воинских премудростей, и поэтому он неотступно следовал за ним, добиваясь дружбы. Это юношеское обожание льстило Войтеку. Но, принимая его услуги, Наруг не допускал панибратства. Капрал – начальство, его надо уважать.
– Ну чего? Отвяжись! – поморщился он и, подняв руку, сделал солдату знак, чтобы тот не заслонял солнце. – Пользуйся свободной минутой, лежи и грей кости.
– От сырости в поясницу вступит.
Бачох разостлал обгоревшее одеяло, которое нашел в развалинах дома. Капрал соизволил перевалиться на него и устроился еще удобнее.
– Отец меня учил: «Не лежи, сынок, на земле, пока по ней гром не прокатился, в ней сидит еще зимний холод!» До первой майской грозы надо что-нибудь подстилать…
Капрал с сожалением посмотрел на него.
– Постучи пальцем по лбу! Гром по земле не прокатился… Тебе еще этого мало. Погляди вокруг.
Он указал рукой на руины домов, на смрадный дым от горящей смолы, который через выбитые рамы, криво свисавшие вниз с осколками стекол, черными клубами вздымался к небесам.
– Это люди сделали. А речь идет о громе небесном. Когда я был вот такой, – уязвленный Бачох едва поднял руку над землей, – я боялся грозы. Прятал голову под перину. Мама говорила мне, будто это ангелы играют в кегли. Знаешь, когда у нас в деревне бывал престольный праздник, привозили деревянный желоб и огромные кегли, требовалась сила, чтобы сшибить их, но шар так и грохотал… Отец, бывало, выпьет водки да пива добавит…
Вдруг он заметил, что капрал погрустнел. Закрыл глаза, и на его лицо, несмотря на. солнце, набежала тень, словно у него что-то болело и он вслушивается в эту боль, силясь установить ее источник.
– Мне кажется, на небесах думают, что на земле в кегли играют, иначе давно бы этого Гитлера громом поразило.
Оба замолчали. Над ними проплывали быстрокрылые облака, а когда ветер отгонял дым, пахли медом первые осоты и засохшие лепестки, облетевшие с яблонь. А может, это от земли тянуло теплым дыханием трав.
Веснушчатый Бачох долго раздумывал, прежде чем тронул друга за руку.
– Ну, чего ты терзаешься… Раз уж это случилось, ничего не поделаешь. Судьбу не изменишь.
– Отстань ты, – резко одернул его капрал, которого злила, даже оскорбляла нотка сострадания в словах приятеля.
– Я харчей принес, – попытался задобрить его Михал. – Он достал из вещмешка буханку черного хлеба, банку со смальцем, две луковицы и тяжелую флягу, завернутую в запасные портянки.
– Пропустим по одной до обеда… Только на кухню слетаю за селедкой. Я «организовал» целую бочку, когда мы взяли Колобжег. Повар поторапливает, чтобы мы ее прикончили, она протекает и вонять начала, зараза. А селедки, шельмы, жирненькие, пальчики оближешь. – Он говорил торопливо, словно хотел умолчать о чем-то еще.
Войтек, угадав за этим какой-то скрытый смысл, приподнялся на локте.
– В чем дело? Выкладывай, старина…
– Я получил письмо от матери.
Капрал взял флягу, с удовлетворением взвесил ее на руке и, отвернув пробку, хлебнул глоток.
– И что же она пишет?
Бачох только и ждал этого вопроса и достал из нагрудного кармана аккуратно сложенный конверт. Он не читал, а говорил на память, успев выучить письмо наизусть.
– Она передает тебе привет, а кроме того, наказывает слушаться тебя во всем. А еще просит меня быть осторожнее: ночи сейчас ненадежные – можно заболеть, если рано снимешь теплые подштанники…
Войтек пригладил пальцами непокорную прядь на лбу и расхохотался.
– Ты не удивляйся, они ведь не знают, что мы испытали. Кто им об этом напишет? Зачем их пугать понапрасну, у матери и так сердце слабое…
Михал поглядывал на своего кумира, надеясь уловить молчаливое одобрение в его глазах за то, что в своих письмах к родным он не хвастался, не изображал себя героем.
– Нам, пожалуй, дадут малость отдышаться. Подошлют пополнение, ведь курносая здорово повыкосила нашу роту. А прежде чем полк переформируют, глядишь, и война кончится, верно?
– Ступай-ка за жратвой, коли глуп.
– Смотри, без меня много не пей!
– Не бойся. Оставлю, сколько положено.
Бачох не спеша направился к походной кухне, укрытой в кустах сирени. Он еще раз обернулся проверить, держит ли капрал слово, но тот чистил луковицу, как бы чувствуя, что за ним наблюдают. За флягой он потянулся только, когда убедился, что приятель его не видит. Он пил большими глотками, хотел забыться.
Потом капрал поудобнее устроился и перочинным ножом стал нарезать луковицу кружками.
Тепло разморило его. До него доносились знакомые голоса пререкавшихся друг с другом солдат. Одни советовали старому Голембе, чтобы он вскрыл бритвой волдырь на стертой ноге, другие хвалили примочку.
– Лучше всего козий жир! – послышался певучий голос вильнянина Острейко. – Он и заживляет и смягчает…
– Ну и что из этого, коли его нет.
Плыли облака, их тени скользили по фруктовому саду. Деревья тревожно шелестели, а обладатель губной гармошки по-прежнему выводил все ту же печальную мелодию, словно только ее одну и знал.
«Взвод – мой дом, а ребята – моя семья, – мысленно одернул себя Наруг, – поэтому держись, к счастью, у тебя есть то, ради чего надо бороться и жить».
В глубине двора рослый поручик Качмарек, прозванный солдатами «Познанцем», потому что ведро он называл по-тамошнему «бадьей», а про картошку говорил: «клубни», в нательной рубахе, закатав рукава, брился у колодца. Зеркальце, которое он прислонил к обломку кирпича, отливало серебром, словно в нем сосредоточился весь солнечный свет.
Солдат-радист в разрушенном доме настраивал на прием, так как попискивание морзянки то усиливалось, то совсем пропадало. Неожиданно он бросил наушники на стол и высунулся из окна.
– Гражданин поручик! Эти гады – где-то рядом. Их слышно так, будто они болтают прямо за стенкой.
Качмарек медленно выпрямился, смахнул мыльную пену с бритвы.
– Кто?
– Ну, швабы! Мешают принимать: ничего невозможно понять.
– Может, это русские? Ведь вся территория прочесана вдоль и поперек.
Радист склонился к наушникам, словно не доверял своему слуху. Нет, это были немцы. Они вели передачу с вызывающей наглостью, открытым текстом.
– Нет. Может, вы послушаете: я не понимаю, о чем они лопочут.
– Сейчас приду. – Поручик добрил кадык, плеснув водой, смыл остатки пены и, вытираясь полотенцем, вошел в разбитый дом.
Да, передачу вели немцы. Вызывали какого-то «Фауста», далее следовали целые колонки цифр. Их коротковолновый передатчик находился где-то поблизости, возможно, в том самом лесу, что темнел за лугами.
Один за другим прошли по дороге четыре грузовика, марки ГАЗ, в кузове каждого из них сидели запыленные солдаты. Они оборвали пение, когда машины въехали во двор. Вновь прибывшие стали соскакивать прямо в кусты. Стряхивая с себя пыль, они засыпали вопросами расположившихся на привале воинов.
Новое пополнение представляло собой некое веселое братство. Приезжие пытались завоевать всеобщее" расположение и угощали всех направо и налево сигаретами.
– Пополнение прибыло.
– Что-то командование торопится, – покачал головой Острейко. – Будет дело.
– Привет, старички! – крикнул стройный парень в высоких сапогах. – Ну, мы, кажется, вовремя поспели!
– Да, нюх у вас, что надо. Прибыли прямо к обеду.
– Надо бы на недельку раньше! Пригодились бы в Колобжеге. Тогда вы не спешили!
– Да оставь ты их, – махнул рукой Острейко. – Ведь это же сплошной молодняк! Наконец они получили то, о чем мечтали.
Однако те уже тесно обступили походную кухню, протягивая повару свои котелки.
– Чего вы толкаетесь, – отпихнул их Бачох, запетый тем, что ему не оказывают почтения, не уступают дорогу старому солдату. – Вас целую неделю голодом морили, что ли?
– Очень уж вкусно пахнет. – Збышек Залевский залихватски сдвинул козырек конфедератки. – Я вижу, вы себя балуете…
– Да, к гуляшу мы привыкли, – подтвердил Бачох, – на прошлой неделе тоже был гуляш…
– Был, да только из немцев, – вставил повар. – Ну, не толкаться, а то огрею черпаком.
– Пропустите, я для пана капрала. – Бачох заработал локтями.
– О, пан капрал завел себе холуя, – послышался чей-то насмешливый голос.
– Не умничай, – одернул его повар. – Кто не почитает капрала, пусть поцелует его, знаешь куда?! А лакированные сапожки ты прихватил на случай парада, а?
– Конечно. Я надеюсь побывать в Берлине, – заносчиво огрызнулся Залевский. – Раз уж мы пришли, то будет парад в Берлине. Ну, наливай, чего ждешь? – поторапливал он повара.
Но тот, опершись черпаком о крышку котла, спросил:
– А ты сам-то кто? Откуда будешь?
– Из Влох,[2]2
Влохи (полъск.) – Италия и одновременно название местности под Варшавой, где некогда селились итальянские эмитенты.
[Закрыть] – с гордостью отозвался тот. – Ну, тех, что под Варшавой!
Повар плеснул черпаком ему в котелок подливки с кусками гуляша. Новобранцы разбрелись в разные стороны, пробуя жаркое и облизываясь. Война все еще рисовалась им веселой прогулкой бойскаутов, и только оружие, полученное ими, было настоящим. И настоящий был противник.
– Забирай свою селедку! Видишь, что за ненасытная орава появилась, – поторапливал Бачоха повар. – Забирай, чего жмешься! Мне после этого Колобжега кажется, будто все трупным запахом отдает. Хорошо бы прополоскать. – Он притронулся к выступающему кадыку. – Но раз уж вас тянет на закуску…
– Организуем, я не забуду, – широко улыбнулся Бачох и долго перебирал в бочке, отыскивая селедку пожирнее.
Бывалые солдаты медленно поднимались с земли, неторопливо подходили к полевой кухне, зная, что обед не уйдет от них. Они жадно втягивали запах и одобрительно говорили:
– Ух, хорошо пахнет!
– Наш повар молодчина, такие боеприпасы для наших желудков в самый раз!
По крестьянской привычке, они присаживались на скамье у самого дома, работая ложками, и усталость после долгого марша постепенно проходила. А мир, из которого они изгоняли призрак войны, открывался им как бы видоизмененный; казалось, угроза миновала и возрождалась надежда на мирные будни, с их повседневными заботами – пахотой, севом и сенокосом.
Они видели поручика. Сосредоточенный, прикрыв глаза, он пытался понять посылаемые в эфир сигналы. Наконец нетерпеливым движением он сорвал наушники, потер затекшее ухо и сказал:
– Странная история… Впрочем, к вечеру мы двинемся дальше. Пусть это волнует других… Ты будь начеку, хотя и предупреждали, что сегодня ничего не станут передавать. Все приказы – через связных, а в эфире должна царить тишина.
Старшина роты Валясек появился с довольной улыбкой на лице: радовался, что прибыли боеприпасы и пополнение, молодые, необстрелянные, зато добровольцы, храбрые ребята.
– Сколько их?
– Двадцать пять, ребята как на подбор.
– Давай их сюда, я люблю сам проверить.
– Они по кустам расползлись: обед рубают, за ушами трещит.
– Сперва на кухне представились? Произвести построение.
– Слушаюсь! – вытянулся старшина. – Сейчас я их соберу.
Поручик Качмарек застегнул крючки воротника, одернул мундир. Ремни плотно облегали его рослую фигуру. Он хотел, чтобы молодые солдаты сразу почувствовали в нем командира. Парни отвыкли от дисциплины, пока скитались, как цыгане, догоняя часть, и надо было с ходу взять их в оборот. На фронте – не до шуток, чуть зазевался, полодырничал – и заработаешь пулю. Дать себя ухлопать, прежде чем понюхаешь пороху, совсем нетрудно.
Поймав настороженный взгляд поручика, Бачох, с тарелкой, полной селедок, и котелком гуляша, предпочел не мозолить ему глаза и тихо проскользнул мимо хлевов, готовый скрыться в густом дыму, поднимавшемся над развалинами.
Издали послышался шум мотора. Короткими очередями отозвались пулеметы. И тотчас земля тяжело ухнула от разрыва бомб.
– Воздух! В укрытие! – крикнул поручик и прижался к стене дома в тени.
Солдаты рассыпались по кустам, укрылись среди развалин. Только Бачох, пригнувшись, застыл на месте, боясь, как бы селедки не соскользнули на землю.
Молодого Залевского, который хорохорился и подносил к глазам бинокль, чтобы лучше разглядеть самолет, сбил с ног и затолкал под танк, что стоял возле яблонь, Острейко.
– Ты чего! Самолета боишься? – вырывался Залевский.
– Лежи! – поплотнее прижал его Острейко. – Жалко твоих офицерских сапог… Лучше, пока жив, подари их кому-нибудь, чтобы не пришлось потом с мертвого стягивать.
Рев низко идущего самолета вминал, придавливал к земле. Оба замерли. Бомбы они не заметили, а увидели только, как верхушка дома рассыпалась красным фонтаном кирпичного крошева. Забарабанила длинная очередь, полоснув по кустам. И опять от взрыва со свистом взметнулись пирамидальным тополем осколки и комья плодородной земли. Самолет прошел над их головами, и вслед за ним повернулись стволы зенитной установки, которая прикрывала их расположение. Как поздно проснувшиеся собачонки, забрехали оба ствола.
– Получили! Ну и дымит…
Выбежали солдаты и, защищая глаза от солнца, всматривались в небо над деревьями.
– Наверняка свалился!
– Ни черта ему не сделали! Скрылся за облаками.
– Нет. Я слышал, как он грохнулся. Вон там дым столбом поднимается! – настаивал Залевский.
Тут послышались отчаянные крики раненых, стоны, и только теперь их охватил страх и холодный озноб.
– Санитар! Помогите…
– О боже! – Один молодой солдат из пополнения держался за бедро, а между пальцев у него текла кровь, в лучах солнца особенно алая.
– Ну, этот отвоевался, – присел возле него на корточки Острейко. – Даже жаль портить такое отличное сукно (он разрезал раненому штанину и начал бинтовать ногу). Кровь проступила густым пятном. Солдата трясло.
Мимо санитары пронесли кого-то, накрытого шинелью, и опустили свою ношу у стены.
Внезапно наступила тишина.
В этот момент во двор на низкорослой пегой лошади въехал капитан, командир батальона. Его широкое добродушное лицо лоснилось от пота.
– Взяли врасплох, сволочи!
– Один убитый, четверо раненых, гражданин капитан. Но самолет сбит, – пытался утешить его Качмарек.
– Бачох! Что с тобой… – вскинулся Наруг, он фыркнул, отирая с лица пыль, и подбежал к лежащему.
Бачох только смущенно развел руками и показал на тарелку, с которой воздушной волной смахнуло селедки, остатки их виднелись тут и там на перепаханной взрывом земле.
– Сукины сыны! – Наруг погрозил небесам кулаком, поднятым над головой. – Такую закуску испоганили!
Капитан тем временем приказал сержанту Валясеку осмотреть сбитый самолет: возможно, пилот успел выброситься с парашютом, возможно, обнаружатся какие-нибудь документы.
– Раненых на грузовик и в санбат! А ты, Машош, – капитан положил тяжелую руку на плечо сержанту, – возьми несколько солдат и прочеши лес.
– Слушаюсь! – Валясек потянулся за автоматом.
– И прихвати Войтека, ведь он партизан.
– Слушаюсь.
И по его кивку поднимались бывалые солдаты и потянулись друг за другом в лес. К Войтеку присоединился и Залевский, которого разбирало желание принять участие в поиске. Его злил только что пережитый страх.
Разведчики шли быстро, их длинные тени падали на траву.
Войдя в лес, они рассредоточились широкой цепью и теперь объяснялись только жестами. Они перебегали от ствола к стволу, бдительно осматривая заросли. Где-то отозвалась кукушка. Замерев на месте, они долго прислушивались: не условный ли это сигнал? На их испытующие взгляды капрал покачал головой и помахал руками, изображая полет птицы. Значит, кукушка.
Они обходили кроны, срезанные огнем недавнего наступления, обходили поваленные деревья. Вдруг Войтек, скользивший с волчьим проворством, предостерегающе поднял руку. А потом показал на ниточку оранжевого провода. Наши такими не пользовались, следовательно, это немецкий.
Посоветовавшись, решили разделиться. Сержант Валясек взял с собой шесть человек, капрал же подозвал к себе Залевского, и обе группы разошлись в разные стороны. Провод служил им ориентиром.
Залевского немного забавляло это затянувшееся выслеживание, предосторожность казалась чрезмерной. Он уверенно шагал за Войтеком, под ногами хлюпала болотная вода.
– Долго мы будем играть в глухонемых? – спросил он вполголоса.
– Ты в разведке, учись, – прошептал в ответ капрал, – да поглядывай под ноги, а то запачкаешь лакированные сапожки.
– Запачкаю, сам и почищу. Портянки тоже иногда стирать приходится, – попытался пошутить он.
– Откуда ты?
– Из Варшавы, я повстанец, – с вызовом выпрямился Залевский.
– Из АК,[3]3
Армия Крайова – подпольная вооруженная организация в оккупированной гитлеровцами Польше, подчинявшаяся польскому эмигрантскому правительству в Лондоне.
[Закрыть] значит?
– А это что, плохо?
Тот ничего не ответил, только, присев на корточки, стал глядеть вперед, сквозь ветви. Перед ними была просека, а провод уходил на другую ее сторону, в глубь сумрачного подлеска.
Они прислушались. Где-то очень далеко, на западе, гудела артиллерия. Вокруг же лишь посвистывали промышлявшие в поисках корма пташки. И эта тишина успокаивала.
– Я предпочитаю город. Тут подворотня, там подвал. Выскочишь на лестничную площадку, кинешь гранату, а сам – к стене… А тут? Только кажется, что ты надежно замаскировался, – показал он на кусты орешника. – И оглянуться не успеешь, пулю влепят. Ты давно в армии?
– Достаточно, – буркнул капрал.
– Когда мы пытались пробиться со Старувки[4]4
Старый город в Варшаве.
[Закрыть] в Саксонский сад…
– Заткнись!..
Войтек одним прыжком преодолел просеку и углубился в узкий проход между кустами. Под ногами у него ни одна веточка не хрустнула. Он уже заранее облюбовал для себя это место. Потом кивком подозвал Залевского.
Тот двинулся не спеша, обиженный, всем своим видом давая понять, что ничего не боится. Провод уходил дальше, в самую гущу леса, теряясь где-то в зарослях папоротника.
Неожиданно лес поредел. В глаза им ударило слепящим блеском низкое солнце.
– Смотри! – показал капрал.
На поросшем травой холме возвышалась триангуляционная вышка, легкая конструкция, сколоченная из бревен, потемневших от дождей. Провод уходил туда. Они видели, как он красной нитью взбегал к площадке на самом верху. Никакого движения на площадке не было, но, если наблюдатель лежал, он мог над вершинами деревьев обозревать деревушку, откуда они пришли, и плавный поворот шоссе.
– Что будем делать? – шепотом спросил Залевский. – Нас перестреляют, прежде чем мы до них доберемся.
– А мы попросим их спуститься, – пробурчал Войтек. – Прикрывай! Помни: за твоей спиной тоже лес.
Залевский припал к стволу раскидистой сосны, оперев автомат о толстую ветвь. Казалось, лес вокруг дышит, слышно было, как шуршит хвоя, словно задевая о стеклянный купол.
Капрал присел на корточки, достал из кармана перочинный нож и начал перерезать провод; работа подвигалась медленно. «Он прервет им связь, и тогда выяснится: есть ли кто-нибудь наверху – кому-то придется спуститься и проверить, где обрыв. Подойдет сюда, а мы его – по башке, – смекнул Залевский, но его уже злила самоуверенность капрала: посоветоваться не мешает, какую он готовил ловушку. – Ну погоди же, я докажу, кто из нас проворнее».
На вышке кто-то зашевелился. Да, это немец в маскхалате. Отчетливо обозначилась его горшкообраз-ная каска. Вот он спускается по лестнице.
Капрал весь подобрался, как лесной кот для прыжка.
Грохот близкого выстрела оглушил его. Это поторопился Залевский.
Немец откинулся назад, распростер руки и рухнул вниз. Оброненный им автомат застучал по ступенькам.
– Что, наметанный глаз! – Залевский опустил оружие. – Даже пикнуть не успел…
– Кто тебе велел? Идиот! Нам живой требовался, трупов вокруг достаточно.
– Что вы набрасываетесь, – пробовал защищаться Залевский, но тот подскочил к нему, крепко схватил за грудки, яростно процедил:
– Не люблю, когда мне путают карты. Не гнал? Тогда стой и смотри, а потом благодари за науку… А теперь убирайся. Чтобы я больше тебя здесь не видел!
Залевский, склонив голову, неприязненно взглянул на капрала. Забросил ремень автомата на плечо. Вдруг он заметил, что на вышке вторично приподнимается какая-то фигура.
– Вон тебе второй, можешь пальнуть!
Войтек стремительно повернулся. На верхней платформе он увидел немца, который поднял голову, а потом просунул между досок палку с привязанным на конце носовым платком. Он размахивал ею, давая понять, что сдается.
– Ну, слазь! – рявкнул Наруг так, что эхо отозвалось в лесу. – Komm! Komm![5]5
Иди! Иди! (нем.)
[Закрыть]
Немец, расхрабрившись, встал, подняв обе руки. Он размахивал палкой с белым платком.
И тут грянул выстрел. Немец, переломившись пополам, перегнулся через перила. Палка с носовым платком, кружась, упала в траву.
– Я тебя проучу, щенок! – рявкнул Наруг и бросился туда, откуда, как казалось ему, только что стрелял притаившийся Залевский. Но он ошибся: короткая очередь, посланная из чащи, полоснула над самой его головой. Он нырнул в высокий папоротник. И, как ящерица, пополз к кряжистой сосне. Теперь он осторожно осмотрелся вокруг. Тишина звенела в ушах.
И вдруг среди деревьев капрал увидел его: ствол в одном месте как бы утолщался, это, подобно трутовику, выступала немецкая каска, пестрый маскхалат сливался с тенью листьев и пятнами света.
Войтек медленно поднял ствол автомата. Но тот был бдительнее, выстрелил первым. Пули плотно увязли в стволе дерева, напоенного соками, срезав толстый пласт коры.
Капрал пустил очередь наугад. Он услышал, как враг убегает, услышал приглушенный топот ног по пружинящей дернистой почве и треск раздвигаемых сухих веток.
Наруг бросился вдогонку. Он бежал не следом, а пытался обогнать врага, отрезать ему путь. Он прислушивался к отзвукам. Немец торопливо продирался вперед. Он еще дважды выстрелил для острастки.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































