Читать книгу "Золотой истукан"
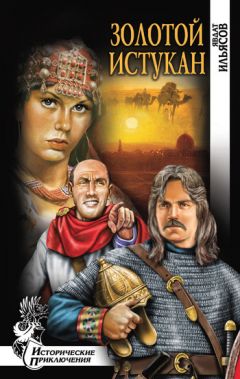
Автор книги: Явдат Ильясов
Жанр: Исторические приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
– А кто в накладе? – Взбесился Идар, не унять. – Безмозглый крот! Заладил – Род, Род. Правду козарин сказал: урод твой Род, сто чертей ему в рот. Был бы за нас – упас. Нет, о сытых печется. Огонь наслал Хан-Теньгрей, а Род их теперь вызволяет. Княжил Ратибор? И княжит. Жили волхвы? И живут. Добрели бояре на жирных щах? И впредь им добреть. А тебе, орясина, – в неволе гнить. Они заодно, волхв и есть Род. Этакий бог мне боле не бог. Иного найдем, смерды. У козар – Теньгрей. У ромеев свой бог. У алан, басурман. Поглядим, который лучше…
– Что, Арслан, скучно? – Старый козарин присел на корточки, сумрачно вздохнул. – Да-а, сыне, худо в неволе. Знаю. Сам не раз был в плену – у ромеев, славян. Народ мы неуемный, лезем всюду – случается, хватают нас. Правда, урусы – люди хорошие. Не то что ромеи. Те бесчеловечны. Урусы пленных не бьют. Одевают. Еды у них – вдоволь. Доставит степь хоть малый выкуп – ступай себе, друже, домой, да больше не попадайся. Одно плохо – для них, конечно, не для нас, – ленивы урусы. То есть, не то что ленивы, я неверно сказал, работать они здоровы – надо же столько земли перепахать, а медлительны очень, нерасторопны. На подъем тяжелы. Долго думают. От добродушия, что ли, это у них? Забыть его надо. Время какое? Гляди в оба, соображай мигом. А то живо голову снесут. Ты, сыне, не кисни. Изнутри сталью застынь. Иначе – зачахнешь. Ну, пойдем.
– Куда? Ходил уже Идар. Не пойду. Запори – не пойду. Лазутчиком вашим не буду. Убейте, не буду.
Старик изумился:
– Лазутчиком? Эх, милый. Какой из тебя лазутчик. Мешки будешь таскать. Но уговор – не пытайся бежать. Сам на стрелу каленую нарвешься и меня под плети подведешь, – доверяю, видишь, тебе.
– Это хорошо, – сказал он по дороге, – что урусы упрямы. Для них, конечно, не для нас, – вновь отметил старик с усмешкой. – Потому-то и живы, при своей-то неповоротливости. Идара, дружка твоего, уж чем не прельщали беку служить. Не хочет.
Руслан остановился.
– Как? Разве он… разве не сам? Сманывали его?
– Князева жена на колени становилась. Согласись, мол, за князем следить, о делах на Руси козарам доносить. Эх, заживем. Вином, беднягу, поили, плетьми лупили – ни в какую. «И так весь в грехах. Лучше убейте. Брата вину, свои грехи искуплю. А то – стыдно людей. Арслану – то есть, тебе – в глаза, мол, совестно смотреть: он, говорит, только путь начинает; к чему придет, кем он станет, если подле – подлость одна, сплошь сволочь». Ну, другой напросился. Богатый.
– Как зовут?
Старик усмехнулся:
– Не помню.
– Дородный, веселый?
– Вроде.
– Пучина!
– Может, Пучина, может, Кручина.
Руслана будто по голове ударили – схватился, остолбенел. И впрямь – крот слепой. Какой же ты дурак. Сечь тебя и сечь, чтоб хоть чуточку ума прибавилось…
– Не буду мешки таскать.
– Что? Тоже стыдно? – Старик покачал головой. – Эх, зеленый ты еще, зеленый. Брось. Ребячество. Всех погнали телеги нагружать. Было бы, сыне, из-за чего рисковать. Береги башку, пригодится.
Окраина стана. Вереница больших раскрашенных телег. Возле – кучи плотно набитых шерстяных мешков. Ишь, бродяги степные. Любят пестрое. Мешки – и те полосатые, красные с желтым. Немало пришлось их перекидать на телеги Руслану. Растянулся, как жердь, на траве. В очах – полосы красные. Долго держал, лежа навзничь, очи закрытыми, пока, приоткрыв, вновь не увидел небесную синь.
– Я слыхал, – просипел Руслан, – у степных людей в почете синее. У вас же все красное. А красное – цвет хлеборобов.
– Наверно, от аланов переняли. Аланы, правда, тоже конный народ, но иных корней, арийских. Пристрастны к красному. А мы – на треть аланы.
– То-то вижу: не столь уж вы, козаре, скуласты да узкоглазы, как в наших весях толкуют… Есть носатые, рослые. К примеру, ты – вовсе светлый.
– А мы не козаре. Булгаре. Потомки воинов хуннских да женщин аланских.
– Это как же? Ведь истребили козаре булгар.
– Истребили? – старик засмеялся. – Попробуй этаких истребить. Стрел не хватит. Ну, было дело лет пятнадцать-двадцать назад. Разбранились наши ханы, Батбай и Аспарух. Первый по нижней Кубани стал кочевать, второй – на буграх у верховьев. Козаре – то есть, хазары, милый ты мой, видят, булгары в раздорах, значит, сил у них меньше – ударили по Аспаруху. Ничего, не пропал. Ушел на Дунай. Войско царя ромейского, Константина Погоната, вдребезги разнес, взял Добруджу. Теперь славянами тамошними правит. Без стычек кровавых поладили – славяне рады, что от ромеев избавились. Часть булгар поднялась по Итилю, и сейчас племена идут волна за волной, всю мордву разогнали. А мы, Батбаевы, остались. Может, тоже туда уйдем. Но пока в Тавриде кочуем, по Бузану – Дон по-алански, по нижней Кубани. Булгары в Хазарской державе – самый крупный, первый народ. Хазар истинных – горсть.
– Однако вы им покорились.
– Считается, что покорились. А так – на свой лад живем. Хазары тоже смесь хуннов с аланами, но в речных долинах сидят. Хлеборобы. Садоводы. Рыболовы. А мы – пастухи, охотники. Хану, бекам своим подчиняемся. Ну, дань кагану хазарскому платим. Каган – из рода тюркских царей Ашина. Потому и сумели хазары нас победить, что тюрки их поддержали. В них большая тюркская примесь. Глянь, вон хазары настоящие. – Он показал бровями на трех молчаливых мужчин, не спеша проходивших мимо. Скулы острее, халаты пестрее. – Встань, сыне, возьмись за мешки. Уйдут, – опять дозволю отдыхать.
Поймав недоверчивый взгляд Руслана, он усмехнулся. Да, усмешливый старик, тут ничего не скажешь, только невесело все усмехается.
– Что, дивно: недруг пленного жалеет? Но ведь ты – не железный. Надорвешься, кто купит. Ну, не хмурься. Просто так жалею. Какая мне выгода оттого, что тебя продадут? Я, сыне, и сам… Ладно. Садись. Есть сейчас принесут.
– Хуни, булгаре, козаре… – Руслан вздохнул. – Еще тюрки какие-то. Поди разберись, сколько вас. Кто это – тюрки? Что за народ? Иной, чем булгаре?
– Не то чтоб иной. Тоже с востока, наших кровей. Язык, считай, один, обычаи сходны. Но позже пришли, лет этак сто пятьдесят назад. Хазары до них нам подчинялись, оттого – не любили, живо с тюрками снюхались. Тюрки сперва побили нас, но потом князь Ор-хан сплотил всех булгар, скинул тюркскую власть. При хане Кубрате, при тезке моем, – старик горделиво расправил усы, – все степное приволье над морем было нашим. Но умер Кубрат – распалось великое царство. И одолели нас хазары с тюрками.
– А кто аланы?
– Сарматское племя. Народ из степей хорезмийских. Издавна здесь кочуют, с туманных скифских времен. Потому-то у всех крупных рек – названия аланские: Дунай, Днестр, Днепр. От ихнего «дон», то есть поток. Аланы – вроде закваски окрестным народам: во всяком, кто обитает близко к степи, течет боевая аланская кровь. Вся степь к востоку от Дона к приходу хуннов гудела под табунами коней аланских.
– А хуни кто? – выпытывал Руслан… Залез в чертову пасть – сосчитай, сколько зубов. Узнай, как именуются, который острее. Может, увернешься. – Слышал я, хуни – самый дикий народ на земле.
Кубрат – оскорбленно:
– От кого слыхал?
– От старших. От разных людей. От волхвов.
– Это, сыне, для истинно диких всякое племя, опричь своего, – дикое, темное.
Хунны – точнее, хунну – древний народ, сказал Кубрат. Прародители славных степных племен. Многих, ныне – гордых, племен в помине не было, когда пращуры его под этим честным именем пасли стада в дальних синих краях.
…В краях с деревьями с чешуйчатой корой. С дыханием из острого ветра, слоями подвижных туч, красный песком, на лету хрустящим, белой пылью, до неба вздымающейся. С заносами из сизого галечника. С пургою из камней размером с трехлетнего бычка. С бурей, дождем проливным, с глазом из ясного солнца, со знаком из полной луны. В краях, где семьдесят речек, с гулом соединившись; где восемьдесят речек, важно и шумно слившись; где девяносто речек, то шагом, то рысью сбежавшись, образуют светлую долину, звенящую, как медь.
Поведешь очами на восток – вдали, как взъерошенный мех на собольей спине, чернеет на горе дремучий лес. Приглядишься к западной стороне – семипроточное море величаво гремит валами. Охватишь взором северную сторону – словно восемь с треском бодающихся быков беломордых, восемь хребтов пятнистых грузно взгромоздились. Глянешь на юг – точно девять жеребцов разъяренных, готовых броситься в драку, девять вершин стоят приосанены.
Не сугробы покрыли равнину – табуны белошерстных лошадей. Не шуга ледяная густо плывет по реке – стада черномастных коров идут по ущелью.
Там вечно кукушки кукуют. Горлицы нежно воркуют. Звери фыркают с треском, будто рвут бересту. Сарычи летают. Петушки порхают. Орлы неустанно парят. Серый журавль за десять дней полета не может достичь края синей долины.
В той синей долине жили пастухи с гладким каменным теменем. С медными лбами, покатыми висками, далеко выступающими скулами. С рысьими глазами. Толстыми губами. Острыми зубами. Сверху сутулые, снизу прямые. С негнущейся шеей, железными плечами, шумно вздыхающей грудью. С руками, похожими на скрученное дерево, ухватистыми ладонями, плотными темными икрами. С неуживчивым нравом, с довольно мрачной внешностью.
Их имя громозвучно мычало на путях-дорогах, слава громогласно ржала на крутых перевалах.
Их стрелы с ревом пробивали семь небес.
В смертоносных мечах отражались губы и зубы юношей, стоявших на противоположной опушке рощи. В наконечниках копий ясно виднелись глаза и брови зрелых девушек, доивших коз на дальнем лугу.
Когда они садились на коней и мчались по степи, их уши звенели, как крылья летящих уток. Воздух сек по лицу, словно бил тальниковыми прутьями. Пар, выдыхаемый конями, превращался в ледяные комья, со свистом разлетавшиеся на расстояние трех дней пути. Копыта откалывали землю и разбрасывали куски на протяжение пятидневного верблюжьего перехода. Кустарники распластывались, как спинные сухожилия. Деревья ложились, как бычьи хвосты.
Когда они бились с врагом, небо колыхалось, точно вода в бурдюке. Земля колебалась, словно трясина зыбкая. Преисподние черные воды расплескивались, как помои в лохани. Валились вершины утесов. Распадались в пыль и золу крутые скалы. Оползнями плыли глинистые горы. Белые облака сбивались в кучу, черные тучи стремительно рассеивались. В смрадном, вихревом, с клочковатыми прядями дыма, низко нависшем желтом небе переворачивались ржавые и щербатые солнце и луна[1]1
По мотивам якутских сказаний.
[Закрыть].
Кубрат не спеша поведал Руслану, как жадные воины южного царства Хань, внезапно напав на степь, уводили скот, обрекая хуннских детей на голодную смерть, и вождь Модэ, созвав степные племена, свирепо обрушился на лукавых китайцев.
Но однажды подкрался враг, недосягаемый ни для мечей зеркальных, ни для стрел, издающих на лету змеиный свист. Усохла степь. В озерах и реках оголилось дно. Луга занесло знойным песком. Зеленые возвышенности превратились в каменистые пустыни. В горах горели леса. Скот вымер. Держава рухнула. Хунны рыдали, как женщины, покидая мертвые долины и холмы.
Часть пастухов, отбиваясь от осмелевших соседей, бросая в пути повозки, раненых, уставших, которые, отдохнув, обживались на новых местах – с тем, чтоб создать иные союзы и затем удивить белый свет неслыханной доблестью, – двинулась солнцу вослед и за три быстротечных года дошла до большой реки. Чудь лесная ее называет Волгой, булгары, хазары – Итилем.
Здесь пришельцы породнились с уграми – смесью алан с местной чудью, окрепли, разбогатели и переселились на западный берег. Ну, их дальнейшие деяния известны. Больше всех досталось готам и ромеям, они и распустили слух о страшной дикости, бесчувственности хуннов.
Будто хунны столь чудовищны с виду, что их можно принять за двуногих зверей или грубо отесанные сваи.
Будто у них не найдешь даже покрытых травой шалашей – пастухи, точно гробницы, боятся всякого строения. Огня, конечно, не знают. А питаются чем? Кореньями, мясом сырым – его кладут между своими бедрами и спинами коней и нагревают парением.
Будто, как животным, им вовсе незнакомы совесть, честь и божий страх. Они уклончивы в речах. Они свирепы. Необузданны. Проворны. Сокрушают все на пути. Они настолько вспыльчивы и вздорны, что иногда в один и тот же день без всяких причин, просто так, способны изменить союзникам и снова примириться с ними.
– Это мне в Тане ромей-книгочей пересказывал с их умных книг. Мол, предки твои раз надетую рубаху до тех пор не снимали, пока не расползалась в лохматья. Голову прикрывали кривой шапкой, волосатые ноги защищали козьими шкурами. А сам, собачий сын, носит парчовый хуннский кафтан, штаны, прическу хуннскую. И ничего, доволен.
Хуже всего, пишут в тех книгах, что хунны пылают неудержимой страстью к золоту. Что правда, то правда. Но он, Кубрат, хочет спросить: а чем занимались готы, ромеи, славяне – все народы к западу от Волги до прихода нехороших хуннов? Нежились в холодке? Лобызались? Пылинки друг с друга снимали?
Нет, милый мой. Резались. Всю Европу залили кровью.
Походы. Походы. Походы…
Ради чего, скажите на милость? Скучно дома сидеть? Побродить захотелось, друзей навестить? А? Хваленный Рим вовсе не хунны сгубили – сами ромеи да готы, франки, вандалы, сарматы. И славяне приложили руки к сему веселому делу. Пожары. Осады. Горы трупов. Время такое. Война есть война. На войне убивают. Так почему же самый худший – кто это делает лучше всех? Учитесь. Кто не велит? Смотри. Старик достал из колчана огромный, более трех локтей, с костяными пластинками на концах для особой упругости, тяжелый лук. Не каждый натянет. А пастухи, слыхал Руслан, мечут стрелы за тысячу пятьсот локтей. Вы, урусы, продолжал Кубрат, как и ромеи, китайцы, взяли у нас прическу, покрой кафтанов, широких штанов, – переймите умение воевать. Пригодится. Там, на востоке, еще немало племен хуннских кровей. Они не дремлют. И готы всякие не вымерли на западе.
– Нас, булгар, тюрков, алан тоже дикими считают книгочеи. Почему? Обидно. Ведь степной же народ. Весь уклад – для жизни в степи, и здесь мы – первые. Ну, до ромеев ученых нам, может, и далеко. Но посмотри, как расцвела при булгарах Тамань. Со странами заморскими торгует. А у хазар? Ты бы увидел город Самандар, их столицу. Огромный город, богатый, кругом сады. Хорошая или плохая, у нас – держава, А сколько на свете людей еще в лесах сырых в звериных шкурах бегает, жутко покрикивает, бородами леших пугает. Так-то, сыне. И о себе, и о других судить надо честно.
– Откуда про все это знаешь? Ну, про хуннов и остальное. Не жил в их времена, ничего не видел глазами своими.
– Если б у человека только и хватало ума, чтоб толковать о том, что видел лишь сам, он перестал бы человеком быть. К тому ж, положено мне знать. Я – сказитель. Преданий главный хранитель.
– Главный? – глянул Руслан: сапоги-то у старика… до того износились – не кожа, ветошь.
– Да-а, сыне. Предания – скучный товар. Людям наплевать, что было здесь, на этом свете, – их страсть как занимает, что их ждет на том.
Он побелел, отвел глаза. Руслану показалось – не все сказал Кубрат. Пастух старательно обходил в потоке слов острый камень какой-то тайной и обидной правды. То ли тщился не выдать чужому, то ли сам ее боялся знать.
– Ладно, – вздохнул Кубрат. – Все хорошо. Куда они запропастились? Есть долго не несут.
Руслан сглотнул слюну. Он приложил ладонь к тугому толстому мешку. Сперва и не поймешь, что в нем. Покуда не прощупаешь как следует. Похоже, зерно.
У волхвов есть слова: зерно истины.
Зерно истины – чтоб его нащупать, тоже, друже, надо мешки потаскать. В этих диковинных, грубых полосатых мешках – обыкновенный хлеб, и старик в полосатом халате хочет есть. Как все.
…Глаза у нее – темные, карие, пушистые косы – яркие, светлые, будто в золото их обмакнула. И платье – цвета коры, в желтых, багровых листьях. Хозяйка дубравы. Точно сейчас из пятнистой дубравы осенней вышла, принесла холодок, и солнце, и тишину. От того холодка, что ли, горит, раскраснелась.
У Руслана руки и грудь тепло и тоскливо заныли. Обнять бы, спрятать ее у себя, тихонько гладить и пьяно и долго молчать, молчать. Неужто своя? Славянка? Нет. Гляди – углы клубничных, вкусных, русских губ вдруг опустились резко, по-чужому. И слышно в ней упрямое, недоброе. Видно, зла и неприступна.
Карие глаза встретились с синими. Точно два янтарных жука сели на два василька. Сели – и сразу отлетели. Она подала Кубрату красный узелок, заговорила с ним глубоким, переливчато густым, текучим, тягуче печальным, местами с перезвоном, холодным и свежим, двойным осенним голосом – словно дальнее долгое эхо лесное ей тут же отвечало.
Старик исподлобья взглянул на Руслана.
Отвечал он сбивчиво, устало, неуверенно.
Она закрыла глаза, приложила узкие ладони к вискам. И не то вздохнула, не то со стоном зевнула – будто волчица взвизгнула. Нехотя – ах, идти, не идти, и куда идти, и зачем? – поплелась было прочь. Вдруг остановилась. Обернулась. В сумрачных ее глазах вскипела опасная мысль.
– Эй, человече! – окликнул Руслана старик. – Уснул? Ешь. Мясо холодное ешь. Пей кумыс. Опять мешки таскать.
Руслан прикусил губу. Рассеянно глянул на скатерть, на небо в белых облаках, шатры, телеги. На траву – может, следы остались. Нет. Все истоптано.
– Чудо.
– Потому – Баян-Слу. То есть богатая красотою. Дочь моя, – пояснил он с грустной гордостью. – Ты ешь, сыне, ешь.
– Не похожа на ваших женщин.
– Разные у нас. Говорю, мы смесь. Своих чужим не отдаем, чужих берем. Бабка у меня – из северских славянок. Мать аланка. Жена, от которой Баян, остроготка. Звали ее Брунгильде. По-ихнему это Смуглая Удаль. Кажется, так. А по-булгарски выходит – раньше, то есть давно, пришла, досталась. Я дразнил: «Ты – прежде досталась, теперь мне нужна Сунгильде, пришедшая позже». И женился, – старик с тоской усмехнулся, – на пленной угорке Сунь. Обеих уже нет. Жаль.
Руслан – безнадежно:
– Верно, замужем.
– За князем Хунгаром, господином нашим.
– За князем… – Русич лег на спину, руки сложил под головой.
– Эй, ты чего? Ешь.
– Нет. Расхотелось.
Князь – он везде успеет.
Синь. Облака. Будто прямо в синих, с белками снежными, нежных твоих глазах коршун кружится, стан стережет. Не убежать. Злой коршун, зоркий, меткий. Золотой иволге смерть.
– Угрюма. Хворает? Не скажешь.
– Другого любила. Зарезал Хунгар.
– Зачем отдал, нелепый старик.
– Бек. Хозяин степи. Сам не приехал – нож свой прислал. С ножом обвенчали. Наш род захудалый, слабый. Что дочь – весь род взял в услужение.
– Ух ты! У нас не так.
– Получше?
– Сходятся селами на игрище, брагу пьют, пляшут, поют – тут и жен выбирают, кому какая по нраву.
– Сколько тебе?
– Осьмнадцать.
– Успел?
Покраснел юный смерд.
– Присмотрел было одну.
– Ну?
– Князь упредил. Видал ты ее. Людожирица, Идарова любовь.
Руслан, морщась, прикусил ладонь.
– Заноза?
– Ага.
– Говоришь – у нас не так.
– Голодали. Не до них.
– Ну, дело прошлое. Вставай.
Руслан выгрыз занозу, поплевал на ладони, потер одну о другую, ухватился за грузный мешок – и только вскинул его на плечо, как за спиной, будто это он взвихрил их вместе с мешком, раздались крики, гул, звон и топот.
Сверг мешок с плеча на телегу, глядит – мимо едет черный старик с огромным бубном в черных руках, весь в лисьих и волчьих хвостах, медных бубенчиках. Пасть – до ушей, в ней зубы большим снежным комом, а глаз почти не видать: две искры в грубых морщинах блещут. Позади, выступая из-за холма с каменной бабой, следуют конники в шубах мехом наружу.
– Брось. – Кубрат отрешенно махнул рукой. Дескать, ну их к бесу, мешки. – Рогатку надень. Не то зададут нам плетей. Пойдем. Большой бахши приехал. Главный волхв степной.
– Я уже мнил – не увижу боле Еруслана. Не пытался утечь? И не надо пока. Может, в пути. Наших тут всех тоже гоняли мешки таскать, телеги править. Ну, двое за бугор уползли. А там – заслон. Засекли, горемычных.
– Овечьего сала принес. Спину смажем.
– Вот спасибо. Где разжился?
– Старик в тряпицу завернул. Только молчи. Боится, заругают.
– Чудной старик. Жалеет. Чего это он?
– Сам не пойму.
– Растопить бы.
– Где растопишь?..
– К тому бы костру.
В их печальных глазах ослепительно вспыхивал, бледно сникал колеблющийся свет большого пламени, которое желтым вихрем, закручиваясь от ветра то в одну, то в другую сторону, текуче ложась, внезапно взметаясь разоренным соломенным стогом, судорожно билось возле загона в дикарской пляске.
Подходили воины, бабы, дети. Молча садились в круг.
– Что затевают? – подлез Идар под телегу.
– Прибыл главный бакшей, волхв степной.
Словно отделившись от костра обрывком пламени, со звоном возникло в кругу лохматое существо с большим, точно княжеский щит, бубном в цепких руках. Желтые волчьи, лисьи хвосты трепетали, взвивались, как пряди огня.
Уныло прозвенели бубенцы, подвески. Покорно стихли. Прозвенели еще, уже настойчиво, тревожно. Опять умолкли. Вновь зазвенели, сильно и зло. Будто стреноженные кони встряхивали удилами в горящей степи. Или узники – долго, гневно, все отчаяннее – цепями, прикрепленными к столбу, в подвале, заливаемом половодьем.
И вдруг бубен ахнул – так гулко, нежданно и режуще внятно, что по кругу окаменелых булгар, по ряду пленных, распластавшихся под телегами, прокатился крик ужаса.
И загудело, зарокотало в раскаленном воздухе, словно кто-то черный, неохватный, склонившись над станом, произносил жестоким голосом слова упрека и угрозы.
И лохматое пылающее чудище, с маху ударяя колотушкой в бубен, медленно двинулось окрест трескучего костра, мерными рывками поворачиваясь вокруг себя, вытягивая лапу, сгибая колено, плавно вскидываясь то на левой, то на правой мохнатой ноге.
Когда, однообразно дергаясь, диво ступало меж костром и загоном, то темнело до жаркой, багровой черноты с дымным рыжим налетом, переходящим в белые пятна по растрепанным бокам, и пораженным пленным казалось, оно извивается прямо в костре.
Грохот нарастал до нестерпимости, тоскливо стихал. Ветер охапками отрывал от костра огонь и дым, кидал их к подножию каменной бабы, накренившейся на холме, и она, золотистая, важной участницей радения строго глядела сверху на сборище.
– Колдуют, – прохрипел Идар. Засмотрелись – забыли спину ему салом натереть.
У Руслана самого спину, жутью исхлестанную, будто инеем обнесло. Один из пленных, Карась, сказал, задыхаясь:
– Я малость разумею по-ихнему. На торге встречались на Хортице. Слыхал сегодня – князь их плох. Кияне ранили.
…Грохочет бубен. Пляшет бахши. Сверкает огонь.
Оцепенели булгары, будто зелье сонное пили.
…Грохочет бубен. Пляшет бахши. Блещет огонь.
Онемели, одурели пленники.
…Грохочет бубен. Пляшет бахши. Свищет огонь.
Быстрее. Быстрее. Быстрее.
Грохочет бахши.
Пляшет бубен.
Кричит огонь.
…Ох, трудно. Невмоготу. Троится в глазах.
Грохочет огонь.
Стонет бубен.
Рычит бахши.
…Булгары сиротливо завыли.
Грохочет мозг.
Скачет бахши.
Стонет огонь.
…Пленные принялись подвывать.
…Грохочет бубен. Пляшет бахши. Плачет огонь.
Быстрее. Быстрее, Быстрее.
Грохочет бубен…
Грохочет бубен…
Грохочет бубен…
…Пляшет бахши.
…Пляшет бахши.
…Пляшет бахши.
Блещет огонь…
Блещет огонь…
Блещет огонь…
Быстрее!
Быстрее!
Быстрее!
Бахши с воплем рухнул наземь.
Идар с жутким ревом встал на колени, запрокинул голову. С яростью вонзил ногти в лоб, глаза, губы, десны. Вскочил, перемахнул через телегу – и жадно слился с пламенем.
– Сильный бахши, – говорили наутро в стане.
– Знахарь Кубрат, – усмехались юнцы, которые, конечно, знали больше всех, – бог Хан-Тэнгре еще не удосужился их высечь, – уж каких заклинаний не шептал над раной. Чем ее только не пользовал. Золой посыпал. Козье легкое, творог, баранью шкуру свежею прикладывал. Натирал горячим корнем чемеричным. Смазывал топленым жиром. Ничего не помогло. А бахши…
Пожилые, бывалые, битые:
– Нет. Кубрат тоже сильный. Но он – знахарь. Знахарь лечит травами, листьями. Толченой костью. Ртутью, серебром. Кровью птиц и зверей. Он лечит тело. Он над душою не властен. Над нею властен бахши.
– А душу Хунгара, сказал бахши, похитили злые духи. Душа бахши пустилась искать душу хворого бека. Оказалось, злые духи спрятали ее в тело уруса. Урус был слабый, больной после плетей – вот и сумели втиснуть. Помните, как страшно он закричал? Духи не хотели отдавать бекову душу, и душа бахши схватилась с ними.
– Это когда бахши кружился?
– Тогда он летел в потустороннем мире. Боролся с духами, видно, когда упал, стал биться, корчиться на земле, испуская пену.
– А-а…
– Душа бахши кинула тело уруса в огонь, чтоб высвободить душу Хунгара. И душа Хунгара вернулась к хозяину.
– А куда урусова девалась?
– Кто знает. Может, у них вовсе нет души.
– Почему?
– Не люди.
– У всех есть душа. Даже у камней.
– Ну, тогда улетела к себе домой, на Русь.
– Или бродит где-то здесь. Берегите детей.
– Очень сильный бахши.
– Проснулся?
– Спит. Желтый, тихий. Не лучше Хунгара.
– Устал. Легко ли – сражаться с духами.
– Сильный бахши.
– Хунгар-то – сразу очнулся, пить вопросил.
– Как он теперь?
– Лежит с открытыми глазами. Даже говорит. Правда, шепотом. Чуть живой.
– Ничего, окрепнет. Теперь пойдет на поправку. Душа вернулась к хозяину…
– Зачем звал?
Смотрит в сторону. Угрюмая. Как всегда.
Хунгар исказил серые губы в усмешке.
– Хоть бы для виду спросила, лучше мне, хуже. Может, хочу чего. Ведь хворый. Чужие, совсем чужие – и те не бессердечны к хворому. Пусть показную, но выказывают заботу. Так заведено между людьми. А ты – жена.
Не шелохнулась.
Чудовище. К чему тебе красота, создание бездушное? Красота – доброта. Ей положено быть нежной. Только тогда от нее тепло и радость. Со сварливостью, черствостью, тупостью – она страшнее уродства. Уродство небольшое несчастье. От него плохо лишь уроду. Злая красота – беда для всех.
Хунгар будто впервые увидел жену.
Вот дрянь. Кто ты есть, в самом деле? Чьих чистых кровей, что налилась до бровей, как мех по завязку – пенистым кумысом, этаким достоинством босым? Дочь нищих: глупого оборванного сказочника и готской рабыни, готовой на все ради хлеба. Отребье. В грязных ромейских вертепах, средь вонючих шлюх место твое, а не в шатре степного бека.
Смотрите, а? Всякую пеструю козявку изводит зуд казаться синей бабочкой.
Сколько сил, сколько дум, и тревог, и времени ухлопал Хунгар, лелея пустое место. Нет. Ничтожество – не пустое место. Хуже. Пустое место безвредно. Ничтожество – опасно, ядовито. Оно жалит. Сколько зла пришлось снести от гадкой твари.
Надо было прогнать ее к бесу, а лучше – продать в Корсунь, в дом терпимости, и отца ее туда – прислужником, завести ораву толстозадых жен и ласкать их себе на здоровье.
Жаль, поздно поумнел.
Н-ну, ничего. Он возьмет свое напоследок.
– Прочь, чертова дочь! – гаркнул Хунгар по-былому. – Эй, есаул! Спишь, осел? Грох в горох твою мать. Живо найди мне Уйгуна.
…Голова гудит, в сердце боль. Серую похлебку, которую дают раз в день, по утрам, – проворонишь, до завтра сиди голодный, – и ту не хочется есть.
Слушая гомон веселых булгар, видно, довольных ночным событием, Руслан бесился: тоже язык. Ничего не понять. Зверье. Потом его осенило: по нутру тебе их речь иль нет, не перестанут пастухи болтать по-своему. С волками жить – по-волчьи выть. Учись. Сгодится. Бог весть, когда домой попадешь. И попадешь ли когда-нибудь.
Он нетерпеливо ждал Кубрата. Там еще груда мешков на земле, должен позвать. Кубрат его позвал, но ни Руслану кидать те мешки, ни Кубрату его понукать явно не хотелось.
– Ворочай потихоньку. Управишься до вечера, и хорошо. Скучно. Потолкуем.
– Учил бы меня по-вашему.
– Да? Добре. Только не сейчас.
– Ожил твой зять?
– А? Ожил, ожил! – сам ожил мрачный старик.
– Сильный бакшей.
– О! Сильный. Наверно, сильный. Однако, – старик оглянулся, понизил голос, – не бахши Хунгара вылечил.
– А кто?
– Я с вечера дал хорошее питье. Отвар из редких трав. Здесь, на Днепре, их отыскал. Но все говорят – бахши хороший. А меня… ночью даже к костру не пустили.
– Это почему?
Бахши не любит знахаря, знахарь не любит бахши. Он в бубен стучит, кричит, незримых духов гонит. Но хворь – не дух. То есть дух, но не бесплотный. Хворь бродит в образе бабы, птицы, змеи. Ее можно потрогать. И одолеть только тем, что можно потрогать: амулетами, травами. И еще – слышимой речью. Всем, что создано синим небом, которое тоже всякий видит над собою.
– Если бакшей непричастен… что стало с Идаром? Зачем… – Смерд заплакал, жалкий, брошенный, совсем по-детски.
– Кто знает, сыне, кто знает. Знает один Хан-Тэнгре. Один Хан-Тэнгре. Он добрый. Он мудрый. – Кубрат долбил истово, тупо, с испугом – а вдруг божество не поверит его чистосердечию. – Он ясный. Хороший. Верь ему. Он поможет. Светлый Хан-Тэнгре. Славный Хан-Тэнгре. Великий…
Опять кровь. Весь бок намок. Бек зажал рану скомканной рубахой, сказал прибежавшему брату:
– Слушай. Давно… ты был малышом – ударил я тебя по щеке, всю жизнь сердце болело. Каюсь до сих пор. Прости. Я ухожу. Не хнычь, не девушка. Дай руку…
Он почти перестал дышать. И, боясь – не доскажет, судорожно, с хрипом, лишь горлом, а не глубью легких, втягивал воздух, бил кулаком в неподвижную грудь, чтоб ее всколыхнуть.
– Запомни мою речь. Ты – из рода Аттилы, не подпускай к себе непутевых… Чтоб о тебя до визга обжигались. Никому не давай пощады… Особенно – урусам. Это хитрый народ. Терпеливый. И – переимчивый. Засели в лесах, болотах. Сквозь кусты глядят, на ус мотают: у кого что хорошо, что плохо. Ждут, молчат. Они – наша смерть. Режь их, где можешь…
Рот его наполнился кровью. Захлебываясь ею, он сплевывал на руку брата, охал, кашлял, мотал головой, скрежетал зубами.
– Жги под корень всякую лесную, горную и городскую нечисть. Держись за степь, за тех, кто в ней живет по старому укладу. За все степное… Не позволяй булгарину пахать.
Помни: первая борозда, проведенная булгарином, станет прямой тропой к могиле нашей славы… Держи в чистоте голубую кровь. Оттого и пала – кха, кха – хуннская мощь, что без разбору мешались с разной встречной поганью… Я ухожу. Сделай все как надо. Слышишь? Сделай хорошо… души… никому пощады… – испустил он дух со змеиным шипением.
Уйгун в слезах бросился наружу.
…Она схватила его за запястье, потянула за телегу. «А сильная», – подумал Руслан. Не размыкая длинных пальцев, стиснувших запястье, опасливо пригнувшись, обратив к нему снизу мокрое от слез, жаркое лицо, ладонью другой руки будто ребенка, незримо стоящего рядом, торопливо и ласково хлопает по плечу. Сообразил – сесть велит скорей.
Золотые волосы распущены, распушены.
Видно, только расплела толстые косы, расчесала, как что-то недоброе с места ее сорвало. Не успела убрать. Сколько волос. Словно охапка свежей, блестящей соломы. И одета просто. В прямую, узкую и длинную, до пят, рубаху белую с широкой алой каймой внизу, над краем полы. Рубаха развязана спереди, и грудь одна, как ясный месяц, вся наружу. Кинулась на траву – с узкой белой ступни слетела легкая обутка: босовичок, расшитый бисером.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































