Текст книги "Осень Средневековья"
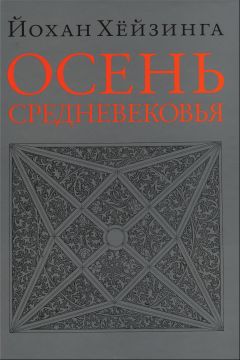
Автор книги: Йохан Хёйзинга
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Третий путь к более прекрасному миру – путь мечтаний. Этот путь самый удобный – правда, цель при этом нисколько не становится ближе. Раз уж земная действительность столь безнадежно убога, а отказ от мира столь труден, так скрасим же свое существование прекрасной иллюзией, перенесемся в страну безоблачных грез и фантазий, сгладим действительность восхищением перед идеалом. Это несложная тема; после первого же аккорда звучит фуга, подхватывающая и уносящая душу: одной-единственной, слагающейся из грез картины счастья идиллически-прекрасных былых времен здесь будет вполне достаточно, здесь хватит всего только взгляда на их героику и их добродетели – так же как солнечной радости жизни на лоне природы и в согласии с нею. На этих нескольких темах: героев, мудрецов и буколической жизни – со времен античности зиждется культура изящной словесности. В Средневековье, Ренессансе, XVIII да и XIX вв. мы обнаруживаем лишь всё новые вариации этой старой мелодии.
Ограничивается ли, однако, этот третий путь к более прекрасной жизни – бегство от суровой действительности в царство прекрасных грез – лишь изящной словесностью? Несомненно, в нем кроется нечто большее. Этот путь затрагивает форму и содержание общественной жизни точно так же, как и первые два стремления, – и тем сильнее, чем примитивнее та или иная культура.
Названные три подхода воздействуют на реальную жизнь далеко не одинаково. Наиболее тесный и постоянный контакт между жизнедеятельностью и идеалом осуществляется там, где идея нацелена на улучшение и усовершенствование мира как такового. Тогда воодушевление и мужество направлены на сам вещественный труд, тогда энергией пронизана непосредственная действительность, и люди, действующие в соответствии со своей жизненной целью, одновременно устремлены к достижению идеала. Если угодно, воодушевляющим мотивом и здесь служит мечта о счастье. В известной степени каждая культура стремится к осуществлению мира грез в рамках действительности, прибегая для этого к преобразованию форм данного общества. Однако если в ином случае речь идет лишь о духовном преобразовании: о противопоставлении кажущейся достижимости совершенства – грубой действительности, с тем чтобы обрести возможность забыть о последней, на сей раз предмет мечты – действительность сама по себе. Именно ее хотят преобразовать, очистить, улучшить; мир кажется на правильном пути к идеалу только в том случае, если люди продолжают расширять свою деятельность. Идеальная форма жизни кажется лишь незначительно отдаленной от того, что должно быть реально достигнуто; расхождение между мечтой и действительностью не вызывает сколько-нибудь значительного напряжения. Там, где люди удовлетворяют свои стремления к наивысшей продуктивности и более справедливому распределению товаров, где содержанием идеала является благоденствие, свобода и культура, там к искусству жить предъявляются сравнительно малые требования. Там нет необходимости акцентировать положение человека как лица высокого ранга, как героя, мудреца или же подчеркивать черты его придворной утонченности.
Совершенно иное влияние на реальную жизнь оказывает первое из трех направлений: отрицание мира. Тоска по вечному блаженству делает ход земного бытия и формы его безразличными – при условии, что насаждается и поддерживается добродетель. Образу жизни и общественным формам позволяют сохраняться такими, каковы они есть, стремясь, однако, к тому, чтобы они были проникнуты трансцендентальной моралью. Тем самым отвержение мира воздействует на общество не только негативно, через отречение и отказ, но и отражается на нем усилиями полезной деятельности и практического милосердия.
Как же всё-таки влияет на жизнь третье направление: стремление к более прекрасной жизни в согласии с существующим в мечтах идеалом? Оно преобразовывает формы жизненного уклада – в художественные. Но не только в художественных произведениях как таковых выражает оно свою мечту о прекрасном, оно хочет облагородить самоё жизнь тем, что вносит в нее прекрасное, оно наполняет общество элементами игры и новыми формами. Здесь самые высокие требования предъявляются именно к индивидуальному искусству жить, – требования, следовать которым в перипетиях искусной жизненной игры может только элита. Подражать герою и мудрецу доступно не всякому; расцвечивать жизнь героическими или идиллическими красками – слишком дорогое удовольствие, и обычно это не очень-то удается. На стремлении к осуществлению мечты о прекрасном в рамках самогó общества как vitium originis [изначальный порок] лежит отпечаток аристократичности.
Теперь мы приблизились к определению того, под каким углом зрения следует рассматривать культуру на исходе Средневековья. Это – расцвечивание аристократической жизни идеальными формами, жизни, протекающей в искусственном освещении рыцарской романтики; это мир, переодетый в наряды времен короля Артура. Напряжение между формами жизненного уклада и действительностью чрезвычайно велико, освещение сцены – яркое и неестественное.
Желание прекрасной жизни считают наиболее заметным признаком Ренессанса. Именно там видят наиболее полную гармонию между удовлетворением жажды прекрасного в произведениях искусства – и в самой жизни; искусство там служит жизни, а жизнь – искусству как никогда раньше. Но границу между Средневековьем и Ренессансом также и в этом проводят, как правило, слишком резко. Страстное желание облечь жизнь в прекрасные формы, утонченное искусство жизни, красочная разработка жизненного идеала – всё это много старше итальянского кватроченто. Мотивы украшения жизни, развиваемые флорентийцами, суть не что иное, как продолжение старой средневековой традиции: Лоренцо Медичи в той же мере, что и Карл Смелый, придерживается старого рыцарского идеала, видя в нем благородную жизненную форму, которую в некоторых отношениях воспринимает как образец, несмотря на всё ее чисто варварское великолепие. Италия открыла новые горизонты прекрасного в самой жизни, и та действительно зазвучала по-новому, однако отношение к жизни, которое обыкновенно считается характерным для Ренессанса, – стремление придать собственной жизни художественную форму – без преувеличения, никоим образом не было впервые выражено Ренессансом.
Решительное размежевание воззрений на прекрасное в жизни происходит скорее между Ренессансом и эпохой Нового времени. И поворотный пункт находится там, где искусство и жизнь начинают отходить друг от друга, где искусством начинают наслаждаться уже не непосредственно в ходе самой жизни, как благородной частью жизненных радостей, – но в отрыве от жизни, когда к искусству относятся как к чему-то достойному высшего поклонения и обращаются к нему в моменты отдохновения и подъема. Былой дуализм, отделявший Бога от мира, тем самым возвращается вновь, но уже в иной форме: разделения искусства и жизни. Жизненные радости рассечены прямою чертой, которая делит их на две половины: низшую и высшую. Для человека Средневековья обе они были греховны; теперь же и ту, и другую считают дозволенными, признавая, однако, за ними отнюдь не одинаковые достоинства, в зависимости от их большей или меньшей духовности.
Вещи, которые могут превращать жизнь в наслаждение, остаются всё теми же. Теперь, как и раньше, это – чтение, музыка, изящные искусства, путешествия, природа, спорт, мода, социальное тщеславие (награды, съезды, почетные должности) и чувственные удовольствия. Граница между высшим и низшим сейчас, как кажется, для большинства всё еще проходит между любованием красотами природы – и спортом. Но граница эта не является жесткой. Вероятно, вскоре спорт, во всяком случае, поскольку он является искусством физической силы и доблести, вновь будет отнесен к более высокому рангу. Для человека Средневековья эта граница пролегала сразу же после чтения, но и удовольствие от чтения могло быть освящено лишь стремлением к мудрости и добродетели; в музыке же и в изобразительном искусстве только служение вере почиталось благом; удовольствие само по себе было греховно. Ренессанс уже покончил с отвержением радости жизни как греховной по самой своей природе, но еще не ввел нового разделения между жизненными удовольствиями высшего и низшего порядка; он желал наслаждаться всей жизнью в целом. Это новое разграничение возникло как результат компромисса между Ренессансом и Пуританизмом, компромисса, который лег в основу духовной ориентации нашего времени. Здесь можно говорить о взаимной капитуляции, причем первый оговорил для себя спасение красоты, а второй – осуждение греха. Для старого Пуританизма осуждение в качестве греховного и мирского – в сущности, так же как и для человека Средневековья – распространялось на всю сферу красивого в жизни в тех случаях, когда оно не принимало явно выраженных религиозных форм и не освящалось прямым отношением к вере. Лишь по мере того как хирело пуританское мировоззрение, ренессансное приятие всей радостной стороны жизни вновь завоевывало позиции и даже расширяло свою территорию, опираясь на возникшую начиная с XVIII столетия склонность видеть в природном, взятом как оно есть, даже элемент добра в этическом смысле. Тот, кто захотел бы сейчас попробовать провести между жизненными наслаждениями высшего и низшего порядка линию раздела так, как это диктует нам этическое сознание, более не стал бы отделять искусство – от чувственного наслаждения; удовольствие, которое мы находим в общении с природой, – от физических упражнений; возвышенное – от естественного; но лишь эгоистическое, лживое и пустое – от чистого.
На исходе Средневековья, когда уже произошел поворот к новому духу, выбор в принципе возможен был по-прежнему лишь между мирским и небесным: или полное отвержение красоты и великолепия земной жизни – или безрассудное приятие всего этого, не сдерживаемое более страхом погубить свою душу. Мирская красота из-за признанной ее греховности становилась вдвойне притягательной; если перед нею сдавались, то наслаждались ею с безудержной страстностью. Те же, кто не мог обходиться без красоты, не желая тем не менее отступать перед мирскими соблазнами, вынуждены были красоту эту облагораживать. Искусство и литература в целом, наслаждение которыми, по существу, сводилось к восхищению ими, могли быть освящены, будучи поставлены на службу вере. И если на самом деле поклонники живописи и миниатюры искали радость в цвете и линии, то религиозный сюжет освобождал художественное произведение от печати греховности.
Ну а та красота, где греха было много больше? Обожествление телесной прелести в рыцарском спорте и придворных модах, высокомерие, алчная жажда высоких должностей и стремление к почестям, безмерные восторги любви – как облагородить и возвысить всё то, что было осуждено и изгнано верой? – Для этого служил средний путь, уводивший в мир грез, облекавший все эти влекущие соблазны прекрасным сиянием старых, фантастических идеалов.
Это как раз та черта, которая французскую рыцарскую культуру с XII в. связывает с Ренессансом: настойчивое культивирование прекрасной жизни в формах героического идеала. Почитание природы было еще слишком слабым, чтобы можно было с полной убежденностью служить обнаженной земной красе в ее чистом виде, как то было свойственно грекам; сознание греха было для этого слишком уж сильно; лишь набросив на себя одеяние добродетели, красота могла стать культурой.
Жизнь аристократии во времена позднего Средневековья, независимо от того, подразумевать ли здесь Францию и Бургундию – или Флоренцию, это попытка разыгрывать грезу, делая участниками всегда одного и того же спектакля то древних греков и мудрецов, то рыцаря и непорочную деву, то бесхитростных пастухов, довольствующихся тем, что имеют. Франция и Бургундия играют этот спектакль всё еще в старой манере; Флоренция точно на ту же тему сочиняет новую, и более прекрасную, пьесу.
Жизнь двора и аристократии украшена до максимума выразительности; весь жизненный уклад облекается в формы, как бы приподнятые до мистерии, пышно расцвеченные яркими красками и выдаваемые за добродетели. События жизни и их восприятие обрамляются как нечто прекрасное и возвышенное. Я хорошо знаю, что это не является спецификой исключительно позднего Средневековья; всё это произрастало уже на первобытных стадиях культуры; это можно было видеть также в Китае и Византии; и это вовсе не умирает вместе со Средневековьем, свидетельство чему – Король-Солнце145145
Король-Солнце – прозвище короля Франции Людовика XIV. При нем могущество страны и абсолютная власть монарха достигли высшей точки («Государство – это я»). Чрезвычайно высокое мнение Людовика о своем положении побуждало его культивировать исключительно пышный и сложный придворный церемониал. Прозвище его не было стертым официальным эпитетом, а скорее аллегорией, вполне серьезно воспринимаемой королем, – достаточно вспомнить солярную символику архитектуры Версаля.
[Закрыть].
Двор – та сфера, где эстетика формы жизненного уклада могла раскрываться наиболее полно. Известно, какое значение придавали герцоги Бургундские всему, что касалось придворной роскоши и великолепия. После воинской славы двор, говорит Шателлен, – первое, к чему следует относиться с особым вниманием; содержать его в образцовом порядке и состоянии – важнейшее дело146146
Chastellain. V, p. 364.
[Закрыть]. Оливье дё ля Марш, церемониймейстер Карла Смелого, по просьбе короля Англии Эдуарда IV написал трактат об устройстве двора герцогов Бургундских, с тем чтобы предложить королю образец церемониала и придворного этикета в качестве примера для подражания147147
La Marche. IV, p. CXIV. Старый нидерландский перевод его Estât de la maison du duc Charles de Bourgogne см.: Matthaeus A. Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa. I, p. 357–494.
[Закрыть]. Изящная и утонченная придворная жизнь Бургундии была унаследована Габсбургами, которые перенесли ее в Испанию и Австрию, где она сохранялась вплоть до последнего времени. Бургундский двор неустанно прославляли как богатейший и наиболее хорошо устроенный по сравнению со всеми прочими148148
Christine de Pisan. Œuvres poétiques / Ed. M. Roy (Soc. des anciens textes français). 1886–1896. 3 vol. I, p. 251, № 38; Léo von Rozmitals Reise / Ed. Schmeller (Bibl. d. lit. Vereins zu Stuttgart, VII), 1844, p. 24, 149.
[Закрыть]. В особенности Карл Смелый, чью душу обуревало рвение к насильственному насаждению порядка и всякого рода правил – и который повсюду оставлял за собой сплошную неразбериху, – испытывал страсть к высокоторжественным церемониям. Старинную иллюзию относительно того, что государь самолично выслушивает и тут же разрешает жалобы и прошения малых сих, он облек в пышную, великолепную форму. Два-три раза в неделю, после полуденной трапезы, герцог приступал к публичной аудиенции, и каждый мог приблизиться к нему и вручить то или иное прошение. Все придворные неукоснительно должны были при этом присутствовать, и никто не отваживался уклониться от этой чести. Тщательно размещенные соответственно занимаемому ими рангу, восседали они по обе стороны от прохода, который вел к герцогскому высокому трону. Подле него находились два коленопреклоненных maistres des requestes [магистра прошений], audiencier [аудитор] и секретарь, которые читали и рассматривали прошения по высочайшему указанию герцога. За балюстрадой, окружавшею зал, стояли придворные более низкого ранга. Это была, говорит Шателлен, по своему виду «une chose magnifique et de grand los» [«вещь величественная и полная славы»], – правда, вынужденные присутствовать зрители ужасно скучают, да и сам он испытывает сомнение относительно добрых плодов подобного судопроизводства; это была такая вещь, которой ему за всё его время ни разу не доводилось видеть ни при одном дворе149149
La Marche. IV, p. 4 ff.; Chastellain. V, p. 370.
[Закрыть].
По мнению Карла Смелого, развлечения также должны были быть облечены в пышные, великолепные формы. «Tournoit toutes ses manières et ses mœurs à sens une part du jour, et avecques jeux et ris entremeslés, se délitoit en beau parler et en amonester ses nobles à vertu, comme un orateur. Et en cestuy regart, plusieurs fois, s’est trouvé assis en un hautdos paré, et ses nobles devant luy, là où il leur fit diverses remonstrances selon les divers temps et causes. Et toujours, comme prince et chef sur tous, fut richement et magnifiquement habitué sur tous les autres»150150
Chastellain. V, p. 368.
[Закрыть] [«Все помыслы свои и поведение свое часть дня обращая к смыслу, занятия свои перемежая смехом и играми, упивался он красноречием, увещевая придворных призывами к добродетели, подобно оратору. Посему и не раз видели его восседающим на своем троне с высокою спинкою, и его придворные перед ним, он же приводил им все свои разъяснения, судя по времени и обстоятельствам. И был он всегда, как подобает владыке и господину над всеми ими, одеянием богаче и пышнее всех прочих»]. Это сознательное искусство жизни, хотя и принимающее застывшие и наивные формы, собственно говоря, выглядит как вполне ренессансное. Называемое Шателленом «haute magnificence de cœur pour estre vu et regardé en singulières choses» [«высоким великолюбием сердца, дабы зримым и явленным быть в вещах особенных»], оно выступает как характернейшее свойство буркхардтовского ренессансного человека.
Иерархические предписания, касающиеся распорядка придворной жизни, отличаются пантагрюэлевской сочностью во всём, что имеет отношение к еде или кухне. Обед при дворе Карла Смелого со всеми, почти с литургической значимостью, заранее обусловленными обязанностями хлебодаров и стольников, виночерпиев и кухмейстеров, уподобляется грандиозному театральному представлению. Придворные были разделены на группы по десять человек, каждая из которых вкушала свою трапезу в отдельной палате, и все были обслуживаемы и потчуемы так же, как и их господин, в тщательном соответствии с их рангом и знатностью. Очередность была рассчитана так хорошо, что каждая группа, после окончания своей трапезы, своевременно могла подойти с приветствием к герцогу, еще восседавшему за столом, «pour luy donner gloire»151151
La Marche. Estât de la maison. IV, p. 34 ff.
[Закрыть] [«дабы воздать ему славу»].
Оставшийся неизвестным участник некоей скромной трапезы в Танне 21 июня 1469 г., которую герцог Сигизмунд предложил разделить бургундским посланцам по случаю своего вступления во владение графством Пфирт, не мог не почувствовать своего превосходства, столкнувшись с принятыми у немцев обычаями застолья: «а то еще жареные пескари, коими упомянутый австрийский господин мой сорил по столу… Item следует заметить, что, как только подавали новое блюдо, каждый хватал не медля, и порою ничтожнейший приступал к нему первым»152152
Nouvelles envoyées de la conté de Ferrette par ceulx qui en sont esté prendre la possession pour monseigneur de Bourgogne / Ed. E. Droz. Mélanges de philologie et d’histoire offerts à M. Antoine Thomas. Paris, 1927, p. 145.
[Закрыть].
В кухне (представьте себе эту исполинскую кухню – ныне единственное, что осталось нетронутым в герцогском дворце в Дижоне153153
Герцогский дворец в Дижоне подвергся коренной перестройке в XVII–XVIII вв.
[Закрыть], – и ее семь огромных каминов) дежурный повар восседает на возвышении между каминами и буфетом, откуда он может обозревать всё помещение. В руке он держит громадную деревянную поварешку, «каковую использует он двояко: во-первых, чтобы пробовать супы и соусы, а во-вторых, чтобы подгонять поварят, отсылая их из кухни по какой-либо надобности, а то и хлопнуть кого-нибудь из них, коли уж очень приспичит». В особых случаях повар подает блюдо сам: держа одной рукой факел, а другой неся, скажем, первые трюфели или первую свежую сельдь.
Влиятельный придворный, нам всё это описывающий, видит здесь своего рода священную мистерию, о которой он повествует с почтением и с некоторой долей схоластической наукообразности. В бытность свою пажом, говорит Ля Марш, я был еще слишком юн, чтобы разбираться в вопросах préséance [приоритета] и различать тонкости церемониала154154
La Marche. I, p. 277.
[Закрыть]. И, ставя перед своими читателями глубокомысленные вопросы относительно придворной службы и первенства в ранге, он разрешает их, опираясь на зрелость своих нынешних знаний. Почему при трапезе своего господина присутствует повар, а не поваренок, то есть мастер, а не подмастерье? Как решается вопрос о назначении повара? Кто должен замещать его на время отсутствия: мастер по приготовлению жаркого (hateur) или мастер по приготовлению супов (potagier)? На это, говорит наш рассудительный автор, отвечу я так: когда нужно подыскать человека на место придворного повара, домоправители (maîtres d’hôtel) должны созвать одного за другим всех кухонных подмастерьев (escuiers de cuisine) и всех прочих из тех, кто служит на кухне; каждый из них, под присягой, торжественно подает свой голос, и таким образом повар считается избранным. Что же касается ответа на второй вопрос – ни тот ни другой; лицо, замещающее повара, также должно определяться путем проведения выборов. Далее. Почему хлебодары и кравчие занимают соответственно первое и второе места, возвышаясь над поварами и стольниками? Потому что их обязанности охватывают хлеб и вино, предметы священные, осиянные высоким значением таинства155155
La Marche. Estât de la maison. IV, p. 34, 51, 20, 31.
[Закрыть].
Мы видим, что здесь действенно связываются две сферы мышления: относящиеся к вере – и к придворному этикету. Не преувеличивая, можно сказать, что в этой системе прекрасных благородных форм жизненного уклада скрывается литургический элемент, что почитание этих форм как бы переводится в квазирелигиозную сферу. И только это объясняет ту чрезвычайную важность, которая в таких случаях приписывается (и не только в позднем Средневековье) всем вопросам первенства и учтивости.
В старой, доромановской России борьба за первенство у трона развилась вплоть до создания постоянного учреждения, распределявшего должности государственной службы156156
Система местничества, то есть назначения на государственные и военные должности в зависимости от знатности рода, служебного положения предков и личных заслуг, возникла при московском великокняжеском (позднее царском) дворе в XIV в. и окончательно утвердилась к концу XV в. Внешним выражением иерархии являлось место, занимаемое за царским столом во время заседаний или трапез: чем более высокую должность занимал тот или иной боярин, тем ближе к царю он сидел. Был создан специальный Разрядный приказ, то есть что-то вроде министерства (историки спорят о времени его учреждения; в 1535 г. он точно существовал), занимавшегося правилами местничества и составлявшего специальные разрядные книги.
Определение доромановская Россия не вполне точно, вернее было бы сказать допетровская, так как местничество было отменено в 1682 г. Федором Алексеевичем (1661–1682), третьим царем (с 1676 г.) из династии Романовых, старшим братом и прямым предшественником Петра I (1672–1725, русский царь с 1682 г., император всероссийский с 1721 г.).
[Закрыть]. Подобных форм не знают западные страны Средневековья, но и здесь ревность в вопросах первенства занимает важное место. Многочисленные примеры этого было бы привести вовсе не трудно. Здесь, однако, важно отметить стремление украшать различные стороны жизни вплоть до превращения ее в некую прекрасную и возвышенную игру, и при этом – постепенное сведение всех этих форм к пустому спектаклю. Вот некоторые примеры. Соблюдение формы иногда может полностью переместить на себя целенаправленность того или иного поступка. Накануне битвы при Креси четыре французских рыцаря отправляются разведать особенности боевого порядка англичан. Король медленно едет по полю верхом, с нетерпением ожидая их возвращения. Увидев их издали, он останавливается. Прокладывая себе путь сквозь скопление солдат, они приближаются к королю. «Какие новости, господа?» – спрашивает король. «Вначале они взирали друг на друга, не произнося ни слова, ибо никто не желал говорить раньше, чем кто-либо из его спутников, а затем стали обращаться один к другому со словами: „Сударь, прошу Вас, расскажите Вы королю, раньше Вас говорить я не буду“. Так они препирались какое-то время, и никто par honneur [из почтения] не хотел быть первым». Пока, наконец, король не вынужден был приказать это одному из рыцарей, на ком он сам остановил выбор157157
Froissart. III, p. 172.
[Закрыть]. – Еще заметнее целесообразность отступает перед декором в поведении мессира Голтье Раллара, chevalier de guet [рыцаря стражи] в Париже в 1418 г. Этот глава полиции имел обыкновение никогда не делать обхода без того, чтобы ему не предшествовали три-четыре трубача, которые весело дудели в свои трубы, так что в народе говорили, что он словно бы предупреждает разбойников: бегите, мол, прочь, я уже близко!158158
Journal d’un bourgeois, p. 105, § 281.
[Закрыть] Этот случай не стоит особняком. В 1465 г., мы опять-таки видим, епископ Эврё Жан Балю совершает в Париже ночные обходы в сопровождении музыкантов, играющих на рожках, трубах и других инструментах, «qui n’estoit pas acoustumé de faire à gens faisans guet» [«чего не было в обычае тех, кто несет стражу»]159159
Chronique scandaleuse. I, p. 53.
[Закрыть]. – Даже при совершении казни строго принимается во внимание честь, которую следует воздавать рангу и званию: эшафот, воздвигнутый для коннетабля Сен-Поля, украшен богатым ковром, на котором вытканы лилии; подушечка, которую ему подкладывают под колени, и повязка, которой ему завязывают глаза, из алого бархата, а палач еще ни разу не казнил ни одного осужденного160160
Ремесло палача требовало немалой сноровки, и неопытный палач был не в состоянии отрубить голову одним ударом. Однако дополнительные муки жертвы вряд ли входили в намерения Людовика XI, приговорившего коннетабля к смерти. Видимо, здесь, по употребленному выше выражению автора, «целесообразность отступает перед декором».
[Закрыть] – для знатной жертвы весьма сомнительная привилегия161161
Molinet. I, p. 184; Basin. II, p. 376.
[Закрыть].
Соревнование в учтивости, которое нынче приобрело мелкобуржуазный характер, было до чрезвычайной степени развито в придворном обиходе XV в. Каждый счел бы для себя невыносимым позором не предоставить старшему по рангу место, которое ему подобало. Герцоги Бургундские скрупулезно отдают первенство своим королевским родственникам во Франции. Иоанн Бесстрашный постоянно оказывает почести своей невестке Мишели Французской; несмотря на то что ее положение не давало для этого достаточных оснований, он называет ее Мадам162162
В средневековой Франции обращение Мадам относили только к жене и матери короля, а также к женам старшего из его братьев и старшего сына. Мишель Французская, дочь короля Карла VI, строго говоря, не имела права на такое обращение.
[Закрыть], неизменно преклоняет перед нею колени, склоняется до земли и старается во всём ей услужить, пусть даже она и пробует от этого отказаться163163
Aliénor de Poitiers. Les honneurs de la cour / Ed. La Curne de Sainte Palaye, Mémoires sur l’ancienne chevalerie (édit. de 1781) (далее: Aliénor de Poitiers). II, p. 201.
[Закрыть]. Когда Филипп Добрый слышит, что дофин, его племянник, бежит в Брабант из-за ссоры с отцом, он прерывает осаду Девентера, – которая должна была послужить первым шагом в кампании, направленной на подчинение его власти Фрисландии, – и спешит вернуться в Брюссель, чтобы приветствовать своего высокого гостя. По мере того как близится эта встреча, между ними начинается подлинное состязание в том, кто из них первым окажет почесть другому. Филипп в большом страхе из-за того, что дофин скачет ему навстречу: он мчится во весь опор и шлет одного гонца за другим, умоляя его подождать, оставаясь там, где он находится. Если же принц поскачет ему навстречу, то тогда он клянется тотчас же возвратиться обратно и отправиться столь далеко, что тот нигде не сможет его отыскать, – ибо таковой поступок будет для него, герцога, стыдом и позором, которыми он навечно покроет себя перед всем светом. Со смиренным отвержением придворного этикета Филипп верхом въезжает в Брюссель, быстро спешивается перед дворцом и спешит внутрь. И тут он видит дофина, который, сопровождаемый герцогиней, покинул отведенные ему покои и, пересекая внутренний двор, приближается к нему, раскинув объятия. Тотчас же старый герцог обнажил голову, пал на колени и так поспешил далее. Герцогиня же удерживает дофина, дабы не мог он сделать ни шагу навстречу. Тщетно пытается дофин справиться с герцогом, прилагая напрасные усилия, чтобы заставить его подняться с колен. Оба рыдают от волнения, говорит Шателлен, а с ними и все те, кто при этом присутствует.
В течение всего времени, пока там гостил тот, кто вскоре, став королем, сделается злейшим врагом Бургундского дома, герцог изощрялся в истинно китайском подобострастии. Он называет себя и своего сына «de si meschans gens» [«такими злодеями»]; в свои шестьдесят лет с непокрытой головой стоит под дождем; он предлагает дофину все свои земли164164
Chastellain. III, p. 196–212, 290, 292, 308; IV, p. 412–414, 428; Aliénor de Poitiers, p. 209, 212.
[Закрыть]. «Celuy qui se humilie devant son plus grand, celuy accroist et multiplie son honneur envers soy-mesme, et de quoy la bonté mesme luy resplend et redonde en face» [«Кто уничижается перед старшим, тот возвышает и умножает собственную честь, и посему добрые его достоинства преизобильно сияют на его лике»]. Такими словами заключает Шателлен рассказ о том, как граф Шароле упорно отказывается воспользоваться для умывания перед трапезой одной и той же чашей, что и королева Маргарита Английская165165
Королева Англии Маргарита Анжуйская бежала вместе с сыном в Нидерланды. Бургундские герцоги поддерживали дружественные отношения с Йорками, поэтому, несмотря на весь почет, оказанный низложенной королеве, ее вежливо выпроводили из герцогских владений во Францию, подарив, правда, две тысячи золотых крон. Однако всю эту церемонную почтительность нельзя считать лицемерием. Выказанное уважение – это действие по отношению к Маргарите как к женщине и королеве, и оно лежит в сфере куртуазности, а отказ в убежище – это действие по отношению к ней же как к политическому противнику, и оно оказывается уже в сфере дипломатии; обе эти сферы не пересекаются.
[Закрыть] вместе с ее юным сыном. Именитые особы целый день только и говорят об этом; эпизод доводят до сведения старого герцога, который предоставляет двум своим приближенным обсудить в поведении Карла все «за» и «против». Феодальное чувство чести было всё еще настолько живо, что подобные вещи почитались действительно важными, прекрасными и возвышенными. Да и как иначе понять длящиеся порой по четверти часа пререкания о том, кому в том или ином случае должно быть предоставлено первенство166166
Aliénor de Poitiers, p. 210; Chastellain. IV, p. 312; Juvenal des Ursins, p. 405; La Marche. I, p. 278; Froissart. I, p. 16, 21.
[Закрыть]. И чем дольше при этом отказываются, тем большее удовлетворение испытывают присутствующие. Приближающийся к даме с намерением поцеловать руку видит, как та ее тотчас же убирает, дабы избежать этой чести. Испанская королева прячет свою руку от юного эрцгерцога Филиппа Красивого; тот некоторое время выжидает, делая вид, что оставил свое намерение, но как только предоставляется удобный случай, он неожиданно хватает и целует руку королевы. Чопорный испанский двор на сей раз не может удержаться от смеха, ибо королева уже и думать забыла о грозившем ей поцелуе167167
Molinet. V, p. 194, 192.
[Закрыть].
Непроизвольные знаки душевной симпатии на самом деле тщательно формализованы. Точно предписано, каким именно придворным дамам следует ходить рука об руку. И не только это, но также и то, должна ли одна поощрять другую к подобной близости или нет. Такое поощрение, выражающееся в кивке или приглашении (hucher) вместе пройтись, для старой придворной дамы, описывающей церемониал Бургундского двора, понятие – чисто техническое168168
Aliénor de Poitiers, p. 190; Deschamps. IX, p. 109.
[Закрыть]. Обычай, велевший не отпускать уезжающего гостя, принимает формы крайней докучливости. Супруга Людовика XI несколько дней гостит у Филиппа Бургундского; король точно установил день ее возвращения, однако герцог отказывается ее отпускать, несмотря на мольбы со стороны ее свиты и невзирая на ее трепет перед гневом супруга169169
Chastellain. V, p. 27–33.
[Закрыть]. – «Es gibt kein äußeres Zeichen der Höflichkeit, das nicht einen tiefen sittlichen Grund hätte» [«Нет такого внешнего знака учтивости, который не имел бы глубоких нравственных оснований»], как сказал Гёте; «virtue gone to seed» [«отцветшей добродетелью»] называл вежливость Эмерсон. Быть может, и не следует настаивать на убеждении, что эти нравственные основания всё еще ощущались в XV в., но бесспорно придание всему этому эстетической ценности, занимающей промежуточное положение между искренним изъявлением симпатии – и сухими формулами обихода.
Совершенно очевидно, что такое всеобъемлющее приукрашивание жизни прежде всего получает распространение при дворе, где для этого возможно было найти и время и место. Но о том, что оно также проникало и в более низкие слои общества, свидетельствует тот факт, что еще и сейчас большинство этих форм учтивости сохранилось именно в мелкобуржуазных кругах (если не говорить о придворном этикете). Повторные просьбы откушать еще кусочек, долгие уговоры уходящего гостя посидеть еще немного, отказ пройти первым – ко второй половине XIX в. из обихода верхних слоев буржуазного общества подобные манеры по большей части уже исчезли. Но в XV в. эти формы обихода еще в полном расцвете. И всё же, в то время как они неукоснительно принимаются во внимание, сатира делает их постоянным предметом своих насмешек. В первую очередь это касается церкви как места пышных и продолжительных церемоний. Прежде всего это offrande – приношение, которое никто не желает возложить на алтарь первым.
Passez. – Non feray. – Or avant!
Certes si ferez, ma cousine.
– Non feray. – Huchez no voisine,
Qu’elle doit mieux devant offrir.
– Vous ne le devriez souffrir,
Dist la voisine: n’appartient
A moy: offrez, qu’a vous ne tient
Que li prestres ne se délivre170170
Deschamps. Le miroir de mariage. IX, p. 109–110.
[Закрыть].
Прошу. – О нет. – Вперед, смелей!
Кузина, право же, ступайте.
– О нет. – Соседке передайте,
И пусть она идет тотчас.
– Как можно? Только после Вас,
Мне дабы не попасть впросак.
Идите Вы, без Вас никак
Священник не приступит к службе.
Когда, наконец, более знатная дама выходит вперед, скромно заявляя, что делает это лишь затем, чтобы положить конец спорам, следуют новые препирательства по поводу того, кто первым должен поцеловать paesberd, la paix [мир], пластинку из дерева, серебра или слоновой кости. В позднем Средневековье вошло в обычай во время мессы, после Agnus Dei171171
Agnus Dei [лат. Агнец Божий] – обращенная к Христу молитва во время мессы перед началом причастия.
[Закрыть], целовать мир вместо того, чтобы, обмениваясь лобзанием мира, целовать друг друга в губы172172
Различные образцы таких paix представлены в: Laborde. II. № 43, 45, 75, 126, 140, 5293.
[Закрыть] 173173
Обряд лобзания мира заключался в том, что епископ целовал в губы священника, тот – диакона, а последний – прихожан по очереди. В Средние века этот раннехристианский обычай сменился иным, по которому все по очереди целовали прямоугольную пластинку (15x10 см) с изображением распятия, получившую от термина osculum pacis [поцелуй мира] названия pax [мир], instrumentum pacis [орудие мира], tabella pacis [пластинка мира] или osculatorium, что можно перевести как поцелуйник.
[Закрыть]. Это превратилось в нескончаемую помеху службе, когда среди знатных прихожан мир переходил из рук в руки, сопровождаемый вежливым отказом поцеловать его первым.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































