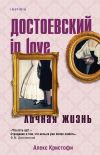Текст книги "Достоевский"

Автор книги: Юлий Айхенвальд
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Оттого на всем его творчестве и лежит глубокий отпечаток двойственности и разлада. Достоевский порождает в читателе нестерпимую жалость, от которой разрывается сердце; он с неотразимой человечностью рисует бедных людей, забитые души, униженных и оскорбленных. И эта оторвавшаяся пуговица на вицмундире Макара Девушкина, эта нужда беспросветная, одуряющая, безнадежная, эти жалкие, оскорбительные жилища, оскорбительные для человеческой души, которая должна в них дышать; этот старик Смит со своей внучкой Нелли, со своей собакой Азоркой, голодные, холодные, обиженные; эта девушка Оля из «Подростка», которая повесилась от недоверия к миру, к обманывающим людям и которую мать все же ищет по улицам, робко всматриваясь в проходящих девушек, – не случится ли чудо, не воскреснет ли дочь; эта драдедамовая шаль Сони Мармеладовой – все это составляло бы уже предельную грань и человеческого несчастия, и сострадания к нему, если бы за нею не виднелись еще излюбленные «маленькие герои» Достоевского – страдающие дети, те, кто по преимуществу не должен бы страдать, те, «через кого душа лечится». Нешалящие, неслышные дети, тихо удивившиеся горестной жизни и так и оставшиеся безмолвно удивленными; этот мальчик, затравленный собаками; эта девочка, которая жестом взрослого отчаяния ломает себе руки, та самая, на чьем страдании Иван Карамазов не хотел бы построить грядущего счастия вселенной; эта девочка-проститутка, которую видел Достоевский в Лондоне и которая приснилась Свидригайлову в его предсмертном кошмаре; эти стоптанные старенькие сапожки, с заплатками, умершего мальчика Илюши Снегирева, – их увидев перед опустевшей постелькой, отец так и бросился к ним, сапожкам без ножек, пал на колени, схватил один сапожок и, прильнув к нему губами, начал жадно целовать его, выкрикивая: «батюшка, Илюшечка, милый батюшка, ножки-то твои где?»; этот другой мальчик, который утопился, потому что он разбил чужую фарфоровую лампу, но, прежде чем броситься в воду, загляделся на ежика в руках у девочки; и этот мальчик, замерзающий у Христа на елке; и эта девочка, на глазах у которой вешается мать, не выдержавшая истязаний мужа, и которая говорит ей: «мама, на что ты давишься?» и другие, и еще другие, и без конца, и в ужасающем разнообразии все это, страдающее без вины, наказанное без преступления, причиняет читателю почти физическую, острую боль, от которой излечишься только слезами, и больше, чем все писатели, собрал Достоевский горькую дань человеческих слез…
Однако он не щадит не только сострадающего, но и самого страдальца. Он заставляет его бередить свои раны, растравлять свою душевную скорбь. Наш человечный писатель свою человечность нередко обращает острым концом. Он любит показывать, как люди, пережив глубокое унижение и обиду, с мучительным наслаждением, с какою-то подлостью лелеют их и еще сильнее, еще сосредоточеннее терзают себя или прикрывают свою боль шутовством. Как они говорят!.. «Чрезвычайная минута судьбы моей»… «утолить благородное нетерпение благороднейших литературных чувств вашего превосходительства»… Достоевский много внимания отдал человеку-шуту и выискивает почти в каждом черты презрительного Терсита, или ростовщика, или палача и в этих поисках забирается в самые сокровенные изгибы чужого духа. Он пьяного чиновника Мармеладова написал так, что Мармеладов отказался бы от его и нашего сочувствия, лишь бы он его не трогал, не обнажал, не заглядывал ему в сердце с таким проникновением и с таким дерзновением, на которое человек по отношению к человеку не имеет права. Есть граница, которой не должна переступать и самая жалость. Разве можно так нецеломудренно выворачивать чью бы то ни было душу? И в том, кто, не щадя стыда и наготы своего брата, осмеливается на это, разве можно провести определенную грань между его любовью и его злобой? И вообще, простит ли человечество Достоевскому то, что он так осквернил человека? И в его психологическом анализе, в этих затейливых арабесках, которые иногда морально утомляют, нет ли чего-то самодовлеющего, праздного, чего-то безнравственного?..
Он так несчастен в своей прозорливости, что почти не в силах понять, как можно любить ближнего. Для любви ему необходимо расстояние. Каждый для него облечен в тайну, которую Достоевский, на горе себе, прозревает. В жизни и в душе у всякого, в биографии и помыслах, где-то в тайниках сознания есть дурное, постыдное, какой-то нетопырь, который вылетает по ночам. В каждом есть секрет, происходит моральное раздвоение, за каждым следует его двойник, и мир содрогнулся бы, если бы люди всецело раскрыли свое существо. И вот, прежде всего замечая это нравственное подполье, зоркий свидетель мрака, как мог Достоевский в одной любви и любовном умилении растворить свою грехами изборожденную и греха взыскующую душу? Он хотел бы и сам быть уже и более узкими видеть других. Его угнетала человеческая широта (особенно в русской натуре подмечал он ее), та трагическая широта, при которой в одном и том же сердце совмещаются идеал Мадонны и идеал Содома, которая дает подняться на светозарные вершины, где сияет чистейшей прелести чистейший образец, где совершается молитва перед Мадонной, перед иконой, и которая оттуда же сразу, насмешливо и грубо, низвергает в такую бездну, где любовно, родственным объятием обнимают человека отвратительные гады и торжествует над ним природа извратившаяся, пошедшая против самой себя, естество, ставшее противоестественным, – потому что ведь наш автор-инквизитор думает именно о Содоме: не легкая или радостная чувственность горит в крови Свид-ригайлова и Ставрогина, не ликование молодого тела слышится в них, а зловеще вспыхивает «разожженный уголек». Для Достоевского огонь сладострастия, «паучьего» сладострастия, не был угасим, для него оно было геенна огненная, зажженная диаволами и, быть может, больше чем для кого бы то ни было, уготованная для него самого. О Wollust! о Holle! – восклицает и Шопенгауэр…
Святыня и Содом – это самое яркое, но не единственное противоречие в душе. Она вообще антиномична по самому существу своему. Она от века безумна, она беззаконна и бессмысленна, и великая иррациональность проникает всю жизнь. В «Мертвом доме» знал Достоевский человека, который в Катеринин день ходил служить панихиду по своей, им же убитой жене. «Действительность невероятна», правда неправдоподобна. Властвует абсурд, и смешны те, кто логичен и из логики хотел бы построить мир. Такой гениальный психолог, Достоевский часто смеялся над всякими попытками приводить душу в систему, и для него психологию разбивает психика. Прихотливы стремления души. И любы ей эпизоды. В своей анархичности и безумии, в своей экстравагантности она вовсе не всегда потворствует, например, инстинкту самосохранения, и человек любит делать себе на зло, любит ужас, боль, оскорбление, изо всей силы придавит себе палец дверью (Лиза из «Братьев Карамазовых»), он не хочет покоя и безмятежного дыхания, хочет смерти, и каждый – потенциальный самоубийца (их много показал Достоевский). Может быть, вся жизнь – не что иное, как борьба с инстинктом самоуничтожения, не что иное, как уклонение от самоубийства. Вообще, прямое и правое создано не для человека, и он – прирожденный преступник, и самые сочинения Достоевского – эринии, которых он выпустил из преисподней и которые своими окровавленными бичами настигают в ужасе бегущего от них злодея. Это неверно, будто в начале мира был невинен человек и только потом его столкнули в пропасть греха. На самом деле преступное искони таится и бродит в глубине нашего духа. Внутренний преступник, Раскольников, с топором в трепещущих руках, под гостеприимным кровом душевной ночи, ждет, беспощадно ждет удобного мгновения, чтобы совершить свое кровавое дело. И самый рок наш состоит в том, что мы встречаем на своей дороге тех, над кем разразится наша преступность. Мы сами не знаем, как мы страшны и какое злодеяние держим в себе наготове. И это не только потому, что роковое сплетение жизненных обстоятельств может легко разорвать паутину нашей призрачной праведности, как это было с белокурой девушкой гетевской трагедии, но и потому, что над нами вообще тяготеют чары зла, обаяние преступности. Несчастные обитатели «Мертвого дома» – это далеко не худшие из нас. Они случайно отброшены в сторону от жизни, в темь и тоску своих рудников, но мы не должны зарекаться от неволи и гордиться своей временной свободой. Ибо удав зла смотрит на нас околдовывающими глазами, и бездна преступления тянет нас с высокой башни к себе, и, кружится у нас голова. Этот соблазн Достоевский показал с силой, никем не превзойденной, и явно из его страниц, как смирный делается преступником. В особенности тревожила его проблема убийства. Как много крови в его произведениях, сколько смертей! Сначала можно подумать, что это странное любопытство к убийству не поднимается у него над плоскостью уголовного романа; но скоро вы приходите к другому выводу – страшному в своей правильности: Достоевский как будто уверен, что всякий должен не только дать кому-нибудь жизнь, но и кого-нибудь убить. Каждый – убийца не случайно, а в силу внутренней необходимости. Убийство – это лишь продолжение и психологически-естественное завершение нашей вражды, нашего своекорыстия, нашей злобы. Взгляды и помыслы убийственны у всех, и, значит, все способны на пролитие крови. Мы не случайно убиваем, а случайно не убиваем. Вопрос о том, кто убил, громко звучит на страницах Достоевского, и с особенной настойчивостью возвращается писатель к убийству отца. Пусть возмущает его речь защитника Димитрия Карамазова, но в глубине души он знает, что в убиении отца есть какая-то мистическая необходимость. Рождающий, дающий жизнь отнимает ее этим у себя. Дети – убийцы. Опять-таки не в том главное, будет ли реально завершена эта внутренняя склонность к убийству или нет, – трагическая сущность остается одинаковой. Интересно, что эта страшная проблема убийства отца давно уже знакома русской литературе, и Достоевский своеобразно наследует здесь Пушкину. Разве Скупой рыцарь, пожаловавшийся герцогу, что сын покушался его убить, оклеветал Альбера? Ведь последний действительно не только хотел, страстно хотел смерти отца и торопил ее в помыслах, но своим появлением и своими словами у герцога и вправду убил старика. Оказался правым отец, и это глубоко символично. Так и у Достоевского: мало того что Димитрий только случайно не убил своего отца, – ведь и фактически убил старого Карамазова его сын: был же сыном ему убивший его Смердяков. Так в таинственную глубину, в общий трагический смысл претворяет Достоевский явления уголовные.
Преступное служит для него только самым страшным проявлением общей человеческой способности к протесту и своеволию. Преступное слабее или сильнее в нас соответственно тому, насколько проникает нашу жизнь душевная смелость. Из послушания и дерзновения сотворен человек. В этом именно смысле и произвел над собою потрясающее испытание Раскольников и не выдержал его: по замыслу автора, может быть и не удавшемуся, не совесть мучила убийцу, а то, что он теоретизировал о своем преступлении, размышлял о нем и этим обнаружил в себе робость, этим оказался далек от своего идеала – от нерассуждающего Наполеона. Да и каждый вообще измерит себя только в том случае, если поймет, где кончается его повиновение и где начинается его дерзновение. Это всю жизнь мучило Достоевского, и не напрасно великий дерзкий нашего времени, Фридрих Ницше, так поклонялся творцу «Преступления и наказания» и больше всего чтил его за это понимание человеческой дерзновенности, которая создает и Прометея, и преступника.
Так все время зияла перед Достоевским бездна противоречий, сомнений и ужаса, разыгрывался мир, как некий «диаволов водевиль», – и он изнемогал под этой тяжестью, потому что нет ведь большей муки, чем понимать человека так, как понимал его он. Без пощады к себе и другим, без иллюзий, без возвышающего обмана созерцать подполье, «огорошивать Шиллера» и чувствовать неотразимую власть тьмы, которая не может быть рассеяна никакими внешними лучами, которую надо победить только напряжением собственного морального существа; еще до смерти познать ад и проводить в нем свою духовную жизнь, глядеть в лицо Медузе и не окаменеть, не застыть в страдании, а вечно трепетать и корчиться от боли, ужасать людей и из этой пропасти поднимать руки ко Христу – вот что было суждено Достоевскому.
Пушкин тоже хотел жить, чтобы мыслить и страдать; но его страдание было запечатлено светлостью, которой не пришлось испытать рыцарю черного духа, страстотерпцу черной болезни. И это важно, и это трогательно, что всю свою жизнь тяготел он к Пушкину, хранил к нему благоговейное чувство и, сам изнывая от внутренних дисгармоний, молился на его целомудрие, на дивную гармоничность его красоты. К ногам Татьяны склонил он свою повинную, преступную голову и в пушкинских героях увидел ту всечеловечность, которую приписывал всей России, считая Россию фактом мировым. «Несчастный скиталец», «исторический русский страдалец», который не примиряется на меньшем, чем счастье всех людей, и ради этого большого будущего счастья приносит в жертву свою собственную скромную радость, всю свою маленькую жизнь, – этот герой бескорыстия примирил Достоевского с нигилистом, и, может быть, после знаменитой речи его на пушкинском празднестве именно те юноши плакали от волнения и падали в обморок, именно те девушки целовали ему руки, которым он же объяснил, в чем заключается высший смысл их служения и страдания. Вот страдание – это и есть то, что нужно Достоевскому, и когда приближался к нему человек измученный, тогда уж он не спрашивал о его мировоззрении, о его политических взглядах, тогда рисовал он и нигилизм в тонах сочувствия и понимания. Он вообще не Лесков; он и в смешном Лебезятникове, поборнике коммуны, подметит благородство. Или вспомните жену Шатова и все эти нестерпимо жалостные, угнетающие, но полные ласки и участия страницы, где описано ее возвращение к мужу и как она, уже для Достоевского не нигилистка, а просто бедная странница и страдалица, все повторяет: «Ох, устала!., ох, только я устала!» – и видятся за нею, и слышатся за этими восклицаниями долгие человеческие дороги, женская обида и невыплаканные слезы…
От своих и чужих страданий, от своей безумной любви к страданию Достоевский искал спасения в Боге, и он страстно о Нем говорил, глубоко Его доказывал, но сквозь все эти убежденные речи все же чуется незаглушенная тревога, мучительная, отчаянная, – тревога о том, что, может быть, Бога и нет; может быть, вечность представляет собою лишь нечто в роде бани с затканными паутиной стенами… Все соблазны безверия, все «наглые пробы» кощунства знает творец Петра Верховенского, и это он сам вместе с Версиловым разбивает образ, и слишком веришь ему, когда он утверждает, что его осанна прошла через горнило сомнений. Мира ведь не принял все-таки Иван Карамазов; но, отвергая произведение, тем самым отвергаешь и автора. Впрочем, Достоевский, как религиозный мыслитель, требует специального исследования – не здесь, где намечаются лишь самые общие контуры его души. Скажем одно: если и сомнительно, нашел ли он сам Бога и успокоился на Нем, решил ли он для себя вековечный вопрос Тефицеи, подавил ли в себе бунт Ивана Карамазова и признал, что зло заслужено, что все виноваты за все и даже «дите» не страдает безвинно; если вопреки общепринятому взгляду позволительно думать, что Достоевский, больше, чем кто бы то ни было, знавший, что можно сказать против Бога, уже поэтому одному – великий атеист, а не христианин, – то уж во всяком случае несомненно, что чужую веру, чужое благочестие и умиление он понимал глубоко и бережно входил в душу верующую. Ему понятно было и «касание мирам иным», и то благоволение и благословение, которое посылает этому, нашему, миру человек примиренный и просветленный. И такой божьей и человеческой красотою веет от этих слов Макара Ивановича: «Травка растет – расти, травка Божья; птичка поет – пой, птичка, тоже; ребеночек у женщины на руках пискнул – Господь с тобою, маленький человек, расти на счастие, младенчик». Всепобеждающая любовь осеняла своим крылом и автора «Бедных людей». И это он дал глубокое определение, что «ад есть страдание о том, что нельзя уже больше любить». Такому аду праведник Зосима никогда не будет подвержен, и вот именно эта неиссякаемость любви делает образ благодатного старца едва ли не самой чистой и примирительной звездою на темном горизонте Достоевского, на этом «черном, как будто тушью залитом куполе петербургского неба». Зосима-Достоевский понял, что такое Бог для людей: Бог – это великий собеседник. Все заняты, все спешат, каждому некогда, но есть в мире Существо, у которого есть для всех время и внимание и которому каждая «верующая баба» и последний поденщик на земле могут поведать свое горе, принести свои слезы и заботы и все рассказать. Есть некто, кто всегда слушает, и уже за это почиет на нем благословение человечества. Пусть и не помогает Он, но среди мирского равнодушия и уединенности безмерно и то благодеяние, что Он – всеобщий собеседник, и как много уже выслушал Он на своем долгом веку! Это великое внимание Божества, никогда не заполнимое, никогда не устающее, и выражает собою в возможной, человеческой, степени старец Зосима, и за это к нему стекаются толпы недужных и страдающих людей, матери осиротелые, матери бездетные, кликуши несчастные, и каждой он говорит участливо: ты с чем, родненькая? Он не творит чудес – но разве они нужны? разве недостаточно того, что эта крестьянка с горящими глазами, видимо преступница, доверчиво подходит к нему – и «постой, сказал старец и приблизил ухо свое прямо к ее губам»?
Приблизил ухо свое и Достоевский ко всему страданию и ко всему преступлению мира, но отозвались они в душе не покойной и мирной, как у Зосимы. К ней он только с мукой и страстью тяготел, но самая жизнь его сложилась не так, чтобы он мог взойти на высоту всепрощения и кротости. Синтеза в нем не произошло; не исцелилась его растерзанная душа.
Тусклое, серое, однообразное детство под эгидой требовательного отца, который слишком тяжело и серьезно переносил жизнь; больничный сад, где первыми собеседниками ребенка явились больные; ненавистная школа, крепость, позорный столб, ожидание казни, наступающей с минуты на минуту, каторга, недуг, нужда, смерть жены, смерть ребенка – таковы впечатления, которые приняло его впечатлительное сердце.
Удивительно ли, что оно создало произведения ночные и надломленные, отбросившие огромную тень на все пространство русской словесности?
Тяжкой поступью, с бледным лицом и горящим взглядом, прошел этот великий каторжник, бряцая цепями, по нашей литературе, и до сих пор она не может опомниться и прийти в себя от его исступленного шествия. Какие-то еще не разобранные сигналы показал он на вершинах русского самосознания, какие-то вещие и зловещие слова произнес он своими опаленными устами, и мы их теперь без него разгадываем. И гнетущей загадкой встает он перед нами, как олицетворенная боль, как черное солнце страдания. Были доступны ему глубокие мистерии человеческого, и не случайность он, не просто эпизод психологический, одна из возможных встреч на дороге или на бездорожьях русской жизни, не пугающий мираж чеховского монаха или бредовое приключение ночной души: нет, он – трагическая необходимость духа, так что каждый должен переболеть Достоевским и, если можно, его преодолеть. Трудна эта моральная задача, потому что сам он был точно живая Божественная комедия; в ней же нет сильнее и страшнее – Ада.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.