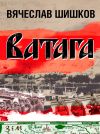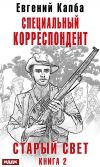Читать книгу "Война не Мир"

Автор книги: Юля Панькова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Я не сохранила своих впечатлений от первого землетрясения. Зато я помню, как мы удивились в 88-ом году, глядя первый репортаж о советском землетрясении по TV ― из Степанакерта.
Толчки, за два года до этого разрушившие близкий к нам город Кайраккум, разбудили нас поздно ночью. Кайраккумская катастрофа была на два критичных балла сильней Степанакерта. Эта трагедия занесена в список жесточайших землетрясений истории. Я тогда не была журналистом, и могу лишь догадываться, почему о Кайраккуме не сказал ни один телевизор. Тогда мы этого не обсуждали.
Мало кто в Мертвой Долине даже после Кайраккума выскакивал на улицу в ночных рубашках, но, когда начинало трясти, мы косились на косяки и думали, что в целях безопасности неплохо бы оторвать зад от стула и расположиться в дверном проеме. По конструкции сейсмо― домов дверные проемы ― самое крепкое место. В нашей квартире над всеми проемами висели национальные сувениры ― огромные тяжелые блюда с лепными узорами или часами внутри. Почему мы их не снимали, не знаю. Наверное, если страх все время с тобой, однажды ты просто не замечаешь, как принимаешь вызов или бросаешь свой.
Я не в курсе, воровали ли на строительстве наших сейсмо-домов цемент, заменяя его песком, как это было в Армении. Но у каждого в доме была своя почетная трещина. Люди, дружившие семьями, любили собираться друг у друга в гостях. Стены наших квартир скрепляли по всем углам железные скобы. Скобы были в каждой квартире, словно кресты на окнах блокадного Ленинграда. Грубо сваренные железки нельзя было заклеить обоями. Торчащие из них дюпеля рвали бумагу. Но никто не обращал на это внимания. Должно быть, если страх все время с тобой ― это уже любовь.
Инструкций по эксплуатации землетрясений в экстремальной зоне не раздавали и не печатали. Хотя нечто подобное давно существовало в виде монографий и научных работ. В России были известные сейсмологи. Существовали карты сейсмического районирования. Однако, детей в школах опасных районов не тренировали на случай возможной трагедии.
Может быть, это не правильно, но в отличие от российской привычки, за разговорами на кухне в Мертвой Долине мы не боролись с несправедливостью и не обсуждали недочеты системы. Мы строили планы: что из имущества хватать, что оставить. Если пролямзишь что-нибудь нужное, подведешь товарища. Паспорт и ордер завалит обломками. Без кастрюль и спичек не сможешь пожрать. Почему-то никто не думал о том, что его расплющит. При штучном перечислении оказывалось, что для жизни после того, как расплющится все, необходимо слишком много вещей.
Строя планы, мы не болтали попусту. Землетрясения в 2 или 3 балла почти не оставляют на стенах следов. 4-5 баллов ― это мелкие разрушения: падают вазы, картины и полки с книгами. 5.5 ― повод собраться и лишний раз все хорошо обсудить. Собираясь, мы перечисляли ущербы и обменивались идеями. Когда дельные мысли кончались, мы развлекали друг друга историями. Должно быть, с тех пор травить байки я люблю больше, чем смотреть новости по ТВ.
Например такая история: одна заводская кассирша считала зарплату. И тут началось…
(Чтобы было понятней, о чем речь, ― деньги в зарубежье были больше, чем капуста, бабос и лаве. Свободный нал был суровой необходимостью ― запасным люком, альтернативной планетой с наличием кислорода в атмосферных слоях. Наверное поэтому деньги в Средней Азии любили легально. В планах спасения рублям отводилось особое место. Успешность местного жителя автоматически измерялась не маркой пиджака или баком машины, а пассивами в спальных трусах. Представив себя у горы кирпичей, без зубной пасты и надежды на будущее, первым делом подсчитывали, хватит ли нала в пижаме на новую жизнь ― дрова, еду и, главное, дорогу на родину.
В том, что касалось родины, в экстриме нашего существования был смешной парадокс. Трагедия ― это плохо, все согласны. В то же время, каждая возможная катастрофа для каждого эмигранта была шансом рвануть на родину. Не многие застревали в Мертвой Долине по доброй воле.
«В Россию», ― говорили мы, и это было почти священно. Никто не может любить родину сильней эмигранта.
Люди с большой земли попадали в Среднюю Азию по разным причинам. Как правило, переселение было вынужденным. Но я не могу утверждать, что такой же была ностальгия. На родине в те времена были продовольственные талоны, а в заребужье, если не считать катаклизмов, ― райская жизнь.
Сложность парадигмы «родина ― рай» заставляла нас плакать над нашей судьбой, и породила среди эмигрантов крылатую фразу: «Самолеты отсюда не летают». И это было метафорической правдой. Тот, кто приезжал в Мертвую Долину скрипя сердце, в расчете на то, что вернется домой через пару недель, застревал в раю почти навсегда ― почти, потому что в один момент рай кончился (это типично для рая), как до этого для нас кончилась родина.
Эмигрантское общество, в которое ты попадал в Средней Азии, делилось на салаг и дедов. Деды знали про самолеты. Салаги страдали. Им было трудно привыкнуть. Местные жители пахли местным кислым кефиром. На глазах у салаг они употребляли наркотик «нас». Нас ― это зеленая пыль из трав, известки и птичьего помета (известь и помет изменяют кислотность среды для лучшего усвоения наркотика в кровь). Эту пыль кладут под язык. Сплевывая на асфальт вонючую жижу, местные не догоняли, почему эмигрантов тошнит. К чужому запаху, цвету и ритму трудно привыкнуть. Но зарплаты были большими. Квартиры… дайте две (и все в новый красивых домах). По три не брали, наверное, только потому, что это не приходило в советские головы. Гламурный загар на нордическом теле появлялся в марте, клубника в магазинах ― в апреле, остальные фрукты были всегда. Кем бы ты ни был, салага или дед ― ты работал раисом (с местного ― «босс»). Аборигены читали с трудом. На большую землю в отпуск, проведать родню, ты ехал не как с золотых приисков, но тоже ништяк. Ты мог любить деньги, не вступать в комсомол и делать бизнес, какой тебе хочется ― эмигранты относились друг другу щадяще, невзирая на должности, наверное, потому что нас было мало. После переезда новички ходили в салагах примерно 4 сезона ― полный год. После этого, намекни салаге на то, что где-то люди живут по талонам, партийным билетам и без бассейна во дворе, он бы решил, что ты из Камбоджи или сектора Газа. Шаг за шагом сравнивая родину с раем, салага начинал сомневаться. И именно в этот момент самолеты для него переставали летать. Послушно срываясь в небо со взлетной полосы, миражившей горячим бетоном, воздушные лайнеры, идущие на Россию, застревали где-то в атмосфере. Они кружили над мертвой долиной ровно 24 дня официального отпуска и потом садились обратно. Ты ничего не мог с этим поделать. Глубокие слои твоей дермы уже пропитались натуральной фруктозой, и вчерашним салагам в отпуске снились сны ― крученая дорога в горах, жара, маки и унылая песня Аллаху. Мы сходили с ума по родине, но всегда возвращались на свои небеса, в пыльный котлован в Памирских горах. Перед отпуском кто-нибудь говорил:
– Меня пригласили в Россию, раисом. Новая лаборатория, Новосибирск. От моей родины далековато, но лучше, чем здесь.
Вернувшись из отпуска в котлован, салага прятал глаза.
– Не срослось.
Скорее всего, так и было. Срастись в России уже не могло. Далеко от нее, от социально-алхимической родины, в жаре и горах для каждого сосредоточилась маленькая свобода. Отказаться от нее удавалось только по воле землетрясения, если тебе, конечно, хватит наличности на дорогу домой)…
Так вот, байка о заводской кассирше.
Кассирша сидела в кассе и считала заводскую зарплату. На нашем заводе работало около трех тысяч человек. Средняя зарплата по Средней Азии была раза в три больше, чем по России ― примерно 250 рублей. Итого, кассирша раскладывала на пачки много денег. На столе перед ней лежали взъерошенные ряды купюр и монеты в жестяных коробках.
За зарешеченным окном на улице курили бухгалтерши. Кассирша насчитала уже до хрена. Машинок в то время не было, деньги считали пальцами.
– Семьтыщпятьсотпятьдесят три, семьтпятьчетыре…
Неожиданно затрясло.
Бухгалтерши за окном завизжали на разные голоса, хотя на улице тряска не так заметна: на открытом пространстве меньше ориентиров, и толчки растекаются по земле. В помещении хуже. В бетонной коробке ты от А до Я чувствуешь, как крупно попал. Интерьеры смещаются с геометрически понятных позиций, родные стены странно трещат, и не за что уцепиться. Можно сесть в ожидании на пол. Говорят, неприятней этого только оказаться в разгул стихии в горах.
В кино землетрясение снимают почти похоже на жизнь: бутафорские камни валятся вниз, изображение начинает вибрировать. За кадром играет страшная музыка, и овалы испуганных лиц плывут не в такт с компьютерным задником. Вряд ли получилось бы то же самое, если снять землетрясение без прикрас, допустим, камерой слежения, какие обычно ставят на двери. Технически достоверная съемка трагедии, полагаю, возможна. Но кто бы стал смотреть этот подлинник жизни без хорошего монтажа и озвучки.
Я, например, помню одну салагу, которая переехала в Мертвую Долину в сезон дынь. Дыни ― прекрасная компенсация за утрату родины. Салага ела их увлеченно, как Нуриев танцует балет. Но однажды за десертным столом она почувствовала, как ее немного покачивает. Она стала оглядываться за кресло, решив, что за ее спиной балуются дети. Она крикнула: «Прекратите там!» и положила себе еще два ломтя. Когда ей сказали, что это землетрясение, и пора бросить ужин, она не поверила. Она сказала: «Вы меня дурите. Землетрясение бывает по-другому».
Так вот, кассирша. Эта храбрая женщина не была салагой, чтобы путать детские шалости с гневом господним, и точно знала, что следует делать, когда затрясет ― хватать по плану самое ценное (лучше большими банкнотами) и валить туда, где никто не спросит, откуда ты это взял. Но едва ее тело почувствовало, что дело бензин, как пальцы, делившие зарплату завода, разжались. Кассирша отбросила от себя кучу халявных денег и, поскальзываясь на купюрах и меди, побежала к выходу. Она не взяла ни монетки. Она вообще вспомнила про деньги и про то, что их нужно было хватать, только когда перестало трясти.
В связи с этим я думаю, что страх (как любовь) стоит делить на две существенных категории ― настоящий (глубокий, большой и светлый) и поверхностный (типа иллюзорной влюбленности). Тем, кто не знал настоящего чувства, фиг объяснишь, каким оно должно быть на самом деле.
У нас не было пенсионеров, и с детьми не сидели бабушки. Но иногда старики приезжали в гости. За несколько часов до того, как от города Кайраккум ничего не осталось, одного гостевого деда увела в поле кошка. Разрушенный дом засыпает все вокруг на две трети своей высоты. То есть, если рядом с домом стоят еще две пятиэтажки, бежать тебе некуда. Дома специально строили на расстоянии, между ними оставляли огромные дворы. Кошка, которая спасла старика, разволновалась к обеду. К вечеру она скоропостижно сошла с ума ― кидалась на дверь и орала. Дед не знал, чем ее успокоить, он крикнул внукам, что прогуляется, открыл дверь и побежал провожатым. На середине кукурузного поля, семеня за кошкой, он вдруг ненароком вспомнил, что животные чувствуют приближение катастроф. А дети ― нет. Нелепый гул в атмосфере затих. Характерный гул катастрофы затихает как раз в тот момент, когда хрен ― насос. Компьютерный задник уже завибрировал. Дед не вернулся к домам. Он сел в посевы и вытирал слезы кошкой. Великое обрезание истиной сошло на него. До разрушения Кайраккума он не знал, что катаклизм приходит без Рахманинова за кадром. Увлекшись иллюзией, бедняга не распознал большое и светлое чувство, когда еще можно было что-то спасти. О Кайраккумском землетрясении до сих пор не сказал ни один телевизор. Это было, так называемое, техногенное землетрясение, то есть, такое, которое возникло не по вине природы, а из-за случайного или сознательного вмешательства человека в естественную среду, например, по причине строительства ГЭС там, где есть риск вызвать колебания коры. Погибли три города и несколько кишлаков. Связи с пострадавшими не было несколько дней. Потом останки сровняли экскаваторами, не разбирая завалов. Наверное, так было дешевле. И безопасней…
Художник смотрит на меня почему-то печально.
Он молчит. Возможно, его отвлекли мои посторонние мысли.
Я тоже молчу.
Беседуя с людьми по работе, я редко пытаюсь повлиять на естественный ход монолога. К кому обычно идут журналисты? К людям, которым есть, о чем рассказать. Байки о том, что одни журналисты умеют раскручивать, а другие ― нет, полное молотилово. Никого не надо раскручивать (разумеется, если у тебя на руках не торчок-маляр, который белил плинтуса в криминально рухнувшем доме). На крайняк в случае осложнений на интервью у меня есть безотказное средство. Как только человек начинает выпендриваться, я собираю манатки и делаю вид, что сейчас уйду. На заре карьеры, беседуя с людьми, я пробовала демонстрировать знание темы и нападать на собеседников с бодрым вопросом: «А скажите, как вы…», скажем, дошли до такой жизни. Интервьюируемый тут же углублялся в себя и начинал сильно думать. Для хорошего долгого разговора это конец. В большинстве случаев, нужно искать кого-то другого. Но с художником я спокойна. Хотя мемуары писать трудней, чем узконаправленное интервью, до грустной темы о солдатах мы нормально одолели несколько часов о нелегкой артистической жизни украинца в Москве.
Художник кидает в рот пол-эклера и, не прожевав, говорит:
– А первым делом у них забирают одежду.
Я поднимаю бровь. Я понимаю, что он имеет в виду свежий армейский призыв, но одежду, на мой взгляд, забирают только в тюрьме и родильном доме.
– Ну как, как? ― объясняет художник, ― вот человек слезает с поезда, приходит в часть, и первым делом у него забирают одежду. Вот я помню, приехал, на мне были нормальные джинсы, какие-то туфли. Все это отобрали, ― пару секунд он вспоминает, как это было, ― и взамен выдали что-то такое, не по размеру… Назад твою одежду не отдают. Насколько я понимаю, прапорщик, который сидит на раздаче, шмотки с новобранцев потом как-то… перерабатывает.
Художник вдруг начинает смеяться. Ему стало весело.
– Прапорщик в армии, ― хихикает он, ― это вообще очень серьезная такая фигура.
Поскольку я не знаю, кто такой прапорщик по официальному определению, то машинально хмурюсь. Художник подсказывает:
– Прапор ― это младший офицерский чин. Звание прапора дают без обучения. Обычно, чтобы получить офицерское звание есть два пути. Первый путь ― это нужно начать военную карьеру с солдата и дослужиться до офицера. Второй ― пойти в училище и, минуя солдатский опыт, освоить офицерскую роль по книгам. Прапор ― нечто среднее между ними. Прапор начинает карьеру с солдата, но…
Художник перебивает сам себя и спрашивает:
– Функция солдата тебе понятна? Задача солдата ― умереть за Родину. Солдат приезжает и умирает. Взамен родина его как-то так кормит, не очень, потому что по дороге разворовали. Родина солдата одевает, если товарищи не…
Художник хитро улыбается и продолжает:
– Ну, армия выдает солдату положенную одежду, еду, но… то, что положено от государства проходит через несколько рук.
Я вдруг вспоминаю, что когда моей бабушке было 16, красная армия забрала у нее все юбки, кроме той, что была на ней.
Художник уточняет:
– Я не говорю, что мои джинсы сейчас носит какой-нибудь офицер, ― он улыбается, очевидно, представив, как это может выглядеть, ― то, что у тебя забирает начальство, ты даже не видишь. Скажем, к чаю тебе дали кусок сахару, и ты думаешь: обана, бонус! Ты же не знаешь, что по честному меню тебе положено два куска, и вместо того, чтобы грузиться обидой, грызешь и радуешься. Получается, что при подобном отъеме вещей, все остаются счастливы. Но! У начальства тут же возникает другая проблема. Когда солдат счастлив, до него трудно донести его солдатскую функцию. Отдать за родину сытую жизнь куда сложней, чем мерзкую и голодную. С сахаром к чаю ты как-то не врубаешься, что твоя прямая задача ― не гнушаться нелепой смерти. И вот, на помощь начальству в трудной воспитательной ситуации приходят твои товарищи ― деды. В официальных случаях воспитывать солдата начальству помогают прапорщики. Когда-то прапорщики тоже были товарищами, но со временем они стали чем-то другим. Понимаешь? Прапорщика никто не учил чему-то особенному, но он прошел ситуацию «быть солдатом» и при этом не умер. Больше того, он, как бы мистически, без прямых указаний познав замысел хозяина, овладел навыком выживать в любой ситуации. Ну, как крыса в анти-антропологических обстоятельствах. Ты должен был погибнуть, но не погиб. Это прапорщик.
«Никита», Люк Бессон… Я представляю большую крысу в кожаной юбке. В лапах крыса держит окровавленный бластер.
Художник говорит:
– За ловкость в выживании среди своих прапору выдают погоны. Прапор подписывает контракт и отныне считается профессиональным военным.
Теперь мне все стало понятно.
– Ну, ― художник обводит глазами потолок, ― до контракта прапорщик еще немного занимается в школе прапорщиков. Не знаю, чему там учат, но после курса по специальности он начинает работать. В руки прапорщику сваливается бытообеспечение ― то есть как раз все то, что полагается солдату от родины. Это может оказаться еда, обмундирование, машины… Всем этим распоряжается прапорщик. Приличной зарплатой такая материальная ответственность, как ты понимаешь, не грозит, но это уже парадокс курицы и яйца, а не то, что нельзя обойти на практике. Что было вперед: воровство или маленькая зарплата?.. У нас в полку, скажем, работали два мощных протоархонта. Экономической теорией они, думаю, не заморачивались, им некогда было. Один из них был начальником горюче-смазочных материалов. Второй ― шеф столовой. И еще их друг поменьше, тот заведовал продуктовым складом. Короче, при нулевых зарплатах все трое ездили на работу на Мерседесах. А ехать было ― четверть километра от дома, так что, мерседесы, видимо, были типа пляжных тапочек, так, в огород сходить. Помощник прапора по солярке, солдатик, дембельнулся на «Волге». В общем, я бы сказал, что прапорщик ― это малый государственный бизнес.
Художник замолкает. Я прикидываю объемы. С учетом протяженности наших границ, совокупный доход прапора по России ― это не 25 зоофилических баксов.
– Полк, ― продолжает художник, ― маленький греческий полис. Там есть свои боги, жрецы и весталки. Если все они вовремя получили откат, жертв не будет. Главное, чтобы при проверке не всплывала какая-нибудь фигня. Ну, это известно. Если ты умеешь хорошо оформить и списать, ты на месте. Если никак не получается это сделать, тебя заменят. Это же твой бюджет!
Я киваю и думаю о роли весталок в истории отката. На гражданке, кажется, уже все по-другому.
– Да, ― мечтательно говорит художник и кусает пирожное, ― если бы все продукты, которые прапорщик проваливает налево, доходили до солдат, у призывников бы, знаешь, были такие огромные тела, как у борцов сумо, и лень даже ложку поднять. Но так как все это понимают, то первые полгода солдат вообще ничего не ест.
Я тупо улыбаюсь. Мне снова приходит на ум моя бабушка. В то время, когда у нее еще не отняли юбки, у ее братьев была традиция спорить на миллион, кто из них съест больше жеванных пирожков. Мои предки, наверное, были такими же дикими, как американцы в реалити-шоу на МТV. Но еще Лао Цзы говорил, что для успешного управления Поднебесной ее подданные должны иметь полные животы и пустые сердца…
– Вот, представь, ― перебивает мои мысли художник, ― за столом 10 человек. Первыми разливают себе еду старослужащие. Так что молодым достается капуста на дне, если вообще что-то осталось.
Я хочу молчать, но не выдерживаю.
– Что, ― говорю я, ― на столе общий таз что ли?
– Да, ― говорит художник и продолжает, ― ну, что такое солдатский стол? Это 10 человек, и для них ставят кастрюли с первым и со вторым. Если к обеду дают котлетки, значит, на столе общая тарелка и в ней 10 котлеток ― на всех по одной. А вдруг старослужащим было мало?.. Вдруг они не удержались и съели по две?
Я считаю медленно, но представляю быстро. Я думаю: а что, если старших за столом будет больше 5-ти?..
Художник выразительно поднимает брови.
– А есть еще фиша. Я, например, не ел отнюдь не потому что кому-то требовалось больше котлет. Меня оставляли голодным сознательно. Такая была политика. Типа: ага, ты хитрый художник? Ты не желаешь вписываться в коллектив? Ну так мы тебя и не кормим.
Я быстро хватаю со стола сливу и что есть скорости пихаю ее рот, в виде подсознательного протеста. Я запиваю фрукт глотком кофе, и на секунду мне становится грустно. Я давлюсь, и на глазах у меня появляются слезы.
– Из-за бойкота моих сытых товарищей, ― продолжает художник, ― мне приходилось работать своей персональной Родиной. Я сам себе выписывал пропитание. Я ходил к поварам и устраивал им ребрендинг дембеля. Я спрашивал: ну что за альбом у тебя дембельский, такой страшный? Разве это гордость солдата? Давай я тебе новый сделаю… За дизайн нового дембельского альбома старички давали мне еду. А потом это вылилось в прочные связи на кухне. Когда я с честью прошел свой голодный период и стал в столовой родным братом, товарищи по казарме просили меня вечером сходить на кухню, что-нибудь поклянчить у моих особых клиентов.
– Погоди, ― говорю я, ― а те старослужащие, когда ты был молодой, с чего они взяли, что ты художник?
Он оживляется.
– А вот как быть художником в армии, это отдельная тема!.. Эту линию приходилось мучительно двигать.
– Непонял! ― говорю я, ― зачем ее двигать, если за это не кормят?
Я кошусь на художника с подозрением. Он улыбается и объясняет:
– Первая реакция была: ты художник? На фиг нам художник? Иди копай!