Читать книгу "Пожитки. Роман-дневник"
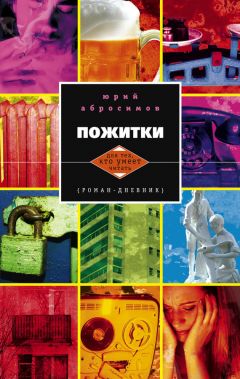
Автор книги: Юрий Абросимов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Юрий Абросимов
Пожитки. Роман-дневник
Моему деду Ивану
Охраняется законодательством РФ о защите интеллектуальных прав. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.
Часть первая
Исполненный город
Дислокация
В жизни главное – оказаться в подходящей среде.
У моих знакомых одно время в стаканчике с водой стояла пара былинок, привезенных из Пакистана. Одна с тремя листочками, а другая так, без листочков. Обе зеленые. Предполагалось, что они пустят корни, их пересадят в кадку с землей и на свет появится нечто невиданное.
Наблюдать обычные сорняки, ничем не отличающиеся от среднероссийских, знать об их происхождении, по-настоящему мифическом на взгляд жителя очень восточной Европы – значит лишь чуточку догадываться о возможных внутренних переживаниях этих безропотных трав. Вместо того чтобы, украшенными бесплодной пылью, колебаться под изнуряюще влажным зноем пустыни, призреть течение времени, подобно желтому ветру, совершающему один и тот же круг, после чего наконец сгинуть под копытом какого-нибудь флегматичного camеl’a, былинки эти ошарашенно торчали из стакана на русской кухне, изучая вид за окном. Окно покрывалось изморозью, сквозь плохо законопаченные щели вокруг окна дула смерть. Однако былинки не умирали, поскольку родились в местности, где вода символизирует вечное бытие. Питательная влага доходила им «до пояса» и успешно боролась со смертью, но пустить корни они не решались. Тому препятствовали чувства внутри былинок, осознание судьбы, способной сделать с тобой все что угодно – слепо избрать из числа многих прочих, вырвать из родной почвы, перенести на другую планету, оставить, забыть…
Шли месяцы. «Ниже пояса» былинки становились черными.
– Они гниют, – констатировали мои наблюдательные знакомые.
Та, которая без листочков, действительно малость подсохла. Зато другая по-прежнему притрагивалась к окружающей серой мгле тремя зелеными блюдцами, с маленькими зазубринами по краям. Черный цвет ее стебелька исключал увядание.
«Они не гниют, – догадывался я, – они надевают траур».
* * *
Сегодня метр квадратный в Городе Детства стоит сумасшедшие деньги, а в то время он вообще ничего не стоил. Его добывали несколькими способами:
1) мановением волшебной палочки, то есть номенклатурно;
2) по распределению, то бишь умом, или
3) тривиально, иначе – по прихоти судьбы.
Отдав предпочтение последнему способу, моя семья догадалась частично использовать и первые два.
Известно, что даже тяжелые болезни дети переносят легче взрослых. Правда, коклюш или свинку трудно сравнить с пересадкой души, а в моем случае нечто подобное и разверзлось.
На прежнем месте жительства жизнь казалась светлее. Там ходили железнодорожные составы (гудок одного из них однажды слегка изменил меня). Там работал настоящий кинотеатр. Продавались грандиозные пирожные. Мороженое было натуральным, а не крашеной водой, как сейчас. Ездил «мой любимый автобус пятый». И повсюду висели большие буквы: «ФОТО». Я всегда читал их вслух – первую игнорировал, а остальные преподносил следующим образом: «ноль-молоток-ноль».
Там отсутствовали понятия тоски, горя, страха и счастья. Бал правили радость, восторг, веселье и иногда вселенского масштаба катастрофы.
Да, в школу я пошел не в Городе Детства, но школа просто не успела за один месяц отравить жизнь. Она вообще ничего не успела. Мое существование продолжала регламентировать бабушка – милейшее существо, по дробнее о котором мы поговорим ниже.
Если вы сможете представить себе рафинированно-заброшенного ребенка, то – приятно познакомиться. Возможно, мне посчастливилось долгие годы провести в таком месте, где сверху на тебя нисходит поэзия… Не знаю, насколько понятно я излагаю такие вещи… По правде сказать, о магической силе некоторых слов я догадался прежде, чем научился чтению. Дополнительные возможности открыл букварь. Алгоритм простой. «А» и рядом арбуз – следовательно, произносим «а». «Б» и тут же барабан – на очереди «б». Алфавит был изучен так, как пьют алкоголь алкоголики – «винтом».
Далее пошла разнообразная литература, исключая стихотворную. Делалось просто. Забредаем в книжный магазин и начинаем по порядку терзать все тонкие книжки большого формата. Открываем и видим столбик, последние слова в рифму.
– Фу!
Открываем другую. Идет сплошной текст.
– Берем!
Постепенно очередь дошла до журнала «Здоровье». Однажды, читая, по своему обыкновению, заголовки, набранные крупными буквами, я внятно, вслух произнес:
– РАК ШЕЙКИ МАТКИ!
Реакция окружающих потрясла воображение. Подобным же образом ведут себя муравьи, когда в их тщательно выстраиваемый дом-храм втыкают палку.
Я хорошо понимаю maman и бабку, находившихся под гнетом общественно-исторической формации. На дворе лютый застой. Иной анекдот означал дорогу в тюрьму. Пятилетний малец. Никто из соседей не услышит. От такой эклектики впору сойти с ума!
Вокруг забегали, ко мне подскочили, зашикали, стали подмигивать, вытягивать из рук журнал.
– Тихо-тихо-тихо! Никому не говори! Нельзя-нельзя! Страшные слова!
Я запомнил. Когда отчего-то становилось скучно, внутренне предвкушая, я проводил несколько сокровенных минут, вставал в позу, и…
– ШЕЙКА МАТКИ!!!
Уже тогда зародыш вкуса отсеял слово «рак», явно не относящееся к делу. Остальное взрывало муравейник в два счета.
Магическим словам предшествовали магические буквы. Хоть бы раз кто-нибудь поинтересовался: «Малыш, ты, я смотрю, пишешь все время. А почему не рисуешь?»
В самом деле, альбом для рисования изводился мной почем зря. Каждая страница посвящалась отдельной букве, которую я изображал многократно, варьируя размеры.
Почему не рисую? Тот же самый вопрос оставил брешь в моем сознании, когда впервые перед школой, наравне с остальными членами подготовительного класса (шла проверка на умственную отсталость), я получил элементарное задание – чего-нибудь нарисовать!
Я опешил. Вокруг немедленно принялись царапать ручками, карандашами, перьями, мазать кисточками, скрипеть ластиком. Они три-умф-ство-ва-ли! Они занимались привычным делом, каковое в их семьях успешно насаждали. Я же сидел перед чистым листом бумаги, с ужасом понимая, что надо изобразить не знак, а объект.
Кто знает, сколько мучений выпало на долю изобретателя колеса? Каких усилий стоило научить летать бескрылую сволочь? Мне пришлось успешно через это пройти примерно за полчаса. Группу треугольников, овалов и прямых линий в результате признали летней лужайкой, поросшей дивными цветами. Ффу-у-у!..
В Городе Детства лета не было. По крайней мере, лета ощущаемого. Периодически приходило время года, когда удавалось выбежать на улицу в одной рубашке, не рискуя подхватить ангину. Когда целых две июньские недели кряду продавали клубнику, а спустя некоторое время, в августе, еще три недели кряду выбрасывали болгарские помидоры-«пальчики» – мятые, как пользованная туалетная бумага, и столь же грязные. Но их все-таки мариновали, совали в восьмисотграммовые банки из-под болгарских же томатов – при условии, конечно, что удастся по жуткому блату достать крышки для консервирования (количество алюминиевых баночных крышек в стране существенно уступало числу крылатых ракет).
Еще хуже было с туалетной бумагой. Никогда не забуду, как я гордо вышагивал по улице с гирляндой рулонов на шее и поминутно отвечал на заискивающие вопросы сограждан:
– А г-где?.. Бумажку-то г-где… б-брали?
– Тама, – великодушно махал я рукой за спину, – в магазине.
Граждане вприпрыжку бежали в магазин.
А еще летом лили дожди. Городские власти почему-то раздражала девственность леса под нашим окном. В ту пору, прогуливаясь возле подъезда, удавалось набирать полсумки грибов. Наше окно находилось высоко, вровень с лесной кромкой. Все закаты устраивали показательные выступления – знай смотри. Но в один далеко не прекрасный день часть леса вырубили (что само по себе довольно притягательно, как и любое убийство), вместо него оставив котлован для первой в Городе шестнадцатиэтажки. Отважиться на столь грандиозную высоту решились только года через четыре, а до тех пор лето исправно мочилось в вырытую яму, чем мы с удовольствием пользовались. Плавали на плотах, топили крыс…
От вавилонов до нас всего километров двадцать. На всем пути не торчало ни одного светофора (сейчас их десятки). Так называемые дорожно-транспортные происшествия, конечно, случались. Куда ж без них! Но в памяти осталось единственное.
Как там все произошло, я не видел. Когда прибежал, легковушка с разбитым передом стояла поперек шоссе. Автобус-«пазик» еще дальше, метрах в сорока, уткнулся в столб, на асфальте чернел тормозной путь. Милицейская машина в целости и сохранности притулилась на ближней к нам обочине. А рядом с милиционерами находилось главное – женское тело, которое не удавалось полностью закрыть простыней. Жертву разорвало на две части почти полностью, и выпавшие внутренности в интересах следствия должны были оставаться там, где их разбросал слепой Рок.
«Дамы и господа! Внимание! – беззвучно мелькали фразы в такт проблесковым маячкам. – В первый и последний раз! Гастроли Анатомического театра! Удар Судьбы и никакой подтасовки! Дети и несовершеннолетние допускаются!!»
Не знаю почему, но в детстве похороны всегда вызывали у меня улыбку. Труп на шоссе достаточно хорошо возбуждал любопытство, времени на эмоции не оставалось. Я видел перед собой огромную блестящую печень, вывернутую ногу, клубившийся кишечник. Его, кстати, позже собирали столь небрежно, что нам тоже немножко досталось. Одну тонкую кишку я еще дней десять спустя заметил свисающей с крыши автобусной остановки. Ничего не подозревающие люди в ожидании своего рейса топтались рядом. Для них это было нечто такое… непонятное… висит, болтается…
* * *
Город Детства кажется плывущим в зеленом океане даже сейчас. А раньше он был полностью утопленным, лежал на самом дне его. Маленькая квадратная щепка из стеклобетона. За нее цепляются тысяч тридцать населения.
Шоссе, словно пробор на голове тщательно ухоженного ребенка, делило лес на две половины. С одной стороны рос совершенно дикий лес, с другой, благодаря домам, лес обитаемый. Постепенно коробки новых зданий застолбили весь обозримый горизонт. О закатах пришлось забыть раз и навсегда.
Два центра сложились исторически. Первый, ближний к вавилонам, застраивался кирпичными хрущевками, нередко желтого цвета. Количество этажей в них варьировалось от одного до пяти. Здесь же располагалось большинство магазинов, столовая и спортзал, в котором показывали кино.
За последние двадцать пять лет появилось все, что полагается иметь приличному населенному пункту, за исключением метро и аэропорта. Как пить дать! Один запах может сказать о многом. В отличие от вавилонов, где повсеместно пахнет куревом, чебуреками и ссаньем, у нас в ходу ароматы земли, хвои и солнца. Имеются бесплатные теннисные корты, рок-клуб и конкурс местной красоты. Развитая транспортная инфраструктура. Целый букет спутниковых телеканалов практически задарма. Свое издательство с типографией. Но это сейчас. В те же времена, о которых я толкую, не было элементарной больницы. На месте второго центра росли грибы… Впрочем, о них уже говорили.
Прежних людей я не помню. Знаю, что они жили и по праву считали себя научной интеллигенцией. Главной достопримечательностью Города служили институты с ошеломляющими названиями «…ядерных исследований», «…атомной энергии», «…изучения ионосферы и солнечной энергии». Чем на самом деле занимались в институтах, никто не знал. Гораздо большее хождение имел тот факт, что директор одного из институтов владел сразу несколькими квартирами. Факт наличия у этого директора песьей головы, наверное, вызывал бы у достопочтенной публики менее яркие эмоции.
По правде сказать, эпитет «достопочтенный» здесь приводится в качестве своеобразного реверанса. Хотя, боже упаси! Я отметаю самые наималейшие инсинуации в адрес моих уважаемых согорожан! Просто сложилось так, что каждый обыкновенный с виду дом в Городе образовывался как некий анклав, микрогосударство, со своей отдельно взятой нацией. «Нацией» в известном допущении, разумеется.
Например, наш дом был знаменит детьми. Почему-то на весну, лето и осень они куда-то исчезали. Зато зимой, с первым же снегом, вдруг все выпрыгивали и бесились во дворе днем и ночью (преимущественно ночью).
Девятиэтажный дом слева славился скрипучим паркетным настилом в квартирах. Обитатели ходили по нему с подчеркнутым благородством, стараясь скрипеть поменьше. Многие из них мыслили чересчур уж обиходно. В три часа утра они уезжали на рыбалку, в три часа пополудни с такими же лицами приезжали. Что делали на рыбалке, для остальных оставалось тайной. Странные люди… Они понимали толк в музыке, покупали хорошие стереофонические магнитофоны, но, ради экономии пленки, записывали в моно.
Дом напротив обживали самоубийцы. Кроме шуток! В отличие от прочих естественно умиравших обитателей Города жильцы длинного здания на Сиреневом бульваре нечаянно топились в ванне, путали уксусную эссенцию с водкой, глотали гвозди, оступались с балконов, били себя током. Их придавливала мебель, вилки прокалывали глаза, в самый неподходящий момент наступало бытовое заражение крови. В общем, ужас!
А был еще Микрорайон. Добираться до него удавалось по недостроенной в то время шоссейной магистрали под названием «БАМ». Хотя добираться ни у кого особой нужды не возникало. Расстояние пустячное – километр. Но Микрорайон как-то изначально обделили всем, что делает общественную жизнь цивилизованной. Никакими магазинами, ни даже мало-мальски плохеньким киноспортзалом там даже не пахло. Там обретался пролетариат – лихие люди, обожающие иногда пошаливать. Ирония обстоятельств заключалась еще и в том, что для осуществления шалостей «микрорайоновские» не спускались с горочки, а поднимались в нее – топографически Город расположен выше Микрорайона.
Да, кстати! Еще Фишер! Подлинное умертвие, маньяк крадущийся и подкапывающий. Лишь спустя годы мы узнали, что за фантомом скрывался реальный преступник, но нам и легенды тогда вполне хватало. Разговоры про неуловимое чудище ходили долго, воображение рисовало какие угодно кошмары, однако суть их сводилась к одному: для детских гуляний закрыты, помимо Африки, еще и окрестные леса. Спрашивается, кого это останавливало?
Город и окрестности исследовались нами быстро и вполне досконально. В Городе можно было жить – в первую очередь из-за вполне мистического ощущения, диктуемого природой. Современные дома – обитаемые жилища инков. Мы покидали обитателей жилищ, возвращаясь обратно другими.
Однажды я пришел с лицом в полтора, а затем и в два раза больше обычного. Мы слонялись по окраинам – до тех пор, пока не вышли на заброшенную дорогу. Она вела к «убежищу пожарных». Рядом из густого многолетнего ельника торчала их наблюдательная вышка, а дорогу перекрывала большая металлическая труба. Мы играли в «догонялки». Догоняли меня, поэтому я бежал со всего духу, оглядываясь назад, чтобы не дать возможности преследователю сократить дистанцию. Бежал по асфальту, навстречу трубе, приходившейся как раз вровень с моей головой… пока мы не встретились.
Действительно, искры. Действительно, в каком-то смысле «космическое». Заслонка тьмы перед глазами, усеянная мириадами золотистых точек. Шея ощущает, как то, что поверх нее, отваливается назад, подобно капюшону. Бесполезно кричать, да и условия не те. На все уходит примерно миг.
БУМММ… Я опрокинулся.
Мои спутники, очевидцы спонтанно осуществленного опыта над живым человеком, относятся ко мне с плохо скрываемой опаской. Для них я сейчас – человек, переживший нечеловеческое и сумевший сохранить видимый привычный облик. Но вот тут мне пришлось их разочаровать.
Через пару минут лоб начал стремительно уплотняться, закрывая правый глаз. Пропорции лица смешивались. Спустя полчаса, когда я заявился домой, опознать меня удавалось, только игнорируя все, что находится выше плеч. Самое удивительное: благодаря исключительной легкости организма мне удалось избежать даже сотрясения мозга. А ведь я сделал примерно то, на что порой отваживаются самоубийцы, когда находятся в тюремной камере и, за отсутствием лучшей альтернативы, вдребезги разбивают свою голову об стену. В моем случае благоприятный исход вряд ли можно объяснить милостью Провидения. Повторяю, я был слишком легок, практически невесом.
Отсюда следует важное резюме: желающему удачно покончить с собой нужно иметь мозги. Для солидности веса.
Исчадие родства
Человек, болеющий постоянно в течение длительного времени, рано или поздно начинает трактовать недуг как нечто философское, как некоторое даже достоинство, вериги судьбы, тлетворно обольстительное рубище, которое посылается свыше. Растительная особь по имени Рональд Рейган представляется иной раз такому человеку, трясущийся Иоанн-Павел Второй, супруги Кюри – внешне такие обыкновенные, увлеченные. Но пораженные радиацией насквозь. Н-а-с-к-р-р-о-з-ь! Назгвбздрррррр! Бр-р-р-р! Щ-щ-щ-щ!..
Моим постоянным болезням было настолько же далеко до облучения, насколько мне самому до папы римского, хотя детская больничная карточка вашего покорного слуги по своей толщине напоминала собрание черновиков «Войны и мира». Клиническую хронологию первых лет моего оранжерейного детства для компактности законспектировали на отдельном листке, каковой я однажды и умыкнул, движимый благородным стремлением «познать самое себя».
Почерки любого медика и абсолютного большинства писателей роднит фатальная неразборчивость. Содержание добытого свитка могло бы пролить свет на многие издержки, существенно отравлявшие мою жизнь, однако для достижения поставленной цели требовались способности профессионального дешифратора. Ими, разумеется, я не обладал, поэтому автопортрет, составленный по мотивам закрытой врачебной информации, грешит известными отклонениями.
Вот в результате с кем имелось дело.
«Полуглуховатый, подслеповатый, легко возбуждаемый ребенок с неуклонно растущим половым самоопределением, турбулентно затихающим при отходе ко сну. Реакции в интеллектуальной сфере – импульсно-периодические. Совмещает «высокий полет свободной мысли» с крайне животными проявлениями. «Синдром Нерона», за незначительным вычетом в демографической плоскости, представлен полностью. Чувствует крылья. Наряжается в женские платья. Танцует. Подстрекает кукол к заговору. Пользуется любой возможностью, чтобы внимать пространным речам Генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза. Внимает напряженно, в туалет не просится. NB: допуск к рождению пациента следует считать ошибочным. Продолжать наблюдения».
Постепенно весь формулируемый сгусток чудовищности выродился в одну-единственную болезнь – острореспираторную, которой я болел примерно три-четыре раза в месяц на протяжении многих лет, с перерывами на летнее время. Утверждение, что «все болезни от нервов», лично мне не кажется комичным, поскольку в моем случае именно латентная истерия, беспочвенные страхи вселенского масштаба и, кроме того, еще один очень хороший раздражитель обеспечивали организму наилучшую среду для культивирования уязвимости.
Мы уже упоминали милейшее существо под кодовым наименованием «бабушка». Под наименованием… Именно так – потому что реальная идентификация родственных связей ничего, кроме путаницы, не даст. Суть здесь гораздо важнее юридических формальностей.
Так вот, говоря по сути дела, следует отметить главное. Существо, последовательно лишившее меня детского сада, балетного кружка, курсов игры на гитаре, изучения иностранных языков и прочих развивающих дисциплин, доморощенным быдлом принимаемых за буржуазные извращения, преданно проводило со мной четырнадцать – шестнадцать часов в сутки (остальные восемь – десять я проводил самостоятельно, во сне). Оно кормило меня, обстирывало, упоенно носило на руках. Собою оно культивировало понятие чистоты – прежде всего материальной. Хотя и нравственные проступки без внимания не оставлялись.
– На колени!!! – орала в таких случаях бабушка, и в мгновение ока я оказывался поверженным голыми коленями на сухой горох.
Отголоски ее громового вопля еще метались по квартире, как вслед им звучал уже другой вопль, более величественный.
– Прощения проси!.. – повелевала бабушка, вытягивая указательной палец своей невыносимо пошлой, крестьянской длани в сторону моего ангельского чела…
«Бойтесь данайцев, дары приносящих». Особенно – данайцев женского пола, поврежденных бездетностью, с образованием три дня. По уверению компетентных лиц, все наше семейство уже давно бы сидело за решеткой, – просто бабушке не хватало элементарной грамотности. Писать доносы самостоятельно ей было тяжело, а заниматься письмоводительством под руководством такого человека желающих не могли заставить даже деньги.
Вот каким алгоритмом мышления обладало существо. Сначала оно полно благодушия, вступает в контакт, полностью берет инициативу с общением в свои руки, а когда оппонент начинает одуревать от игры в одни ворота, объявляет его врагом, и вот тут начинается самое интересное. Враг должен осознать свою подлую сущность. Ведь он не хотел слушать нескончаемую летопись бабушкиной жизни, заучивать длинный список бабушкиных побед над другими врагами, не стремился думать, как она, позволял себе хотя бы в чем-то не соглашаться с ней, наконец – самое страшное! – отказался делать все то, что приказывает делать бабушка, и делать так, как она считает нужным. Для полного, коренного и безоговорочного исправления «змеи проклятой», которую бабушка воспитала и, можно сказать, «всю жизнь на него, тварь такую, угробила», устраиваются многочасовые профилактические беседы, несчастного подвергают массированным атакам, к травле подключают общественность (прежде всего из числа близких родственников несчастного и знакомых).
– Я вам еще позвоню! – грозилась бабушка. – Что, думаете, я из деревни, так у меня телефона вашего нет?! Вшивая команда!
Вслед за тем она могла, не прощаясь, удалиться и, после того, как вы облегченно перевели дух, зайти снова, со словами:
– У меня, если телефона нет, мне люди скажут. Я вот еще на работу к тебе схожу (здесь она виртуозно переходила на «ты»). Чтоб тебя начальник вызвал и показал, как над бабушкой издеваться. Я всю войну…
Подключив слезные железы, бабушка продолжала речь сморщенным гадким лицом:
– …всю войну из-за таких вот гадов прошла… застудилась…
Обычно ее вышвыривали, после чего могли еще несколько минут пожить относительно спокойно. Потом бабушка возникала вновь, с финальной анафемой:
– И чтоб больше не ходил ко мне!! Спокою не дают!.. Всю линоль затоптали! Я что вам, уборщица?! Мне квартиру мыть целое дело! Помочь некому!.. И-и-и. И не стыдно!.. Эти…
Далее шли помои, обильным потоком выливаемые на нас с maman, бабку снова вышвыривали, и весь цикл многократно повторялся.
Для нее никогда не существовало приличий, отличающих человека культурного от просто вменяемого. Например, она, будучи все-таки женщиной, не понимала – что такое цветы. То есть в принципе не понимала! Она брала букет как веник и, если не могла выбросить сразу, тупо сидела с ним. «А на кой они мне?» Дальнейшей рационализации отношения не следовало. «А на кой они мне?» И все.
Весь Город, без преувеличения, знал бабушку и относился к ней соответственно. Нас жалели, хотя заметно оживлялись после очередной ее единичной выходки или сезонного криза. О ее похождениях рассказывали почти с восторгом, не забывая вставлять полагающееся по этикету «как же они с ней мучаются!».
Бабушка тоже знала Город, но знала так, как, например, человек подозревает о существовании естественной микрофлоры у себя во рту. Понятно, она есть, но это ничего не значит.
Прожив долгие годы в невысоких домах, так же лишь «зная» о существовании в природе многоэтажек, бабушка, переехав с нами на новое место и впервые выйдя на балкон девятого этажа, конечно, испугалась. Я помню тот испуг. Сейчас, когда по телевизору показывают японских электронных собачек, их искусственный лай что-то до боли мне напоминает.
Если бабушку угощали каким-нибудь деликатесом и говорили, что это вкусно, она немедленно начинала жевать, старательно закатив глаза.
– М-м-м! – восклицала бабушка еще до того, как что-то почувствует. – М-м-м, как вкусно! М-м-м… м-м-м… надо же… м-м-м, – она еще раз откусывала, – м-м-м… вкусно как… м-м-м… м-м-м… надо же, м-м-м… м-м-м… м-м-м…
Ее просили заткнуться и, если рядом были посторонние люди, стыдливо резюмировали:
– Этого она не понимает.
Патология сказывалась в самых разных областях жизнедеятельности. Особенно в сугубо интеллектуальных. Скажем, искусство диалектики – умение спорить, отстаивать свою точку зрения. То, что бабушка всегда права, думаю, объяснять уже излишне. Однако ее аргументация отличалась достаточным многообразием, ведь эгоизм пределов не имеет. Исчерпав посильные доводы, бабушка могла торжественно встать и, обратившись фронтальной стороной к красному углу, размашисто осеняя себя крестным знамением, провозгласить во всю мощь своей деревянной глотки:
– Шштоп тебя, суку-проститутку, Бог наказал! (Господи, прости меня, грешную.) Штоп ее, тварь такую! За то, что я вас всех, тварей, вырастила, на горбу таскала…
– Скорее тебя Бог накажет, – со знанием дела отвечал проклинаемый.
– Нет, тебя! Нет, тебя! – радовалось престарелое существо.
Один период клиничности сменял другой. Помню, долгое время она тщательно следила за тем, как домочадцы ходят в туалет. Вы могли ничего не подозревать, жить себе спокойно, отдыхать, листая журнал, – вдруг к вам бесшумно приближалась благодетельница рода человеческого, держа в руке стакан с мутным варевом.
– На вот, выпей, – говорила она.
– Зачем? Что это?!
– Выпей, я сказала!
– Сама пей! Отстань от меня!
Бабушка выдерживала многозначительную паузу.
– Ты уже третий день не ходишь.
– Чего?!!
– Пей! Иначе я все другим расскажу. Когда крепит – вредно. На, слабительное.
Разверзался скандал. Бессмысленный. Беспощадный. Так продолжалось годами…
Вы все еще думаете, что убивать людей – грех? Даже тех, кто убивает вас? От кого вы не можете, в силу различных уважительных причин, избавиться? С кем вынуждены делить одиночную камеру?
Сквозь пелену беспробудной гриппозности я относился к Городу как заложник относится к террористу, когда террориста начинают любить только потому, что слишком много пережито вместе. Одинаковая мгла за окнами, одинаково скверная пища (картошка ломтями потолще, хлеб ломтями потолще, все на сливочном масле, чтобы плавало – для здоровья полезно). Вы – в клетке, рядом канарейки. В клетке. Канарейкам покупают корм, сразу килограмма три, и дают порциями. Меняют подстилку. Канарейки поют. У нас в семье покупают продукты. Если повезет – много. Готовят порциями, «меняют подстилку». Я ору.
Если мы – то, что мы едим, значит я – дебил. Причем деревенски-наследственный. Сыр и клубнику меня не могли заставить есть годами. Причин отказываться не было никаких, «дерусь, потому что дерусь». Да мало ли…
Однажды решился есть рыбу. Решился, увлекся, подавился. Полтора дня кость, распятая посреди горла, отделяла жизнь от смерти. Так мне казалось. Но когда медсестра стала подходить ко мне с чем-то металлическим и блестящим, я легко проглотил эту кость и больше ее не чувствовал. Возможно, она до сих пор во мне, в аппендиксе. Ждет.
В другой раз ел шампиньоны, отравился почти полностью. Познал удивительное самосожжение плоти. После сорока одного градуса по градуснику плоть невесома. Душа, подобно шаловливой возлюбленной, садится верхом на твой живот – сидит и молча смотрит тебе в лицо. Ты встречаешься с ней взглядом, хотя веки твои прикрывают красные вспухшие беспамятные глаза.
У фирменного заболевания главным атрибутом служил кашель. Кашель такой, что соседи иногда заходили с требованием прекратить. Бабушка их выпроваживала, потом долго шаркала по квартире, монотонно варила целебные снадобья, злобно пришепетывала:
– Не понимают, ребенок болеет, колдуны проклятые. В следующий раз придут, я им покажу. Я им все скажу. Я еще напишу куда следует. Они думают, на них управы нет. Твари такие…
Наступала ночь. Изредка во тьме ползли бабушкины реплики:
– Не понимают, ребенок болеет…
Начинался мерзкий храп. Под утро она брела в туалет, ворча сквозь зубы:
– Наколдовали, колдуны проклятые. Думают, я не узнаю. Я кылы подъезда сидела. А то мне люди не скажут… пррроститутки!
Утром, проснувшись, она нависала надо мной с предупреждением:
– Ты, будут они спрашивать, скажи – я с бабушкой останусь жить. Ничего им не рассказывай. Я тебе по секрету говорю.
У вас начинался очередной, многотысячный по счету день вечной болезни – с кашлем, соплями, воспаленным горлом и слабостью. Они заполняли все ваше прошлое, покушаясь на будущее. А настоящим распоряжалось существо, которому формально вы были обязаны всем – заботой, уходом и лаской. Доисторический двуногий парадоксально мыслящий реликт, нечаянно просмотренный зоологами-каталогизаторами. Он вздымался над вами всецело, своеобычно и целокупно. Приговаривая:
– Они знаешь какие? У-у-у… Аля-улю! Ты бабушку слушай. Будут что говорить, скажи – я с бабушкой хочу жить.
Этот яркий представитель высокоорганизованного скота не терпел пререканий. Забота его проявлялась только в том случае, если подопечный расписывался в абсолютной зависимости. Надлежало безукоснительно следовать заданным установкам. Требовалось беспредельное послушание, каковое в общем-то присуще детям до известного возраста. Но и детскому терпению приходит конец. Хотя бы временный. И бесполезный.
Как-то зимой очередной недуг отправил меня в постель на целых три недели. Лежачая жизнь утомляла бесконечно, разум тщился хотя бы отчасти компенсировать острый дефицит физических нагрузок. Огрызания в ответ на бабушкино занудство становились все изощреннее. Наконец она не выдержала, подошла и вдруг, вцепившись обеими руками в мою рубашку, начала трясти, издавая жуткие вопли:
– Ты будешь меня слушать?!! А-а?! Говори!!! Будешь?!! А-а-а-а?!!
Наверное, на моем лице отобразился ужас величины неимоверной. Бабушка слегка приостановилась, но тут же решила воспользоваться ситуацией полностью. Она отцепилась от рубашки, воздела руки кверху и… завыла, завизжала, заскрежетала что есть мочи мне в лицо своей рожей, перекошенной от сатанинского сладострастия:
– УА-А-А-А-А!! ИИЙА-А-А-А-А-А-А!!!! ЫЫИ-ЙА-А-А-А!!…
…Я не умер… даже не начал заикаться… таким образом хорошо проверять ресурсы мозга… способен ли ты запомнить какие-то вещи на всю жизнь…









































