Читать книгу "Хронология обстоятельств. Стихи"
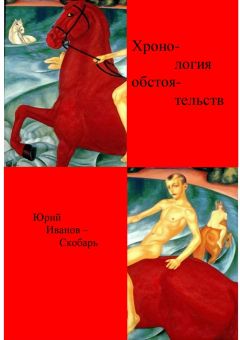
Автор книги: Юрий Иванов-Скобарь
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Хронология обстоятельств
Стихи
Юрий Иванов-Скобарь
© Юрий Иванов-Скобарь, 2017
ISBN 978-5-4483-9829-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

…Лишь шарманку старую знобит,
И она в закатном мленье мая
Всё никак не смелет злых обид,
Цепкий вал кружа и нажимая.
И никак, цепляясь, не поймёт
Этот вал, что ни к чему работа,
Что обида старости растёт
На шипах от муки поворота.
Но когда б и понял старый вал,
Что такая им с шарманкой участь,
Разве б петь, кружась, он перестал
Оттого, что петь нельзя, не мучась?
«Старая шарманка», И. Анненский
Рабочая окраина
В мае
А ночи – заметно короче.
Бреду переулком случайным.
Как воздух прозрачен и сочен,
а дом засыпающий – тайна.
Я мимо пройду, не узнаю,
что в доме, в такой-то квартире,
по вечному правилу мая
я – чей-то единственный в мире.
* * *
1980г.
Любовь
Она пришла домой, когда
угомонился бес движенья,
и засыпали города,
стряхнув дневное напряженье.
Прикрыв тихонько за собой
почти не скрипнувшие двери,
разгорячённая ходьбой
не стала врать – ведь не поверит…
* * *
Комсомольская юность
Гудок теплохода
летит к Салехарду,
не держится сердце
за отчий очаг.
Начальник-геолог
раскрытую карту
с досадою вертит
и этак, и так.
«Ну, где же
искать там?» —
весь день он
в сомненьях.
Я ж песни свищу,
настроение – во!
Ему отыщу я
любые каменья,
второй Самотлор,
или лучше того!..
* * *
Чужая песня
Эти губы теплы, как прежде,
но в глазах твоих – тишина;
словно свет, чуть с утра забрезжив,
днём укутался в плотный туман.
…Я примчался в трамвайчике старом,
что качался, на стыках бренча;
в небе теплился лунный огарок,
и водитель: «В депо!» – кричал.
Вот предместное захолустье.
Деревянный домишко – мой храм! —
одинокого путника пустит,
хлопнув ставнями, до утра.
Где-то Гамлет с призраком в темень
о коварстве завёл разговор.
Я уткнулся в твои колени,
отметая сор наших ссор.
Но рука твоя, сострадая,
лишь скользнула в моих волосах.
Ты теперь, слышу, песня чужая,
здесь другие звучат голоса.
* * *
Прощание
Как пружинят рельсы —
гибкое литьё.
Скоростные рейсы,
«Сто седьмой» идёт.
Провожала молча,
холод тёплых губ.
Настроенье волчье,
ветер зол и груб.
За окном вагона —
море немоты,
вот конец перрона,
чахлые кусты.
Не махнула даже,
строгая ушла,
скоро ночь замажет
синеву стекла.
…Дым от сигареты,
лампы тусклый свет.
Не тобой согрет я,
сердцу хода нет.
Может, в том удача,
может, в том укор —
не переиначить
жизнь и разговор.
* * *
Осенняя ночь
Сонной осени лёгкий укор,
полной жизни природы примета —
лишь сосновый, негаснущий бор
продолжает цветение лета.
Я добрёл до развилки дорог,
позади только ямы, да кочки;
и почувствовал, как я продрог,
как живу неспокойно, неточно.
Ветер странствий становится злым,
я стоптал сапоги-скороходы;
и костра придорожного дым
ест глаза словно в юные годы.
Что ж ты, жизнь моя, мчишься вот так?!
В стоге сена сыщу ли иголку?
Но кому же на небе сквозь мрак
ночью звёзды сверкают так колко?!
* * *
Собака инвалида
Он стал добрей к своей собаке,
уже не зло по вечерам
припоминал собачьи драки,
трепал по морде там, где шрам.
Не попрекал кусками хлеба,
что на прокорм бросал он псу.
«А ты полай, своё потребуй,
глядишь, и мяса принесу».
Случалось, долго дверь ключом
не мог открыть он в доме сонном.
И пёс не лаял горячо,
когда старик входил наклонно
и стену бороздил плечом.
Десяток лет вдвоём в квартире.
Так что же горечь здесь скрывать?
Хрипел: повешусь, мол, в сортире, —
валясь в одежде на кровать.
Стекали слёзы по морщинам,
старик единственной рукой
пса обнимал и плакал: «Псина,
ну что ты, брат, ведь я с тобой…»
* * *
Лучше – тайна
Обогнал на переходе
и взглянул в лицо – случайно.
Словно свет нелёгкой тайны
выделял её из сотен.
Взгляд в ответ,
как взрыв незримый:
прочь стороннее участье!..
Или это отблеск счастья,
что всегда проходит мимо?
Но потом в толпе случайной
не ищи повторной встречи,
ты иной судьбою мечен:
понимать, что лучше – тайна…
* * *
Мне нравятся носастенькие…
Мне нравятся носастенькие бл*ди,
они как ведьмы утром, но потом
лицо придумают, аж зеркало в помаде!
На эту сказку потрясённо глядя,
Ван Гога дух замрёт с раскрытым ртом.
Мы с нею ночь, а утро – лишь остаток
профессии, судьбы или мечты.
Но – ах ты, чёрт! – как чай горяч и сладок,
и день начавшийся не так-то уж и гадок;
мы с чаровницею почти что у черты
взаимопонимания любого.
А потому дудим дуэтом в лад:
«Увы и ах, в начале всё же слово…»
«Певица П., конечно же, корова…»
«Придурок И. стишата тиснул снова…»
«А ну-ка, покажи свои обновы…»
Почти семейный утренний обряд…
* * *
Художница
Кисть и палитра – продолжение её рук,
как рычаги управления танком – моих.
Её конёк – одухотворённость,
её сущность – авангардизм,
её слабое место – богемность.
Человек – это стиль, следовательно,
и стиль – это человек.
Какой может быть женщина,
любящая истеричное сочетание
ярких пятен и резких ломаных линий?
Я – очередной привал в безнадёжном,
но не для неё, пути поиска Идеала.
Куда меня, танкиста, занесло?
Печально мне всё это,
и, ломая себя через колено,
пастеризуя кровь, пытаюсь
превратиться из точки остановки
хотя бы в запятую.
Запятую вытянуть в бесконечное тире,
по которому, как в китайском Дао,
она могла бы скользить дальше.
Она не осознаёт безнадёжность
борьбы с собой и пытается
снова согнуть тире в запятую,
запятую утрамбовать,
спрессовать до точки…
Но! Тире начинает ломаться,
дробиться, и из хаоса – невольно! —
три точки, три тире, три точки…
* * *
Жизнь
Банальная история:
он её бросил.
Ни с чего заспорили
о культе в наркомпросе.
А ребёнок – маленький,
и зарплата – тоже.
Всё богатство – валенки,
да портфель из кожи.
Только много надо ли
в жизни вам, учитель?
«Дети, на дом задали…»
«Эту сумму вычтите…»
Годы мерно капают,
как вода из крана.
Время мягкой лапою
загладило рану.
Дочка быстро выросла,
вся судьбою в маму:
детям в школе яростно
«Мама мыла раму!..»
Мчат десятилетия:
два и три, четыре.
Пенсию отметила
в крохотной квартире.
В пору предосеннюю
тихо отходила,
прямо на Успение
в объятия могилы.
Под конец подумала:
«Всё чего же ради?»
Раз – путёвка в Юрмалу,
два – гора тетрадей…
* * *
Ложь
Как бог после акта творенья
сползаю с жены и по краю
двухместно-кроватного рая
рассыпанное оперенье
ангела собираю —
одежды, чувства и ночи,
мысли, дни и надежды…
Закон расставанья не точен,
параграф «Прощанье» отсрочен,
но всё… всё не так, как прежде.
Я утром жене налажу
крылья и всё такое,
лететь ей в одну из башен
офисных новостроек.
Она у других в ответе
за освещенье улиц,
ловят электросети
деньги кварталов-ульев.
А я в ожидании ада
сниму и улыбку, и сердце.
Дьявол не носит «прада»,
ему ни к чему маскарады,
и, если огонь – расплата,
то мне и в костре не согреться…
* * *
Побег на запад
Ватага весёлых бандитов
утюжит ларьки на базаре.
В широтной глуши океана
японский бредёт китобой.
А Пётр, по фамилии Динер,
в Баварии пивоварит,
с Россией давно расплевался,
он стал стопроцентный тевтон:
«Вас ист? Я. Зер гуд!
Я. Драй пфенниг.»
Детишки, Денис и Танюшка,
по-дойчландски шпрехают лихо,
своё русопятство забыв.
«Шестёрка» Гремушников Витя,
придя после «дойки» с базара,
побрил лучезарно макушку
и жёлтый накинул халат…
Когда бы его увидали
китайцы лет этак за двести,
ему бы отрезали яйца
за наглое святотатство,
и долго пилили бы шею
тупой деревянной пилой…
«О, варваров дикое время!» —
сказал бы мудрец Вынь Сухим.
Сэнтё китобоя «Сё-мару»
Разглядывал фото любимой,
та голою грудью манила,
звала китобоя в Сянган.
И много их, фото любимых,
по стенам каюты висело,
и надписи тихо гласили:
«Пусан», «Кагосима», «Шанхай»…
Мда, секс-аппетит азиатский,
японский, сказать, аппетит.
«Божественный ветер с Востока!» —
Сказал бы Тояма-мудрец.
Гляжу на восход. Несомненно,
китайцы совсем обнаглели:
как зайцы, они косяками
сигают через границу,
хотят косоглазо заполнить
родимый Дальний Восток.
Герр Питер, член новонемецкий,
ты помнишь амурские волны,
зелёные кеды китайцев,
их фанзы, как наши сортиры,
их ватники круглый год?
В дозоре с тобой мы сидели
и лазерным дальномером
стволы артсистем наводили,
при этом китайцев лучили —
ведь был их уже миллиард.
Но тени китайских предков
встревожили русские души
(хоть был ты, Петро, и фольксдойч),
и нас понесло словно ветром.
Спасаясь от сонма пришелищ,
на Запад мы лихо рванули;
я в псковских увязнул болотах,
камрад же споткнулся о Рейн.
…Так что нас всех объединяет?
Мы жизни свои, словно кости,
смешали и бросили кучкой,
отдавшись на волю судьбы.
И, если взглянуть хладнокровно,
свои мы разрушили кармы,
и только сэнтё донжуанный
живёт с этой кармой в ладу.
* * *
Поезд тронулся. Станция мимо…
Поезд тронулся. Станция мимо
поплыла, как прощальный привет.
Взмах руки твоей, как в пантомиме,
семафорит: любви больше нет.
Слишком долго мы ждали друг друга,
пропустили свой главный рассвет.
Я – твой друг, ты мне – только подруга,
значит, точка. Любви больше нет.
Застучали по рельсам колёса.
На окне дождь оставил свой след.
Ты, представил, грустна, но бесслёзна.
Значит, правда: любви больше нет.
* * *
Деревенская улица
Эта музыка дальних дорог
Эта музыка дальних дорог
к нам в окно заплывает чуть слышно.
Как в дурмане твой шаг за порог,
и качнулась приветливо вишня.
За оградой – просторы полей,
горизонт упирается в небо.
Вдоль дороги ряды тополей
друг за друга цепляются слепо.
Из канавы торчат лопухи,
пёс зевает на солнце протяжно,
сохнет сеть – обещанье ухи,
гуси шествуют – чинно и важно…
Рай – не рай, но в родной стороне,
словно в детстве, я весел, беспечен.
Лишь смородинный куст не ко мне,
а к нему наклоняю я плечи…
* * *
Собрались тучи над селом…
…Собрались тучи над селом,
они нахмурились нестрого.
Гром глухо грянул, а потом
вдруг хлынул дождь.
В мгновенье ока
исчезла в струях даль дорог;
трава дрожала, как живая;
с весёлым шелестом поток
скакал по лужам, напевая.
И очищение приняв,
сирень светло предстала взору.
И я заметил: постояв,
печаль ушла по косогору…
* * *
Дожди
Вон за тем поворотом – река.
Над рекой – деревянный мост.
Тучи скрыли Земли берега,
даже ночью не видно звёзд.
Днём и ночью по крыше дробь
дождевых надоевших струй.
На полу жестяное ведро
ловит капли с ватагой кастрюль.
Утром изморось, как туман,
даже крик петуха хрипл.
Влагой пьян у забора бурьян,
и поникли листья у лип.
Мда, не радует летний срок,
что мне жить суждено в глуши:
как приехал почти без порток,
заработаю лишь гроши.
Свет один этих мокрых дней
(как насмешка – нашёл ведь где!) —
прочно в сердце на самом дне
это первое: «Здравствуй… те!»
Я возьму из сеней весло,
плащ-накидку сниму с крюка,
и на лодке махну в село.
Мост под утро снесла река.
* * *
Волк
Сжав челюсти от боли,
что капканом,
по снегу серый зверь
угрюмо ковылял;
на лапу припадал,
мотая ухом рваным,
бок развороченный
дымился кровью,
ал.
Ушёл.
А ведь казалось,
что не сможет.
Ушёл в урман,
опять в глухую тьму.
И рёбра
выпирали из-под кожи,
и смерти
захотелось самому.
А в сёлах кони
с хрипом бились
по конюшням,
да псы рычали,
выполнив свой долг.
И долго ночью вой
всем резал уши:
звериному
молился богу
волк.
* * *
Не знаю, в какую погоду…
Не знаю, в какую погоду
меня понесут хоронить,
и сколько припрётся народу,
чтоб водкой мой гроб окропить.
Но мнится мне: майской порою
под мленье и щёлк соловьёв
на кладбище прах мой зароют
у храма больших муравьёв.
И тенью поднявшийся в небо
по веткам склонившихся ив
узнаю, кому на потребу
прожил я, про Бога забыв…
* * *
Пастьба
Сапог, плаща и шапки груда —
пастух копной сидел в седле.
Анатомическое чудо
его держало на земле.
Хромой, кривой, мосластый мерин
стоял, губами шевеля.
И зрак его смотрел в поля;
и мир на этот взгляд был скверен:
никто ни в чём здесь не уверен.
Звучит начальственное мненье —
то пастырь щёлкает кнутом.
И всё отходит на потом:
и хмарь, и хворь, и дурь сомненья.
Так начинается движенье —
парнокопытные стада,
заводов кухонных руда,
богов двуногих утоленье…
* * *
Огород
До чего же природа пузата!
Где ни плюнь – вырастает цветок,
со стараньем амбала-медбрата
препарирует луч лепесток.
Мошки-блошки – всё божьи созданья! —
пулемётом строчат и строчат,
выпуская в среду мирозданья
мирриады блошат и мошат.
Овощей экзотических тени
облаками по небу плывут.
Огородники, встав на колени,
огурцам оформляют уют.
* * *
Баба с возу…
«Баба – с возу, кобыле – легче».
(русская пословица)
Баба с возу —
Земля содрогнулась!
А кобыла, счастливая, вскачь
расширять горизонты удач,
где б копытом земли ни коснулась.
Ну а баба,
как тёртый калач,
отлежалась в пыли, встрепенулась,
и ударилась в крики и плачь —
у неё полоса неудач.
Что за жизнь?
Одному если плохо,
то другому всегда хорошо.
Вот и пялимся в небо, всё бога
вопрошаем: куда ж ты ушёл?
* * *
Печь
Дров уложенная кучка,
спички быстрое безумство.
У огня свирепы зубы,
даже, если пламя штучно.
Печь напичкана печалью:
грёзы срубленных деревьев,
гроз гремевших над деревней
еле слышный отпечаток;
голоса старух ушедших
за порог – и до погоста;
пробный поцелуй подростка;
кашля рвущаяся ветошь;
стук станка, дорожку ткущий;
скрип отъехавшей телеги —
фонетических элегий
эхо с каждым годом гуще.
С каждым годом мысли резче,
с каждым годом чувства глуше.
Каждой ночью предков души
сны показывают веще.
Но, что видел, то забудешь.
То, что слышал, улетело.
По Руси блуждает тело,
увязая в топи буден.
То мороз целует окна,
то дожди с унылой страстью.
У природы мало счастья,
даже Вий с тоски подохнет.
…На скамейку брошу кости.
Тут же вскинусь удивлённо:
постучалось время оно,
как непрошенные гости.
Но трещит огонь весёлый
в охранителе домашнем.
Пламя лижет, гложет, пляшет.
Дымоход гудит басово.
* * *
Наших изб деревянные клетки…
Наших изб деревянные клетки,
окольцованы птицы сердец.
Здесь павлины любви крайне редки,
словно в смерти – счастливый конец.
Наших изб почерневшие кубы,
грязно-серые плоскости крыш…
Не пропитаны нежностью губы,
и поём – разухабисто-грубо
про всё тот же треклятый камыш…
* * *
В автобусе
Этот пьяный старик
всех достал разговорами,
всё бубнил про Героя медаль;
поимённо вождей назвал наших ворами,
и пророчил России печаль.
Помянул и детей: лоботрясы и сволочи
позабыли совсем старика.
Он ишачил для них от рассвета до полночи,
а теперь вон не гнётся нога.
А старуха его, косорылая дурочка,
попрекает бутылкой вина.
А ему-то всего через час да по рюмочке,
ну какая ж в бутылке вина?
Я в окошко глядел —
березняк, да ольховничек, —
краем уха ловил пьяный вздор…
Баня, дом, огород,
недозревший подсолнечник…
Старика судит пусть прокурор!
* * *
Огород мой очерчен оградой…
Огород мой очерчен оградой,
геометрия даже в глуши.
Только что-то соседи не рады
обелиску советской души.
Отчего-то недобро и строго,
словно снайперы, в окна глядят.
Я, наверно, ошибся дорогой,
воротившись лет десять назад.
Было время: хлеба колосились,
тракторов тарахтел караван —
на телегах траву вёз на силос
(или что там прикажет Госплан).
На конторе – портрет бровеносца,
и цифирь на щите – про надой.
«Пред» Козлов мелко-мелко трясётся,
но упорно твердит: «Пьянству – бой!»
Вот комбайны, как мамонтов стадо,
покатили в поля молотить…
И, казалось, что лучше не надо!
И, казалось бы, вечно так жить!
В небесах совершилось движенье:
время, вздрогнув, ударилось вспять,
спрессовались века до мгновенья,
выпал жребий Руси – вымирать.
Тракторов и комбайнов, всех вместе,
только кости ржавеют в полях.
Оказалось, конягой уместней
на кладбище свозить русский прах.
Оттого-то соседи недобро
на пришельца глядят сквозь стекло:
«погибоша» мы все, «аки обры»,
а тебя-то чего принесло?!
* * *
Я подвержен обычным порокам…
Я подвержен обычным порокам:
целованью отвергнутых жён,
сигаретой отмеренным срокам
я не верю. И пью самогон.
К смерти я отношусь несерьёзно:
в русских весях – отпетый буддист;
словно в кроне родимой берёзы
закачался вдруг пальмовый лист.
Что вы, мама? меня не корите.
Заунывное пение мантр,
как Давида враньё на иврите,
тот же отдых души и ума.
Мне простят православные предки
бритый череп и жёлтый халат;
предки сами собрали объедки
со стола иудейских ребят.
Ой, Перуне, Ярило и Макошь,
вас на пенсию с треском ушли!
Не забыли поставить, однако,
там, где капи, церквей корабли.
Я ведь тоже искал Беловодье
от Амура до Псковских болот.
Знал людей, но знавал и отродье,
совершая свой жизневорот.
Под судьбой, под звездой или богом
тени будд в свой назначенный час
растворятся в небесных чертогах,
за собой призывая и нас.
Но, когда надоест изученье
жизни, смерти, любви и окрест,
всё равно – без мученья, с мученьем —
лягу в землю под русский я крест.
* * *
Всё громче мёртвых голоса
Всё громче мёртвых голоса,
всё ближе час посмертной встречи.
Семейных снимков образа
глядят внимательней и резче.
Глядят из глубины времён
жильцы ушедших измерений.
Быть может, там, где Орион
стоит в своём извечном крене,
они собрались на совет
решать судьбу своих потомков…
А нити жизни тонки-тонки,
«и от судеб спасенья нет».
* * *
Весенний пейзаж
Остов комбайна – скелет динозавра,
а рядом, помельче, два тракторозавра
эпохи увядшего социализма —
мечта археологов, палеонтологов
грядущих времён со зверским
(для нас всё яснее) лицом.
Мартовский день, Большие Поганки —
деревня такая в просторах российских.
Несколько лет на радость «Гринпису»
крапива скрывает навечно забитый
(казалось недавно) маслом, соляркой
двор, что машинным лет сорок как звался,
там в летнюю пору земля – негритянка
(хоть с десять годков, как колхозу хана).
Железные кости указанных «завров»
лежат на прогалине. Чёрной фигурой
промасленный «грач» среди этих останков —
Василий-сосед, божий самаритянин,
надежда последняя бабок деревни.
(О, бабки деревни, стальная опора
прогнивших режимов! Вот странная штука:
чего им, старпёркам, теперь не хватает?
Им «памперсы» нынче, и «сникерсы» вкупе…).
Что Вася творит, громыхая ключами:
комбайновый трактор, иль тракторный комби?
Надежда большая витает в округе,
что будет конструкция двигаться всё же;
и бабкины сотки в весеннем томленье
не станут страдать от ненужного девства:
пройдётся по чреслам, так жаждущим силы,
фаллос железный плуга-трудяги…
* * *
Пленительна, как юная Баба Яга
Пленительна, как юная Баба Яга,
миниатюрна, как нецке,
Катюха платочек держит у рта-
источник сомнительный слёз! —
да изредка по носу им проведёт,
чтоб тот покраснел, словно знамя:
«По лавкам трое плачут,
обед – лишь суп с крапивой.
Работы нет, поскольку
товариществу крышка.
На кой нам ляд четвёртый?
Такое это дело.
А демократы деньги
дерут и за аборты.»
И снова по носу известным платочком,
ведь слёзы до глаз не поднялись пока.
Сосед-горожанин (приехал на лето)
смущён, и в затылке задумчиво чешет:
и жаль голодрань, и 500 рэ – не шутка.
С Катюхою – Шурик, сожитель давнишний,
нескладный такой, бестолковый до жути,
как знак вопроса в команде: «В атаку! За мной?»
Как взглянешь – шалеешь от скудости генной
российских отцов: ой-ёй-ёй что же будет?
Но в мире есть вещь, солидарость зовётся!
Коль памятник ей был бы выстроен, верно
блестел бы, облизан с макушки до пяток
потоком сплошным поцелуев адептов.
Вздохнул и сосед: что мы, разве не люди?
И, с Ротшильдом схожий, от чистого сердца
творцам демографии новой России,
слюнявя купюры, пол-«штуки» он выдал.
Нежданной игрою судьбы и везенья
счастливые Шурик с Катюхой рванули
в ларёк фирмы «Кинтас» (ну что за названье?!)
формально – обмыть первый сбор «урожая»,
ведь дачный сезон только-только начался;
на кон свои жизни поставить по факту,
сыграть в выживанье, как в «русской рулетке»,
(с чего бы водяра в ларьках так дешёва?)
А Ротшильд заезжий родную «тойоту»
огладив, как бабу, вздохнул с сожаленьем,
что хоть с «мерседесом»,
хоть с «грандом чероки»
она б целовалась – всё толку немного,
аборт не грозит ей в любом варианте.
…Наивный горожанин,
в райцентровской больнице
скобарок чистят даром,
и паспорта не спросят.
* * *
Утро
Цветёт в горшках весёлая герань,
струит эфир безоблачного счастья.
Бормочет радио о буднях террористов:
двух синагог в Стамбуле будто не бывало.
Как с торбой писаной – евреи с Арафатом,
как с тем же самым – палестинцы с интифадой,
из той же оперы – Америки свободы,
и лыко в строчку – «ичкерийские» свободы.
Летят друг к другу в гости Шрёдер, Путин,
премьер английский к ним мостится сбоку…
Сообразят отцы народов на троих!
Жена стучит у печки кочергой.
Красавица в обносках Бабки-Ёжки,
тебя б одеть в меха, шелка и злато!
Но ситуация картёжникам знакома:
коль нет бубей, хоть членом бей! —
валютный курс не в пользу русопятых.
Как стойкий муж и верный гражданин
лежу в кровати. Воскресенье.
Своих не тянут лап ко мне
ни церковь, ни работа.
Давным-давно нет первой на селе;
что до второй, с синонимом «зарплата»,
то реформаторы печатно объяснили,
что не нужны пейзаны в русских весях,
что нефть заменит нам и хлеб и молоко,
что русским лучше б вовсе умереть,
согласно мненью Гитлериссы Тетчер
(полсотни миллионов – за глаза! —
обслуживать для белых нефтесиську).
Визжит в хлеву голодный поросёнок.
Труба зовёт! Жена наводит пойло.
Несу ведро кумиру мясоедов.
Сынуля (кличка тайная «Щекастов»)
лопатой шурудит навоз: из стойла,
как снайпер, мечет удобрение в оконце
на радость будущей картошке и моркови.
Мечта Столыпина! готовый Скуперфильд!
почти что фермер шесть годков от роду.
Хана Америке, ты зря нас разбудила!
Вот мой ответ вам, братцы-компрадоры,
вот мой ответ вам, Чемберленша Тетчер!
* * *
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































