Текст книги "Дмитрий Мережковский: Жизнь и деяния"
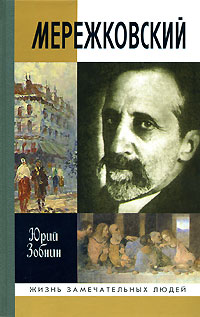
Автор книги: Юрий Зобнин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Юрий Владимирович Зобин
Дмитрий Мережковский: Жизнь и деяния
Александру Запесоцкому
Из Фраскатти в старый Рим
Вышел Петр Астролог.
Свод небес висел над ним,
Точно черный полог.
Он смотрел туда, во тьму,
Со своей равнины,
И мерещились ему
Странные картины.
Н. А. Морозов
НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ
В июле 1879 года тайный советник Сергей Иванович Мережковский, зная о стихотворных опытах четырнадцатилетнего сына Дмитрия и весьма одобряя его литературные пристрастия, повез юного поэта в Алупку к княгине Елизавете Ксаверьевне Воронцовой – той самой, с именем которой у всех поколений пушкинских читателей неразрывно связаны строки «Талисмана»:
Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман…
Теперь это была глубокая старуха, пережившая всех из блистательной плеяды золотого века и, самим существованием своим, почти неправдоподобная в преддверии века серебряного. «Я не знал, – признавался потом Мережковский, – что имею счастье целовать ту руку, которую полвека назад целовал Пушкин».
Мальчик читал стихи; Елизавета Ксаверьевна слушала – так и хочется добавить: «слушала рассеянно, полузакрыв глаза». Что она могла сказать своим «литературным визитерам»?
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему…
(А. С. Пушкин «19 октября [1825]»)
Митя Мережковский завершил чтение. Воронцова помедлила, затем вдруг, повернувшись в кресле, указала на одну из мраморных статуэток, украшавших кабинет:
Изобразил послушный мрамор в ней
Людскую душу в то мгновенье, как цепей
Плотских позор на волю покидая,
Она, в простор небес полет свой направляя,
Не сбросила еще свой саван гробовой,
Тяжелый саван суеты и лжи земной,
Но гонят уж лучи небесного сиянья
С чела следы борьбы и дольнего страданья…
– Вот – поэзия…
«Бывают в жизни каждого человека минуты особого значения, которые соединяют и обнаруживают весь смысл его жизни, определяют раз навсегда, кто он и чего стоит, дают как бы внутренний разрез всей его личности до последних глубин ее сознательного и бессознательного», – писал Мережковский, приступая к исследованию жизни Л. Н. Толстого. Для самого же будущего автора «Л. Толстого и Достоевского» миг откровения наступил тогда, 9 июля 1879 года: в болезненном мальчике, читающем по-детски неумелые подражания Пушкину и Некрасову, «волшебница» Воронцова уловила подлинно поэтическое свойство – необыкновенную метафизическую чуткость души, угадывающей за «земной суетой и ложью» – Незримый Свет, «небесное сиянье», преображающее косную плотскую тварь.
Мережковский проживет долгую жизнь и оставит грандиозное наследие: стихи, романы, рассказы, поэмы, философские эссе, литературоведческие и религиоведческие исследования – всего не перечислишь. История его духовных странствий сложна и во многом противоречива: кому-то он казался «русским европейцем», кому-то, напротив, «националистом», звали его и «ницшеанцем», и «декадентом», и – «Лютером от Православия», и «лжепророком», и «пророком непонятым»; на какое-то время он прослыл чуть ли не «серым кардиналом» Временного правительства; советская критика настойчиво вменяла ему даже фашистские пристрастия (последнее, слава Богу, сейчас уже отошло в область литературоведческой «мифологии»).
Однако для нас главным в Мережковском является то, что он стал одним из инициаторов религиозного возрождения в среде русской интеллигенции XX века. «Будем справедливы к Мережковскому, будем благодарны ему, – писал краткий союзник, а затем последовательный и принципиальный критик трудов Дмитрия Сергеевича – Н. А. Бердяев. – В его лице новая русская литература, русский эстетизм, русская культура перешли к религиозным темам… В час, когда наступит в России жизненное религиозное возрождение, вспомнят и Мережковского, как одного из его предтеч в сфере литературной».
* * *
Начиная свое повествование, я приношу глубочайшую благодарность тем, без кого этот труд был бы невозможен: директору петербургского музея «Анна Ахматова. Серебряный век» Валентине Андреевне Биличенко, моей жене Антонине Михайловне Зобниной, моему свояку Юрию Михайловичу Слепушкину и его жене Ксении Валерьевне, моему другу Станиславу Вячеславовичу Нилову.
Санкт-Петербург,
Путинские ворота.
29 января 2006 года
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Семья Мережковских. – Детские годы. – Гимназия, первые литературные опыты
О своем детстве и отрочестве Мережковский достаточно подробно рассказывает в «Автобиографической заметке», помещенной в знаменитом сборнике С. А. Венгерова «Русская литература XX века» и в поэме «Старинные октавы».
Отец будущего писателя Сергей Иванович Мережковский был достаточно заметной фигурой в бюрократической машине правительства Александра II. Сын гвардейского офицера, участника Отечественной войны, внук глуховского войскового старшины, Сергей Иванович выбрал карьеру чиновника, прошел все ступени служебной лестницы и вышел в отставку в чине действительного тайного советника, вторым классом «Табели о рангах». Всё александровское царствование Сергей Иванович прослужил в придворной конторе при министре двора графе Адлерберге и, судя по свидетельствам современников, являл собою совершенный образец того, что ныне принято называть «аппаратным работником».
Очень работоспособный, аккуратный, педантичный, волевой, прекрасно разбирающийся в тонкостях внутриполитической интриги, Сергей Иванович смог сохранить в бурную реформаторскую эпоху репутацию здравомыслящего прагматика, в корректности и безупречной честности которого не сомневались ни друзья, ни противники. «Житейский ум, суровый и негибкий», слишком хорошо узнавший за время долгого и трудного восхождения к вершинам карьеры «жизнь и людей» и потому свято верующий только в «практический суровый идеал», – вот характеристика, данная отцу сыном. Образ отца, несомненно, ассоциировался у Мережковского с толстовским Карениным.
Подобно герою Л. Толстого, Сергей Иванович не считал нужным привносить в жизнь своего дома элемент «приватности» – здесь царил строгий, размеренный, жестко организованный быт, «казенная атмосфера присутствия», не располагающая к искренним родственным отношениям. Тон сознательно задавал отец. «Чиновник с детства до седых волос» и к тому же убежденный «англоман» по привычкам, он не терпел «нежности сердечной», почитая ее выражением слабости и безволия. Дело доходило до того, что мать и нянька тайком пробирались в детскую, чтобы приласкать своих любимцев, – отец строго пресекал всякие излияния чувств, ограничиваясь лишь холодным «bonjour» или «bon nuit» – и поцелуем в щеку.
Сергей Иванович не терпел шума и беспорядка, детские игры и возня раздражали его, так что во избежание выговоров дети ходили у кабинета Мережковского-старшего на цыпочках и пользовались, вместе с прислугой, черным ходом, чтобы лишний раз не беспокоить отца звонком.
В доме – а Мережковские занимали огромную двухэтажную казенную квартиру в доме на углу набережных Невы и Фонтанки – был заведен режим строгой бережливости. Обстановка была самая простая, даже мебель для сохранности в будни зачехлялась, а все предметы роскоши, в изобилии накопленные за долгие годы службы, – меха, фарфор, украшения и т. п., – были заперты в коридорах в огромных березовых шкафах и являлись только по большим праздникам. Стол – за исключением торжественных случаев – не изобиловал; по крайней мере, Мережковский с удовольствием вспоминал, как после отцовских именин он три дня объедался холодными блюдами, оставшимися от праздничной трапезы. В обычные же дни лишней копейки не тратилось – жена и экономка обязаны были давать главе семейства ежедневный детальный отчет по хозяйственным суммам.
Карманных денег не полагалось. Любая, даже самая невинная и незначительная трата, выходящая за пределы хозяйственной необходимости, влекла за собой продолжительные и строгие выговоры. Мережковский рассказывал, как однажды тайком мать купила ему в кондитерской неожиданный подарок – картонного верблюда, внутри которого были бисквиты. Отец, разузнав о «расточительстве», обрушил на жену такой поток упреков, что испугал сына. Бисквиты пришлось есть «напополам с горькими слезами». В другой раз, играя, Дмитрий опрокинул отцовскую чернильницу и залил зеленое сукно на письменном столе. От страха с ребенком случился нервный припадок.
Вообще, даже спустя много лет, Мережковский не без содрогания вспоминал:
…Упреки,
Неумолимый гневный крик отца,
На трату денег вечные намеки,
И оправданья мамы без конца.
«Мне теперь кажется, – заключал рассказ об отце Мережковский, – что в нем было много хорошего. Но, угрюмый, ожесточенный тяжелой чиновнической лямкой времен николаевских, он не сумел устроить семьи». И здесь опять-таки возникает каренинский мотив.
Как и его литературный двойник, Сергей Иванович, кажущийся в какой-то миг «живой машиной» и большей частью – «злой машиной», затем вдруг странно преображается так, что в нем, несомненно, ощущаются и человечность, и душевная глубина, и даже какая-то особая, стеснительная доброта.
Он действительно идеальный работник и идеальный семьянин. В отличие от большинства коллег по службе он не честолюбив, равнодушен к чинам и наградам, руководствуясь во всех своих действиях ясным сознанием чувства долга – начало, развитое в нем в высшей степени. Тем же чувством долга, но уже перед семьей, обусловлена его скупо-бережливая семейная «экономика»: он очень озабочен будущим своих чад.
«За нас отец готов был жизнь отдать», – говорит Мережковский; не учитывать и это было бы несправедливым.
В семье Мережковских девять детей – шестеро сыновей и три дочери.
В домашних строгостях, на самом деле доходящих порой до жесткости (чтобы не сказать – до жестокости), Сергей Иванович, несомненно, преследовал и вполне ясную воспитательную цель, подсказанную все тем же жизненным и большей частью горьким опытом. Считая источниками всех человеческих пороков мотовство, праздность и необязательность, Мережковский-старший прилагал все усилия, чтобы предотвратить развитие этих качеств в детях – с помощью спартанской простоты быта, суровой дисциплины, воспитания трудолюбия.
Да, он не «возится» с детьми, держится с ними подчеркнуто сухо, но он не жалеет времени и сил, чтобы войти во все подробности их детского труда: еженедельно по субботам он педантично просматривает гимназические дневники, пространно обсуждая успехи и неудачи. Прекрасный администратор, поднаторевший в знании человеческой природы, он прозорливо угадывает личные пристрастия и склонности каждого, незаметно и заботливо направляя усилия в правильное русло.
В конце концов, именно отец первым замечает литературное дарование Дмитрия. И, отметим, этот строгий и трезвомыслящий человек, менее всего склонный к поэтическим мечтаниям, всячески демонстрирует свою поддержку и поощряет юного поэта к творчеству. Беловые списки стихов Сергей Иванович по собственному почину отдал в придворную переплетную мастерскую – и вышел первый «стихотворный сборник», хотя и в единственном экземпляре, но в роскошных кожаных корочках, а главное – с золотым тиснением: «Стихотворения Дмитрия Мережковского». Интересно, что отец был счастлив не менее сына и с гордостью демонстрировал это самодеятельное «издание» своим знакомым.
Знакомства Сергея Ивановича также следует упомянуть в качестве неких побудительных импульсов, стимулирующих творческую деятельность будущего автора «Христа и Антихриста». О визите к Елизавете Ксаверьевне Воронцовой и о его значении в жизни Дмитрия Мережковского уже говорилось выше. Огромное впечатление на начинающего литератора произвело и знакомство с Федором Михайловичем Достоевским, к которому опять-таки его привел отец (Сергей Иванович был вхож в салон графини Софьи Андреевны Толстой, вдовы известного поэта и драматурга Алексея Константиновича Толстого и доброй знакомой Достоевского в последние годы его жизни). Мережковский на всю жизнь запомнил маленькую квартиру в Кузнечном переулке, заваленную томами «Братьев Карамазовых», пронзительный взгляд бледно-голубых глаз Федора Михайловича. Дмитрий читал, «краснея, бледнея и заикаясь», Достоевский слушал «с нетерпеливою досадою» и затем вынес очень характерный для него «приговор»:
– Слабо, плохо, никуда не годится. Чтоб хорошо писать – страдать надо, страдать!
– Нет, пусть уж лучше не пишет, только не страдает! – испугался Сергей Иванович.
Последняя реплика, сохраненная в памяти сына, неожиданно приоткрывает в характере отца какую-то особую, сокровенную черту.
Мережковский вспоминал, что в детстве, ласкаясь к матери, он неоднократно замечал вдруг на суровом и недовольном лице отца что-то очень похожее на ревность и зависть. Сергей Иванович, сам сделавший все, чтобы не допустить никаких личных, дружеских отношений между ним и детьми, испытывал внутреннее страдание, переживая это «родственное отчуждение» как досадное недоразумение, непонимание со стороны самых близких ему существ.
Любовь – подлинная, всеохватывающая, исступленная – была ему знакома не понаслышке.
В семье Мережковских царил культ матери Варвары Васильевны, причем истоки этого культа были различны со стороны отца и детей. Для последних она была вечной заступницей перед суровым отцом, источником той человеческой теплоты, которую отец заменял жестким волевым диктатом:
В суровом доме, мрачном, как могила,
Во мне лишь ты, родимая, спасла
Живую душу, и святая сила
Твоей любви от холода и зла,
От гибели ребенка защитила;
Ты ангелом-хранителем была,
Многострадальной нежностью твоею
Мне все дано, что в жизни я имею.
Сергей Иванович, женившись уже вполне зрелым человеком (в тридцать два года), вдруг обнаружил – вероятно, не без испуга – никогда не испытанную им ранее и какую-то иррациональную, необоримую зависимость от молодой жены. По крайней мере, изводя жену постоянными поучениями и придирками, он в то же время шагу не мог без нее ступить, требовал ее всегдашнего непременного присутствия рядом и даже получил у начальства особое разрешение для Варвары Васильевны сопровождать его в служебных командировках (хотя ей – болезненной и слабой – подобные частые разъезды были, конечно, очень тяжелы).
Варвара Васильевна, урожденная Чеснокова, дочь управляющего канцелярией петербургского обер-полицмейстера, обладала редкостной красотой и ангельским характером. Тактичная, добродушная, остроумная, прекрасная хозяйка и заботливейшая мать, она также страстно любила мужа, относясь к его вечному брюзжанию и эгоистическим чудачествам (далеко не всегда безобидным) с той терпеливой мудростью, которая в подобных обстоятельствах одна только и могла сохранить мир в семье. Никогда не повышая голоса, всегда и во всем соглашаясь с Сергеем Ивановичем, она, как вспоминал Мережковский, «то хитростью, то лаской боязливой» в конце концов настаивала на своем, особенно если дело касалось детей. Такая многолетняя внутрисемейная «дипломатическая работа», роль постоянного посредника-миротворца, однако, гибельно сказались на ее и без того очень слабом здоровье – она страдала мигренью и лихорадочными припадками, которые и свели ее в могилу в 1889 году.
Сергей Иванович, проживший после смерти жены девятнадцать лет (он скончался 17 марта 1908 года, восьмидесяти восьми лет от роду, почти день в день со смертной годовщиной Варвары Васильевны), до конца жизни так и не смог смириться с кончиной своей «голубушки», как он всегда ее называл. Утрата сломила этого сильного и практичного человека: ко всеобщему удивлению, он все свое время стал уделять… спиритическим сеансам, требуя от медиумов вызывать дух жены. Жил он совершенно один, устроив по возможности детей, зимой – в Петербурге, прочее время – в Париже, куда уезжал, как правило, внезапно, никому не оставляя адреса. Его окружали всевозможные шарлатаны, подсовывавшие ему письма от «голубушки» и фотографии вызванного «духа», которые он радостно демонстрировал детям во время редких визитов. Ни у кого не хватало решимости его переубеждать – это осталось единственным смыслом его жизни. Похоронить себя он велел рядом с женой на кладбище петербургского Новодевичьего монастыря, где купил себе место сразу после похорон Варвары Васильевны. На погребении присутствовали лишь двое из его многочисленного потомства. Мережковский получил телеграмму о смерти отца в Париже, ранним утром, и отнесся к этому очень спокойно. За завтраком, когда Зинаида Николаевна Гиппиус вдруг прослезилась, он удивленно посмотрел на нее: «Что с тобою? – а затем прибавил: – Ах, ты это, верно, об отце…»
* * *
Так случилось, что Мережковский, помимо матери, не чувствовал кровной, семейной связи ни с кем из ближайших родственников. Он сам сознавал в себе этот душевный «дефект», с горечью признаваясь в «Старинных октавах»:
Я не люблю родных моих, друзья
Мне чужды, брак – тяжелая обуза.
В томительной пустыне бытия
Гонимая, отверженная Муза —
Единственная спутница моя…
Здесь, конечно, существует некоторое драматическое преувеличение, и, как мы увидим далее, рассказ Мережковского о своем человеческом и творческом «одиночестве» требует от биографа известных уточнений. И тем не менее действительно ему подчас свойственно было странное, какое-то «ставрогинское» равнодушие к «человеческому, слишком человеческому» в отношениях между людьми, как бы «вежливая бесчувственность» к окружающим, которую одни принимали за необыкновенную гордыню, другие – за исключительную самоуглубленность, третьи – за способ самозащиты ранимой до истерии натуры.
Отношения с братьями и сестрами в отроческие и юношеские годы оказываются в этом смысле первой «горестной школой» жизни, оставившей затем свой печальный след на личности художника.
«Нас было девять человек: шесть сыновей и три дочери, – вспоминает он. – В детстве мы жили довольно дружно, но затем разошлись, потому что настоящей духовной связи, всегда от отца идущей, между нами не было». Однако следует признать, что двое братьев – Константин и Александр – все-таки сыграли значительную роль в становлении личности Дмитрия Мережковского.
Константин, самый старший из братьев, играл в семье роль infant terrible. Любимец матери и надежда отца, студент юридического факультета, подававший блестящие надежды на правоведческом поприще, Константин Мережковский увлекся Спенсером и теориями Дарвина, перевелся на факультет естественных наук и, к ужасу отца, стал горячим сторонником самых радикальных политических учений. Обстановка в семье из-за частых столкновений сына с отцом стала невыносимо напряженной.
Отношения особенно обострились весной 1878 года, после того как Константин вместе с другими товарищами-студентами горячо приветствовал оправдательный приговор, вынесенный судом присяжных В. И. Засулич, покушавшейся на жизнь петербургского градоначальника генерал-адьютанта Ф. Ф. Трепова. Сергей Иванович, услышав об оправдательном приговоре, вынесенном Засулич, сначала не поверил своим ушам, а затем резко выбранил сына за «нигилизм». Возник спор, который вскоре принял настолько острый и оскорбительный характер, что только вмешательство матери предотвратило окончательный разрыв. Однако с этого момента вплоть до рокового 1 марта 1881 года между Константином и отцом наличествовала почти неприкрытая вражда. В день цареубийства произошло последнее столкновение: Константин ушел из дома.
Дальнейшая судьба Константина Сергеевича весьма своеобразна. Он достиг известных успехов на биологическом поприще, однако его народническо-социалистические убеждения трансформировались в проповедь свободы нравов в духе откровенной эротомании. Он написал и опубликовал футурологическую повесть «Рай земной, или Сон в зимнюю ночь. Сказка-утопия XXVII века» (Берлин, 1903), в которой грядущий «золотой век» оказывается, по мнению автора, эрой евгенического отбора, абсолютного сексуального освобождения и торжества чувственно-звериного начала в человечестве. Этот скандальный текст некоторые консервативные критики приписывали позже Дмитрию Сергеевичу как яркое доказательство «ницшеанского и упаднического» характера его творчества.[2]2
Сюжет повести таков: человеку XIX столетия снится, будто он тонет, почти теряет сознание, но нахлынувшая волна выбрасывает его на берег у одного из островов Тихого океана из группы Таити. На этом острове обитают люди XXVII века, среди которых герой проводит два дня. Островитяне, хоть и сохранившие пол, мало похожи на современных людей, ибо делятся на три качественно разнородные группы: «покровителей», «друзей» и «рабов». Покровители единственные из «людей XXVII века» сохранили способность к волевой, сознательной деятельности и управляют всем общежитием. «Рабы» предназначены к физическому труду, причем этот труд осуществляется ими инстинктивно, без тягости, как пчелами и муравьями. Фабрик и заводов в этом «земном раю» мало, так как люди в тропическом климате нуждаются в немногом. Основной же массе населения «райского острова» – друзьям – остается наслаждаться «счастьем», проводя жизнь в бесконечных играх и наслаждениях. «Это куст, весь покрытый красивыми, пахучими цветами, с ярко раскрашенными бабочками, порхающими с цветка на цветок, с весело поющими птичками, вьющими свои гнезда в его ветвях, весь полный жизни и оживления, весь залитый лучами солнца», – пишет К. С. Мережковский, передавая впечатления героя от жизни среди «друзей». Старости и болезней они не знают: когда им исполняется 35–40 лет, «покровители» дают им особый напиток – «нектар», – погружающий их в сладкий сон, во время которого они умирают. Смерть их держится «покровителями» в секрете: на вопросы «друзей», куда делись их товарищи, следует ответ, что они уехали путешествовать. Смысл бытия «острова блаженных» поясняет герою один из «покровителей», Эзрар, указывая на исторически неизбежную трансформацию человечества: «…Мысль, счастье и труд – это три такие элемента, которые не соединимы в одном лице, несовместимы друг с другом, как несовместимы огонь, вода и воздух, и только тогда, когда каждый из них выделился в нечто обособленное и олицетворился, один – в покровителях, другой – в друзьях, третий – в рабах, стало возможным появление на земле и самого счастья в чистом его виде. Насильственно соединенные, они, как огонь, вода и воздух, могли произвести только хаос…»
[Закрыть]
В конце концов, Константин оказался замешанным в каком-то темном деле, связанном с растлением несовершеннолетних, вынужден был покинуть столицу и перебраться в дальнюю провинцию. После революции он, как и младший брат, эмигрировал; в 1921 году он покончил с собой в Швейцарии.
Этот странный, изломанный человек, в котором так болезненно выразилось все духовное неблагополучие научной и творческой русской интеллигенции второй половины XIX века, в конце семидесятых годов на некоторое время становится для младшего брата-гимназиста, как позднее выразился Мережковский, чем-то вроде «мудрого змия-искусителя» при «Адаме в райской сени»:
Он все, во что я верил, разрушал…
Дмитрий тайком приходил к брату в университетскую лабораторию в здание «Двенадцати коллегий». Там при инфернальном голубоватом свете спиртовки, накаляющей шипящую колбу с опаловой дымящейся жидкостью, под сухой треск гальванической машины братья вели долгие страшные «карамазовские» разговоры. Константин, «волей тверд в добре и зле без удержу, без меры», «смеялся над чертом и над Богом», разворачивал перед «дрожащим» от чудовищных кощунств младшим братом жуткие теории социального дарвинизма и демонстрировал ему под микроскопом инфузорий, пожирающих друг друга, что, очевидно, было наглядной иллюстрацией к сказанному:
И любопытство жадное влекло
К опасности на крайние ступени,
И в первый раз на детское чело
Уже недетских дум ложились тени:
Пленяет душу человека зло.
Впечатляющий и весьма важный для понимания юношеских исканий Мережковского биографический «сюжет»! Он дополнялся еще и тем, что Сергей Иванович после скандала вокруг истории с оправданием Засулич решил препоручить дело спасения старшего сына некоему «ученому попу», занимающемуся миссионерством (зная связи Сергея Ивановича, легко предположить, что это был кто-то из лучших православных мыслителей того времени). Священник, оказавшийся знатоком новейших естественно-научных теорий и палеонтологии, был к тому же на редкость мягким и деликатным человеком. Он навещал Мережковских по субботам: «в лиловой рясе с золотым крестом» уютно располагался в гостиной, неспешно угощался чаем с баранками и между прочим в спокойной, дружеской застольной беседе, столь отличной от скандальных инвектив Сергея Ивановича, искусно опровергал дарвинистские постулаты Константина, толковал книги Моисея и доказывал наличие Провидения. Мережковский непременно присутствовал при этих «миссионерских чаепитиях»:
И спорам их о Боге без конца
Я с жадностью внимал, дохнуть не смея…
Если для старшего брата усилия священника, по-видимому, остались втуне, то младший, напротив, оценил встречу с «умным миссионером» как «маленькое чудо», сотворенное Богом лично для него по его молитвам как раз в тот момент, когда его слабый детский ум «изнемог в борьбе с мятежнымдухом, дьяволом науки». По крайней мере, рано испытав в беседах с братом обаяние безбожия, юный Мережковский столь же рано узнал и то, что его старший современник, великий русский мыслитель Константин Леонтьев называл «мрачно-веселым обаянием Православия, глубокого для ума, простого для сердца».[3]3
Здесь и далее слова в цитатах выделены автором настоящей книги, кроме специально оговоренных случаев.
[Закрыть]
Александр, в отличие от Константина, играл в отношениях с младшим братом роль конфидента-собеседника. Это был мечтательный юноша, неуклюжий и молчаливый, целиком погруженный в свои фантазии, презирающий «тьмы низких истин» повседневности настолько, что по завершении гимназии всерьез собирался затвориться в монастыре. В отличие от других братьев и сестер Александр, видимо, был душевно открыт и весьма расположен к откровениям юного Мережковского. Во всяком случае, последний с теплотой вспоминал их разъезды на лодке по Средней Невке вдоль берегов Елагина острова, беседы «обо всем», когда «казался купол неба над водой лазурной опрокинутою чашей». Судя по всему, будущий поэт испытывал простое счастье, забывая как гимназические грамматики, так и прежние «теологические кошмары», навеянные беседами с Константином.
Однако вдруг возникшей дружбе не суждено было окрепнуть: романтик Александр по мере «воспитания чувств» пережил метаморфозу убеждений и монастырскому уединению предпочел должность чиновника особых поручений. Он уехал из Петербурга и перестал общаться с братом-писателем. Как подытожил Мережковский:
Немало в жизни всяких превращений!
Некоторое время после смерти матери Дмитрий поддерживал отношения с другим братом, Сергеем (они были погодки, учились в одном классе, но в гимназии недолюбливали друг друга, ибо Сергей был «насмешлив и хитер»), работавшим микробиологом в Медицинской академии; тот был дружен с сестрами Гиппиус и несколько раз летом гостил у Дмитрия Сергеевича и его жены на даче. Эта связь прекратилась сама собой, так что даже телеграмму о смерти отца в 1908 году дал Мережковскому не Сергей, которого не было при покойнике, а свояченицы.
Прочие родственники (братья Николай и Владимир, сестры Надежда, Елизавета и Вера) абсолютно незаметны в жизни Мережковского. Это большое и на первый взгляд столь благополучное семейство оказалось колоссом на глиняных ногах. Как только мать, жизнь положившая за сохранение мира в семье, тихо уснула смертным сном в квартире на Знаменской улице, служившей прибежищем для остатков семьи с 1881 года (после отставки Сергея Ивановича, изгнания Константина, замужества Надежды и отъезда Александра и Владимира из Петербурга), все узы, связывающие отца и детей, в одночасье истлели. В безнадежном мраке истории человеческих семейств от этой семьи осталась лишь печальным напоминанием странная привычка младшего брата к месту и не к месту повторять в своих статьях и романах скорбные слова Христа: «Враги человеку домашние его».
* * *
Дмитрий Сергеевич Мережковский родился 2 (14) августа 1865 года в Петербурге, в одном из флигелей Елагина дворца, где семейство Сергея Ивановича традиционно проводило летние месяцы. Он был поздним ребенком (младше в семье была только сестра Вера), и, как это часто бывает, симпатии родителей и старших детей по отношению к нему оказались обратно пропорциональны: первые явно благоволили к «младшенькому», вторые – особенно не жаловали. Впрочем, как мы уже знаем, и приязнь, и неприязнь в клане Мережковских воплощались в весьма своеобразные формы. К тому же и характер у маленького Мити оказался нелегким. Это был крайне возбудимый и впечатлительный мальчик, очень болезненный и хрупкий; здесь, очевидно, сказывалось материнское начало. Внешне же Митя пошел в отца – невысокий, хотя и изящно сложенный, с неправильными чертами всегда очень бледного лица, характерными скулами, как бы «всасывающими» щеки (с годами эта фамильная схожесть становилась все заметнее).
Ребенок с самых первых лет пугал домашних необъяснимыми приступами панического страха – внезапно «белел как мертвец», замечая около себя нечто, и кричал, тыча пальчиком в углы, так что приходилось дежурить возле его постели и ярко освещать спальню лампами. Родители были крайне обеспокоены: мать пыталась унимать его сластями, отец, хоть и усмехался презрительно, глядя на расстроенную жену, тоже проводил все эти беспокойные ночи напролет в детской, пытаясь успокоить сына по-своему – издеваясь над его страхами и высмеивая их. Неизвестно, какая из родительских методик подействовала, но кошмары оставили Митю.
Маленький мальчик был очень религиозен, причем его религиозность сопровождалась какой-то неподдельной и явно не детской мистической экзальтацией. Тому немало способствовала нанятая няня – «почтенная старушка», любившая рассказывать своему питомцу сюжеты Четьих миней:
Мне жития угодников святых
Рассказывала няня, как с бесами
Они боролись в пустынях глухих.
Как некое заклятие трикраты
Монах над черным камнем произнес
И в воздухе рассыпался проклятый,
Подобно стае воронов, утес:
Я слушал няню, трепетом объятый
И любопытством, полный чудных грез,
От ужаса я «Отче наш» в кроватке
Твердил всю ночь в мерцании лампадки.
Мережковский был замкнутым и нелюдимым ребенком, «угрюмым, как волчонок», во время визитов посторонних постоянно прятался по углам, дичился не только гостей, но и братьев. У него был собственный мир, в который претворяла «скучную казенную квартиру» его яркая фантазия, – мир сказочный, чарующе прекрасный и опять-таки пугающе страшный своей таинственностью:
…Чудилась мне тайна в нишах темных,
В двух гипсовых амурах, в зеркалах,
В чуланах низких, в комнатах огромных, —
Все навевало непонятный страх…
Он очень рано научился читать, и границы мира, созданного его фантазией, вдруг неимоверно расширились. Первым чтением, поразившим его настолько, что потом он был верен этой детской привязанности до конца дней, были сказки «Тысячи и одной ночи». Тогда, в детские годы, вырабатывалась единственная форма «непростительной праздности», от которой он, вечный труженик, не понимавший, что значит слово «отдых», никогда не мог отказаться: вечером стащить на кухне горсть конфет, засахаренных орешков и чашку горячего шоколада, залезть в глубокое кресло, зажечь лампу с обязательным зеленым абажуром, взять заветный истрепанный том – и часа два-три провести в компании «султанов, евнухов и жен Шахерезады».
К арабским сказкам позднее добавились романы Даниэля Дефо, Фенимора Купера, Жюля Верна и Густава Эмара.
Он был, в полном смысле этого выражения, «книжным мальчиком». Одиночество с книгой – его естественное состояние еще задолго до гимназических лет, когда, не имея товарищей (и не желая заводить знакомства), он целиком и полностью погрузится в мир литературы. Это было обусловлено еще и тем, что раннее его детство проходило без общения со сверстниками: у старших братьев и сестер (за исключением Сергея, совершенно противоположного по складу характера) были свои интересы, – и почти без общения с родителями: Сергей Иванович всю вторую половину шестидесятых годов находился в бесконечных разъездах, а Варвара Васильевна, хоть и скрепя сердце, вынуждена была, как говорилось, его постоянно сопровождать. Единственный человек, с которым он принужден был общаться ежедневно, – «бонна» Амалия Христофоровна, старая дева, беззаветно преданная семье Мережковских и почитавшая служение хозяевам единственным смыслом своей жизни. Добрый, но очень недалекий и запуганный строгостями Сергея Ивановича человек, она могла лишь обеспечить безупречный уход за многочисленными питомцами, сочетаемый с режимом строгой экономии и отчетности:
Я помню туфли, темные капоты,
Седые букли, круглые очки,
Чепец, морщины, полные заботы,
И ночью трепет старческой руки,
Когда она записывала счеты
И все твердила: «Рубль за башмаки…
Картофель десять, масло три копейки»…
И цифру к цифре ставила в линейки.
Книги с детских лет заменяли ему общение с людьми, литературные герои становились «вечными спутниками», реальность которых превосходила в его глазах реальность существующего окружения, и, главное, одиночество с тех же самых детских лет как бы «обживалось» им в качестве единственно комфортной формы существования. Малыш, гуляющий по Летнему саду, удивлял и даже пугал няньку тем, что упорно не желал играть со сверстниками, неспешно и важно кружил по аллеям, словно углубясь в беседу с самим собой. Чуть повзрослев, летом, когда семья жила на даче близ Елагинского дворца, Митя устраивал себе нечто вроде «воздушной кельи» – между ветвей корявой сосны над прудом он прибил доски и каждый день, «как белка», забирался в это «гнездышко», проводя часы (и, в общем, дни) в чтении и созерцании:









































