Текст книги "Жак"
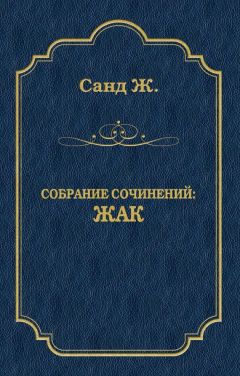
Автор книги: Жорж Санд
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
IV
От Клеманс – Фернанде
Из аббатства О-Буа,
Париж
Получила оба твоих письма в один день. Два удовольствия разом! Радости хоть отбавляй, да вот беда, дорогая моя Фернанда: все дело портят тревога и беспокойство, которые вызвали у меня твоя неуверенность и какое-то ненадежное положение. Ты спрашиваешь у меня совета в самом важном и самом сложном для женщины деле; ты просишь, чтобы я разъяснила тебе то, чего я и сама не ведаю, – ведь я незнакома с твоим окружением, ничего не знаю о происшествиях, очевидицей которых не была. Ну каких же ответов ты ждешь от меня? Из тех штрихов, что ты набросала, я могу составить лишь смутное, шаткое мнение, и тебе придется долго вдумываться в него и подвергнуть его подробному разбору, прежде чем согласиться с ним.
С господином Жаком я незнакома и поэтому не могу сказать, легко ли будет тебе пренебречь такой преградой, как большая разница в годах, разъединяющая вас; но я могу кое-что сказать тебе об этом в общих чертах. Ты уж сама решай, надо ли отбросить мои соображения, если ты уверена, что к тебе они неприменимы.
Существует мнение, что мужчины созревают для жизни в обществе позднее, чем женщины, что в тридцатипятилетнем возрасте мужчины менее рассудительны и менее опытны, чем двадцатилетние женщины. Я полагаю, что это неверно. Мужчина обязан составить себе карьеру и, лишь только окончит коллеж, добиваться положения в обществе; а юная девица, покинув монастырский пансион, находит уже готовое для нее положение: либо она тотчас выходит замуж, либо до замужества еще несколько лет живет при родителях. Вышивать гладью и крестиком, хлопотать по хозяйству, шлифовать свои изящные таланты, потом стать супругой и матерью, кормить грудью детей и купать их – вот и все, что полагается делать добродетельной женщине. И я считаю, что при такой программе двадцатипятилетняя женщина, если она после замужества не вращалась в свете, – попросту говоря, еще дитя. Я думаю, что в девицах она лишь выезжала в свет, танцевала там на балах под надзором своих родителей и научилась лишь искусству одеваться, грациозно ходить, грациозно садиться, грациозно делать реверансы. Однако в жизни нужно научиться многому другому, и женщины учатся этому на свой риск. Обладать грацией, изящными манерами, некоторым остроумием, самой выкормить детей, а потом посвятить несколько лет поддержанию порядка в доме – всего этого еще недостаточно, чтобы оказаться вне опасностей, которые могут нанести смертельный удар семейному счастью. Зато как много узнаёт мужчина, пользуясь неограниченной свободой, которая предоставляется ему, лишь только он выйдет из отроческих лет! Сколько грубого опыта, суровых уроков, разочарований изведает он в течение первого же года, и как это идет ему на пользу! Сколько мужчин и женщин успевает он изучить в том возрасте, когда женщина знает лишь двоих людей – отца и мать.
Итак, совершенно неправильным является мнение, что двадцатипятилетнего мужчину можно приравнять к пятнадцатилетней девочке и что в разумном брачном союзе мужу следует быть на десять лет старше жены. Правильно, конечно, что муж должен стать защитником и руководителем жены, – ведь он же глава семьи, но надо пожелать, чтобы он был благоразумным и просвещенным главой. Даже когда супруги в одинаковом возрасте, мужу вполне достаточно предоставленного ему превосходства; если же муж значительно старше, он этим злоупотребляет, становится ворчуном, педантом или деспотом.
Предположим, что господин Жак никогда не будет похож на такого мужа; допускаю, что он наделен всеми достоинствами. О любви я не говорю – да, представь себе! Скажу только, что я совершенно не верю, будто любовь необходима в браке, и сомневаюсь, действительно ли ты влюблена в своего жениха: в твоем возрасте девушки нередко принимают за любовь первую свою сердечную склонность. Я говорю только о дружбе и уверяю тебя, что женщина погибла, если не может смотреть на мужа как на лучшего своего друга. А ты уверена в том, что можешь уже теперь быть лучшим другом тридцатипятилетнего мужчины? Знаешь ли ты, что такое дружба? Знаешь ли ты, сколько нужно взаимной симпатии для того, чтобы зародилась дружба, какое сходство вкусов, характеров и мнений необходимо, чтобы она упрочилась? А какая симпатия может возникнуть между двоими людьми, которые по одной уже разнице в возрасте получают от одних и тех же предметов совершенно противоположные впечатления? То, что привлекает одного, отталкивает другого; то, что более зрелому кажется достойным уважения, молодой находит скучным; то, что жене кажется милым и трогательным, в глазах мужа опасно или смешно. Подумала ли ты обо всем этом, бедняжка Фернанда? Не ослеплена ли ты потребностью любить, которая так жестоко мучит иных девушек? А может быть, тебя вводит также в заблуждение тайное тщеславие, в котором ты не отдала себе отчета? Ты бедна, и вот является богатый человек и просит твоей руки. У него и замки и земли, он красив, держит прекрасных лошадей, хорошо одевается; он тебе кажется очаровательным, потому что все считают его таким. Твоя маменька, женщина самая корыстная, самая лживая и хитрая на свете, все устраивает так, чтобы свести вас. Возможно, она уверила свою дочку, что господин Жак без ума от нее, а его уверила, что ты влюбилась в него, хотя в действительности вы, может быть, нисколько не влюблены – ни ты, ни он. С тобой случилось то, что бывает с юными пансионерками, у которых волей случая есть какой-нибудь кузен, и они неизбежно в него влюбляются, поскольку это единственный знакомый им мужчина. Я знаю, у тебя благородное сердце, и ты совсем не думаешь о богатствах господина Жака, как будто их и нет у него; но ведь ты женщина, ты не можешь остаться равнодушной к тому обстоятельству, что своей красотой и прелестью совершила одно из тех чудес, на которые общество смотрит с изумлением, ибо они действительно явления редкостные: богатый человек женится на бедной девушке.
Держу пари, что я тебя разгневала, но ради бога, дорогая, не принимай мои слова слишком близко к сердцу. Будь смелой и то, что я сказала, скажи сама, учини себе строгий допрос; очень возможно, что мои подозрения – сущая напраслина. В таком случае мое письмо – просто-напросто несколько листочков бумаги, которые я зря измарала чернилами, желая оказать тебе услугу. Но я хочу написать и кое-что другое: это не назовешь логическим выводом из размышлений, это мне подсказывает безотчетное, инстинктивное чувство, и ты можешь отнестись к моим словам без особой серьезности. Скажу тебе вот что: не люблю я, когда лицо человека не соответствует его возрасту. Сразу же у меня возникают всякие суеверные мысли, и, как бы ни были они безумны и несправедливы, я не могу отнестись с доверием к тому человеку, возраст которого на первый взгляд я определила с ошибкой в десять лет. Если он показался мне моложе, чем в действительности, я подумала бы потом, что черствость сердца, холодная небрежность к людям помешали ему сочувствовать чужому горю или же научили его искусно сторониться несчастных, избегать тяжелых переживаний, которые старят всех людей. А увидев старообразное лицо, я подумала бы, что пороки, разврат или по крайней мере необузданные страсти привели этого человека к беспорядочной жизни; поэтому он постарел больше, чем следовало бы по его годам; словом, я не могу смотреть без изумления и страха на явное нарушение законов природы; в нем всегда есть нечто таинственное, что следовало бы рассмотреть внимательно. Но разве можно что-либо рассматривать внимательно в твоем возрасте, да еще когда жажда новизны, готовность «раньше, чем через месяц», переменить свое положение закрывают тебе глаза на все опасности?
Ты говоришь, что господина Жака уважают и любят все, кто его знает; мне кажется, что тех, кто его знает и кто мог бы сказать тебе о своих чувствах к нему, очень немного. Вспоминая те строки в двух твоих письмах, где говорится об этом, я вижу, что число этих почитателей сводится к двум его друзьям – к господину Борелю и его жене. Твоя маменька знала его десятилетним мальчиком, и так как она была близка с его отцом, ей легко было получить весьма точные сведения о наследстве, ожидавшем Жака. Полагаю, что только это ее и интересовало, и она даже не подумала указать тебе, что ты моложе жениха на восемнадцать лет, а это довольно серьезное препятствие. Она прекрасно знала возраст господина Жака, но я уверена, что она избегала говорить об этом кому бы то ни было. Пожилые женщины редко говорят о прошлом, не стирая все его даты.
Ты упрекаешь меня за то, что я не люблю твоей маменьки; ничего тут не могу поделать, дорогая моя Фернанда, и бесконечно рада, что ты нисколько на нее не похожа. В чрезмерной поспешности, с которой заключается твой брак, для меня единственным утешением служит лишь то, что он вскоре разлучит тебя с матерью: ты не можешь попасть в более скверные руки, чем те, из которых вырвешься. Будь уверена, что я говорю истинную правду. Я отнюдь не стремлюсь следовать освященным традицией предрассудкам и полагаю, что согласно законам разума должна открыть тебе глаза на характер женщины, занимающей такое важное место в твоей жизни, а разум – единственный мой руководитель, единственный бог, которому я служу.
Охотно верю, что господин Жак действительно проницателен. Первые суждения обычно бывают верными, ибо человек, который их выносит, сосредоточив всю свою наблюдательность, глубоко воспринимает полученные впечатления. Господин Жак составил правильное мнение о тебе и о твоей матери; однако вынести суждение о последней ему, быть может, помогло какое-нибудь воспоминание детства: неприязнь, которую он когда-то испытал к твоей матери, снова заговорила в нем при встрече с нею.
Ваш визит к Маргарите, по-моему, напрасно вызывает у тебя столько изумления и даже тревоги. Господин Жак поступил как умный человек, когда помог тебе подать милостыню старухе, но я прекрасно понимаю, как ему скучно было слушать ее причитания. По этому поводу замечу, что вы с господином Жаком обречены всегда чувствовать и вести себя по-разному, даже если вы оба правы. От души желаю, чтобы он терпеливо переносил это различие и не мешал тебе испытывать те волнения, для которых его собственное сердце замкнуто.
До свидания, милая моя Фернанда. Как видишь, я не питаю никакого предубеждения против твоего жениха. Впрочем, в тот день, когда тебе не захочется больше слушать правду, ты ведь можешь и не спрашивать больше моего мнения и не просить у меня советов.
Я по-прежнему живу спокойно и счастливо в тиши своего аббатства. Монахини бросили свои придирки и оставили меня в покое. Я принимаю каких мне угодно посетителей, а иной раз и сама выезжаю «в мир», поскольку я уже сняла вдовий траур. Родня моего покойного мужа держит себя вполне прилично в отношении меня, а ведь все они не очень любезные люди. Я вела себя с ними очень осторожно. Вернее сказать – разумно. Разум, Фернанда, разум! С помощью разума, милая моя, именно разума, человек сам строит свою жизнь и может вести существование если не блистательное, то по крайней мере свободное и спокойное.
Твоя подруга Клеманс де Люксейль.
V
От Фернанды – Клеманс
Дружба – великая радость, но как уныл разум, дорогая Клеманс! Твое письмо нагнало на меня самую настоящую хандру. Я перечитала его несколько раз и находила в нем все новые и новые поводы для грусти. Оно породило во мне недоверие и к маменьке, и к Жаку, и ко мне самой, и даже к тебе. Да, признаюсь, я немного сержусь на тебя за то, что ты так сурово разочаровываешь меня в моем счастье. Ты, однако ж, права, и я хорошо чувствую, что ты мне действительно друг; именно от тебя я жду советов и поддержки, которых не смею просить у маменьки. Я по-прежнему полагаю, что ты слишком дурно думаешь о ней, но поневоле вижу, как она холодна ко мне, вижу, что в моем замужестве она ищет только выгод, которые дает богатство.
Правда, ее самое мой брак не обогатит: она намерена жить в Тилли, а меня отпустить с мужем в Дофинэ, – стало быть, тут у нее нет личного интереса. Она думает, что деньги – величайшее благо на земле, и все ее усилия направлены не на то, чтобы их приобрести, а на то, чтобы раздобыть их для меня. Разве я могу вменять ей в вину, что она заботится о моем счастье на свой лад и сообразно своим воззрениям?
Что касается меня, то я хорошо разобралась в своих чувствах и могу заверить, что тщеславие нисколько на них не влияет. Я так боялась, как бы любовь не ослепила меня, что нынче утром, перечитав твое письмо, решила немного поссориться с Жаком, желая подвергнуть испытанию его любовь и мою собственную. Я выждала, когда маменька оставила нас одних за пианино, как она всегда это делает после завтрака. А тогда я перестала петь и резко сказала:
– Знаете, Жак, я слишком молода для вас.
– Я уже думал об этом, – ответил он с обычным своим спокойным выражением лица. – А раньше вы не принимали в соображение мой возраст?
– Это было бы трудно: я ведь не знала, сколько вам лет.
– В самом деле? – воскликнул он, побледнев как полотно.
Я почувствовала, что сделала ему больно, и тотчас раскаялась.
Он добавил:
– Мне следовало предусмотреть, что ваша мать не скажет вам этого, хотя я просил ее передать вам, чтобы вы поразмыслили о разнице в возрасте, разделяющей нас. Она заверила меня, что выполнила мою просьбу, и сказала, будто вы обрадовались, что найдете во мне и отца и возлюбленного.
– Отца? – ответила я. – Нет, Жак, я этого не говорила.
Жак улыбнулся и, поцеловав меня в лоб, воскликнул:
– Ты простосердечна, как дикарка! Я люблю тебя до безумия, ты будешь для меня дорогой моей дочкой, но если ты боишься, что, став твоим мужем, я сделаюсь твоим наставником, то я буду называть тебя дочкой только про себя, в сердце своем. Однако ж, – сказал он через минуту, вставая с места, – весьма возможно, что я слишком стар для тебя. Если ты это находишь, значит, так оно и есть.
– Нет, Жак, нет! – живо возразила я и тоже встала из-за пианино.
– Смотри не ошибись, – продолжал он, – мне ведь тридцать пять лет, на целых восемнадцать лет больше, чем тебе. Разве ты этого никогда не замечала? Разве это нельзя прочесть на моем лице?
– Нет! Когда я увидела вас в первый раз, я вам дала по виду двадцать пять лет. А потом мне всегда казалось, что вам не больше тридцати.
– Вы, значит, никогда не разглядывали меня, Фернанда? Посмотрите же на меня внимательно. Пожалуйста, прошу вас. Чтобы вас не смущать, я отведу взгляд в сторону.
Он притянул меня к себе, а взгляд свой отвел в сторону. И тогда я пристально всмотрелась в его лицо. Я обнаружила, что под нижними веками и в уголках губ у него еле заметные морщинки, а на висках в густой волне черных волос пробиваются белые нити. Вот и все. «Вот и вся разница между мужчиной тридцатипятилетним и мужчиной тридцати лет!» – подумала я и засмеялась при мысли, что он просил хорошенько вглядеться в него.
– Сейчас я скажу вам всю правду, – обратилась я к нему. – Ваше лицо – вот такое, каким я вижу его сейчас, – нравится мне гораздо больше, чем мое, но боюсь, что разница в годах скажется на вашем характере.
И я постаралась все сомнения, которые заключены в твоем письме, изложить так, словно они исходят от меня самой! Он слушал очень внимательно, и спокойное выражение его лица ободрило меня еще до того, как он заговорил. Когда же я высказалась, он ответил:
– Фернанда, никогда не встретишь двух совершенно одинаковых характеров; возраст тут ни при чем: в пятнадцать лет я был во многом гораздо старше вас, а в другом я и до сих пор моложе. Мы, несомненно, отличаемся друг от друга, но со мною вы будете страдать из-за этого гораздо меньше, чем с кем-либо другим. Поверьте мне!
Ну что я могла ему ответить? Раз он так сказал, я поверила. Он говорил очень убедительно. Ах, Клеманс, возможно, что он обманывает меня или сам обманывается, но я-то не могу обмануться – я люблю его. Нет, во мне не говорит потребность в любви, как у глупенькой пансионерки. Я ведь видела многих мужчин до него, и никто из них не внушал мне симпатии. В доме Эжени Борель всегда много мужчин – моложе, веселее, элегантнее, чем Жак, и, может быть, красивее его; никогда у меня не возникало желания выйти замуж за одного из них. Меня не ослепляют также соблазны ожидающей меня судьбы. Письма твои произвели на меня большое впечатление. Я вдумываюсь в них, заучиваю их наизусть, то и дело применяю отдельные фразы к своему страстному увлечению и вижу, что осторожность тут бесполезна, рассудок бессилен. Я замечаю, какими опасностями грозит мне моя любовь, но боязнь, что я буду несчастной с Жаком, не лишает меня желания провести жизнь именно с ним.
Ты пишешь, что только двое друзей Жака хорошо отзываются о нем. Сейчас передам тебе разговор, который произошел несколько дней тому назад в Серизи у Борелей. Там было пять-шесть соратников господина Бореля. У Жака вид был более серьезный, чем обычно, но и лицо его и манеры говорили о неизменном спокойствии души. Он выпил чашку кофе и несколько раз молча прошелся по комнате.
– Ну что, Жак, как вы себя чувствуете? – спросила Эжени.
– Лучше, – мягким тоном ответил он.
– Так, значит, он болен? – легкомысленно спросила я.
Тотчас все взгляды обратились ко мне, и на всех лицах появилась благожелательная и немного насмешливая улыбка. Я почувствовала, что краснею до корней волос, но нисколько этим не смутилась; меня охватила тревога за Жака, и я повторила свой вопрос.
– У меня немного болит голова, – ответил Жак, поблагодарив меня ласковым взглядом. – Но это пустяки, не стоит об этом беспокоиться.
Тогда заговорили о другом, а Жак вышел в сад.
– Боюсь, что он действительно болен, – сказала Эжени, глядя ему вслед, когда он проходил по дорожке.
– Следовало бы спросить, не надо ли ему каких-нибудь лекарств, – сказала маменька с притворным сочувствием.
– Нет, главное, надо оставить его в покое, – резко сказал господин Борель. – Жак не любит, чтобы на него обращали внимание, когда он нездоров.
– Черт побери, как ему не мучиться! – заметил один из гостей. – У него ведь три ранения в грудь, и таких серьезных, что любой другой отправился бы к праотцам.
– Старые раны редко у него болят, – сказала Эжени, – но боюсь, что сегодня они дали себя знать.
– Никто не может угадать, больно Жаку или нет, – заговорил опять господин Борель. – Разве он сотворен из плоти человеческой?
– Думаю, что да, – ответил один из гостей, пожилой драгунский капитан, – но думаю также, что у него не человеческая, а дьявольская душа.
– Нет, скорее ангельская, – вмешалась Эжени.
– Aгa, вот и госпожа Борель заговорила, как другие дамы, – подхватил драгунский капитан. – Не знаю уж, право, что напевает Жак на ушко дамам, но все они говорят о нем как о белокрылом херувиме, а про наши гражданские добродетели и воинские доблести все забывают. (Это была любимая шуточка капитана.)
– О, что касается меня, – сказала Эжени, – я действительно обожаю Жака, и мой муж всем своим друзьям предписывает благоговеть перед ним.
Тут посыпались деликатные насмешки, которые косвенно касались и меня, так как имели благую цель доставить мне удовольствие, но немного меня смущали. Я взяла под руку мадемуазель Реньо и вышла с нею, словно собиралась прогуляться по саду; но там я призналась ей, что мне до смерти хочется послушать, что же говорят о Жаке, и она провела меня к окну, откуда слышно было все, о чем шла речь в гостиной. Я услышала голос господина Бореля и поняла, что он говорит с одним из гостей, малознакомым с Жаком.
– Вы, я думаю, заметили бледность Жака и его рассеянный вид? – говорил Борель. – Не знаю, обратили ли вы внимание, как он потихоньку мурлычет себе под нос песенку, когда набивает трубку или чинит карандаш, собираясь рисовать. Так вот, если у него сильные боли, все свидетельства его мук и нетерпения сводятся к этой песенке. Я не раз ее слышал от него при таких обстоятельствах, при которых мне лично совсем не хотелось петь. Под Смоленском мне ампутировали два пальца на правой ступне, а у него извлекли две пули, засевшие между ребрами; я тогда ругался как проклятый, а Жак изволил напевать.
И тут господин Борель очень ловко изобразил, как Жак напевал «Лила Бурелло» – излюбленную свою песенку. Все засмеялись. А у меня от этих рассказов возник перед глазами образ Жака: раненый, окровавленный, он все-таки напевает под ножом хирурга. У меня выступил холодный пот, и я лишний раз убедилась, что люблю Жака, – ведь я осталась совершенно равнодушной к страданиям господина Бореля; Эжени, без сомнения, трепетала, думая о них, а мне было безразлично, на сколько пальцев стало меньше на его ступне.
– А вы помните, – послышался другой голос, – как Жак прибыл в полк, незадолго до сражения под ***?
– Да, да. Славный паренек был, – прервал другой. – От роду только шестнадцать лет, и с виду – хорошенькая барышня. Их прибыло к нам человек пять-шесть, и через час они предстали перед нами, все холеные юнцы в своих наглухо застегнутых теплых сюртуках, которыми их снабдили маменьки, все такие маленькие, аккуратно причесанные, румяные и не очень-то довольные, что им придется спать прямо в поле в палатках. Был тут и Жак, с кроткой, уже и тогда бледной рожицей, с пробивающимися усиками и с любимой своей песенкой. Кто-то у нас сказал: «Вот этот – ужасно смешной: строит из себя удальца, а сам побледнел как полотно». Другой съязвил: «Господин Жак – салонный Юлий Цезарь. Посмотрим, что он запоет, когда громыхнет пушка». А Лорен… Кто помнит лейтенанта Лорена, верзилу с огромным носом, любителя отпускать злые шутки, не расстававшегося ни с саблей, ни с альбомом для карикатур? Рисовал он их отлично, честное слово. Да и стрелял искусно – лучше всех в полку. И вот эта скотина при свете бивачного костра рисует угольком карикатуру на Жака и его юных компаньонов, изображает их с веерами и зонтиками, а внизу подписывает: «Так богатенькие барчуки идут в бой». Жак проходит позади него с обычным своим кротким и ласковым видом, наклоняется и, взглянув через плечо Лорена, говорит:
«Это очень мило!»
«Вы довольны?» – спрашивает Лорен.
«Очень доволен», – отвечает Жак.
«Ну и я тоже», – подхватывает карикатурист.
Все хохочут.
Жак, нисколько не смущенный, подсаживается к костру и просит меня одолжить ему трубку. Мне хотелось стукнуть его этой трубкой по лбу.
«А что, у вас нет своей трубки?»
«Нет, я ведь еще никогда в жизни не курил, и мне хочется попробовать. Как это делают?»
«Вот с этого конца разжигают, а этот конец берут в рот и затягиваются изо всех сил, чтобы дым вышел с другой стороны».
Жак с простодушным видом покачал головой и взял трубку. Мы надеялись, что он закашляется, что у него все закружится перед глазами; каждый спешил набить табаком свою трубку, и один за другим предлагали Жаку покурить, да заодно и выпить глоточек, подливая ему такие порции хмельного, что бык и тот бы свалился с ног. Не знаю, может быть, Жак жульничал и выпивал не все подношения, но, во всяком случае, он ни разу не поморщился и не поперхнулся, даже руки у него не дрожали; он пил и курил до полуночи, не теряя хладнокровия, не давая повода ни к малейшим издевкам; право, можно было подумать, что кормилица с колыбели поила его водкой и давала курить трубочку. Капитан Жан, присутствующий среди нас, конечно, прекрасно помнит то, о чем я рассказываю; он еще подошел ко мне тогда и, хлопнув меня по плечу, сказал:
«Поглядите на эту райскую птичку. Видите? Так я вам предсказываю, Борель, что это будет один из лучших наших усачей. Я понимаю в этом толк. Ростом невелик, но крепок, как сухой самшит, а тот ведь потверже стальной булавы. Отец у него разбойник, зато первостатейный рубака; у сына, однако, хладнокровия больше, и если пушечное ядро не вычеркнет его завтра из моих списков, он проделает двадцать кампаний, не жалуясь, что стер ноги».
На следующий день, как это многим известно, Жак проявил воинскую доблесть и получил орден прямо на поле боя.
– И вы думаете, он возгордился? – сказал драгунский капитан. – Вы думаете, он прыгал от радости, как это делают зеленые юнцы, которым выпадает такая удача, или мы, великовозрастные вояки; ведь мы, уединившись в каком-нибудь укромном уголке, бывало, радовались и целовали свой орден. Вид у Жака был тогда самый равнодушный: каким его изобразил на карикатуре Лорен, таким наш Жак оставался и когда был в первый раз под огнем, и когда получил первую рану. Он просто и дружелюбно отвечал на рукопожатия, не выражая ни удивления, ни радости. Не знаю, что может заставить Жака засмеяться или заплакать, и, право, я не раз задавался вопросом – не сверхъестественное ли он существо, такой, знаете ли, призрак, в каких верят немцы.
– Видно, вы никогда не знавали Жака влюбленным, – прервал его господин Борель, – а то бы увидели, как он тает, словно снег на солнце. Только женщины имеют власть над этой головой. Зато уж и сводили же они его с ума! В Италии…
Тут господин Борель осекся, и я поняла, что кто-то – вероятно, его жена – подал ему знак помолчать. А меня охватили ужасное нетерпение, любопытство и тревога…
– Хоть бы кто-нибудь мне сказал, – послышался после короткого молчания голос Эжени Борель, – когда Жак успел выучиться всему, что он знает, – ведь он понимает толк и в литературе, и в поэзии, и в музыке.
– Кто его знает! – ответил капитан. – Я думаю, он таким и родился. Уж во всяком случае не я учил его всем этим премудростям.
– Могу предположить, – заметила маменька, – что он получил солидное образование еще до вступления в военную службу. Я его знаю с десятилетнего возраста – он и тогда был поразительно развитым для своих лет. Зато уж апломба и самоуверенности было у него, как у взрослого. Должно быть, позднее он приобретал познания необыкновенно быстро.
– Капитан Жан, пожалуй, прав: Жак не совсем принадлежит к роду человеческому, – шутливо сказал господин Борель. – Душой и телом он закален как сталь, и секрет такой закалки теперь, должно быть, утрачен. Вот ведь, до двадцати пяти лет он казался старше своего возраста, а с тех пор он с виду моложе своих лет.
– Никогда не забуду, – заговорил кто-то другой, – как он справился с первой своей дуэлью.
– Да, да! А дрался-то он как раз с этим чертовым Лореном, – подхватил капитан Жан, – и я сам принудил его драться. Я ведь от всего сердца любил этого мальчика!
– Как! Вы его принудили? – изумился человек, малознавший Жака, – в сущности, для него и рассказывали все эти истории.
– А вот сейчас я вам расскажу, как это вышло, – вмешался опять капитан. – Жак, разумеется, прекрасно показал себя в сражении при ***, но одно дело внушить уважение вражеским пушкам, а другое – своим товарищам. Нельзя сказать, что тогда в армии процветали дуэли, – слишком нам много было хлопот с неприятелем. И, однако же, дня не проходило, чтобы у Лорена не бывало маленьких или больших столкновений с каким-нибудь новичком: на поле боя он был куда менее храбр, чем у барьера; в дуэлях же он был великий мастак – никто не мог безнаказанно сказать ему что-нибудь неприятное. Я не любил этого молодца и, право, отдал бы свою лошадь, лишь бы он сгинул с глаз моих. Два раза я промахнулся, имея с ним дело, и поплатился за свою оплошность: видите – пробито пулей запястье, и вот шрам на щеке. Он терпеть не мог нашего Жака – злился на то, что такой юнец сумел заслужить в бою при *** уважение заядлых насмешников. Сам-то он не совершил никаких подвигов и не получил никаких знаков отличия, даже ни единой царапины! В утешение себе он рисовал карикатуры, всячески высмеивая в них Жака; и эти дьявольские шаржи были так здорово нарисованы, что нельзя было смотреть на них без смеха. Меня это раздражало. Однажды вечером он нарисовал Жака в виде маленькой собачки в доломане. Ну, уж это было слишком! Я разыскал Жака, мирно спавшего на траве, растолкал его и сказал: «Жак, ты должен драться на дуэли!»
«С кем?» – спросил он, позевывая и потягиваясь.
«С Лореном».
«Из-за чего?»
«Из-за того, что он тебя оскорбляет».
«Каким образом?»
«А карикатуры! Разве это не издевательство?»
«Нисколько».
«Да он же смеется над тобой».
«Ну а мне-то что?»
«Ах, вот как! Ты, значит, храбр только в стычках с неприятелем?»
«Ей-богу, не знаю».
Тут у меня, – сказал капитан Жан, – вырвалось крепкое слово (не рискну повторить его при дамах). Я одернул Жака: «Говори потише и смотри не вздумай повторить при ком-нибудь то, что ты мне сейчас сказал».
«Да почему, Жан?» – протянул он, зевая во весь рот.
«Ты спишь, приятель?» – сказал я, встряхнув его как следует.
«Ну, если ты переломаешь мне кости, – отозвался он с обычным своим хладнокровием, – то разве ты этим убедишь меня? Ты хочешь, чтобы я заявил, будто мне ничего не стоит стать у барьера? Ведь я же никогда не дрался на дуэли. Если бы ты накануне сражения задал мне вопрос, как я поведу себя, я ответил бы тебе то же самое. То было первое испытание моей военной жилки, а если вам угодно теперь подвергнуть меня другому испытанию, я не возражаю, но как я с ним справлюсь, знаю не больше твоего».
Ну и странное существо был этот мальчишка, любитель философских рассуждений! Я был уверен в нем как в самом себе, несмотря на все его старания вызвать у меня сомнения в его храбрости.
«Я тебя уважаю, – сказал я ему, – потому что ты не фанфарон, а человек отважный. И я по чистой дружбе говорю тебе, что ты должен драться с Лореном на дуэли».
«Ну ладно, согласен. Но найди какой-нибудь предлог, чтобы я мог вызвать Лорена на дуэль, не показавшись при этом дураком. Признаюсь откровенно: пожелать убить человека только за то, что он рисует забавные карикатуры на мою скромную особу, кажется мне просто невозможным. Я нисколько не сержусь на Лорена, наоборот, его шаржи очень меня потешают, и я был бы в отчаянии, если б убил человека, который рисует такие смешные карикатуры».
«А ты вот постарайся-ка лучше ранить его в правую руку, да так, чтобы он уже никогда не мог рисовать на кого-нибудь карикатуры».
Жак пожал плечами и опять заснул. Я остался недоволен и, дождавшись утра, отправился к Лорену.
«Знаешь, – сказал я ему. – Жаку разонравились твои шуточки. Он говорит, что при первой же карикатуре вызовет тебя на дуэль».
«Прекрасно! – ответил Лорен. – Ничего не желаю лучшего».
Тут он взял кусок угля и на широкой белой стене, у которой мы с ним стояли, нарисовал Жака в виде великана. Подписал его имя и изобразил его орден. Словом, точь-в-точь Жак. Я собрал своих приятелей и сказал им:
«Что вы сделали бы на месте Жака?»
«Совершенно ясно что», – ответили они.
Я пошел искать Жака.
«Жак, наши ветераны решили, что тебе надо драться на дуэли».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































