Текст книги "Жак"
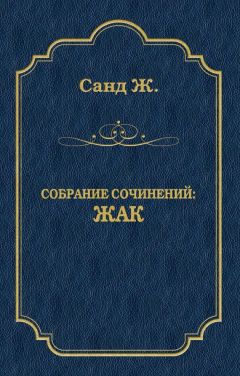
Автор книги: Жорж Санд
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
XXI
От Фернанды – Клеманс
Не знаю, право, что делается с Жаком вот уже два дня! Кажется, он загрустил, а от этого и мне стало так грустно, что я решила побеседовать с тобой, надеясь развлечься и успокоиться. Да что же такое с Жаком? Какие огорчения могут тревожить его близ меня? Я вот не могла бы радоваться или печалиться чему-нибудь, что не имеет отношения к Жаку; вне любви к нему моя жизнь сводится к столь малому! Я по-настоящему живу только три месяца, а Жак, должно быть, перенес в прошлом ужасные страдания. Но, может быть, он был раньше счастливее, чем теперь со мною; быть может, он иной раз с сожалением вспоминает в моих объятиях о прежних днях. Ах, это ужасная мысль, надо поскорее отогнать ее!
Но кто может так огорчать его? И почему Жак не говорит мне об этом? У меня ведь нет тайн от него, а у него, несомненно, есть. В его жизни, вероятно, было столько необыкновенного! Знаешь, Клеманс, я нередко трепещу при этой мысли. Девушка идет под венец, не зная по-настоящему своего жениха, и сущим безумием будет надежда, что она узнает его в супружестве. Позади них разверста пропасть, в которую она не может проникнуть. Эта бездна – прошлое, которое никогда не исчезнет и может отравить все будущее. Подумать только! Три месяца назад я еще не знала, что значит любить, а Жак, возможно, уже лет двадцать как познал любовь! Нежные, ласковые слова, которые он говорит мне, он, быть может, говорил и другим женщинам, а страстные ласки… Ах, какие ужасные картины встают у меня перед глазами! Право, я сегодня словно с ума сошла…
Чтобы успокоиться и отвлечься от таких мыслей, я села к окну и увидела Жака – он прошел по аллее и углубился в парк; он шел, скрестив на груди руки и наклонив голову, как будто погрузился в глубокие размышления. Боже мой, я никогда его таким не видела! Правда, человек он серьезный, а характер его не только мягкий, но несколько меланхоличный – ему больше свойственна задумчивость, чем живость; но в тот день на лице его застыло какое-то необычное выражение, – не могу определить его, но какое-то странное, быть может, из-за того, что он был очень бледен. Быть может, ему приснился дурной сон, и поскольку Жак знает, что я суеверна, он и не захотел рассказать мне, что ему пригрезилось. Если это верно, то уж лучше бы он рассказал свой сон, чем заставлять меня так тревожиться! А вдруг он болен? Ах, готова биться о заклад, что болен! Мне говорили, что он не любит, чтобы за ним наблюдали в такие минуты. Однако же я однажды видела его больным, я заметила это по тихой песенке, которую он мурлыкал, – я тебе говорила о ней. Я его тогда спросила, и он ответил, что ему действительно нездоровится, но он просил меня не обращать на него внимания. Нездоровилось ли ему в тот день слегка или сильно – этого я не знаю; я так боялась противоречить ему, что не осмелилась даже смотреть на него. Во всяком случае, ему было не по себе, как говорится; а вот сегодня очень заметно его недомогание – может быть, телесное, может быть, нравственное. Вчера мне показалось, что он как-то холодно поцеловал меня; я плохо спала; проснувшись ночью, я увидела свет в его спальне. Я перепугалась: а вдруг он заболел; но еще больше боясь надоедать ему, я встала совсем бесшумно и подошла на цыпочках к двери, поглядела в щелку; он курил, читая книгу. Я снова легла в постель и понемногу успокоилась, жалела только, что Жаку не спится. А я до сих пор еще так беспечна и ребячлива, что даже тут, несмотря на свою печаль, сразу же уснула. Бедный мой Жак! Он страдает бессонницей, а ведь, должно быть, так мучительно томиться долгие ночи без сна. Почему же он не позовет меня! Я бы с радостью поборола желание спать, болтала бы с ним, читала бы ему вслух, чтобы развлечь его. Пожалуй, мне следовало бы попросить его, чтоб он позволил мне бодрствовать вместе с ним, но я не посмела. Как страшно! Нынче утром я открыла, что боюсь Жака почти так же сильно, как люблю его. У меня вот не хватило храбрости спросить у него, что с ним было. Слова Бореля о странной гордости Жака не выходят у меня из головы, хотя мне следовало позабыть о них или, по крайней мере, убедиться, что со мною Жак не будет таким гордецом. Досадую на себя, зачем я не преодолела свою робость и не умолила Жака открыть мне причину его страданий – ведь мне-то они не могут быть докучны, и я просто не понимаю, зачем ему нужно таиться от меня и стоически переносить мучительную бессонницу. А раз я молчу, он, пожалуй, решит, будто я ничего не замечаю. Что же он подумает обо мне? Грубая и беспечная душа? Нет, я не могу оставить его с такими мыслями. Надо мне сейчас же пойти и разыскать его. Верно, Клеманс? Ах, боже мой, почему тебя нет со мною! У тебя столько рассудительности, такой развитый ум, ты дала бы мне дельный совет. Поскольку я не могу услышать сейчас голос разума и дружбы, буду с доверием слушать голос своего сердца: пойду сейчас в парк, разыщу Жака и, если надо, на коленях буду молить его открыть мне свою душу. Вернувшись, все расскажу тебе и запечатаю письмо…
Ну вот, моя дорогая, я просто безумная: это не Жаку, а мне самой приснился дурной сон; прости меня, что я наделала тебе хлопот своими ребяческими страхами. Сейчас я разыскала Жака; он дремал, лежа на траве. Я тихонько подошла, так что он не заметил, и, наклонившись над ним, долго смотрела на него. Должно быть, лицо мое выражало беспокойство, так как едва Жак открыл глаза, он вздрогнул и, обхватив меня обеими руками, воскликнул: «Что с тобой?» Тогда я чистосердечно призналась в своих тревогах и горьких мыслях. Он, смеясь, обнял меня и заверил, что я глубоко ошибаюсь.
– Действительно, я нынче плохо спал – мне немного нездоровилось, и, взяв книгу, я стал читать.
– А почему ты меня не разбудил? – спросила я.
– Разве в твоем возрасте легко проснуться? – ответил он.
– Знаешь, Жак, ты со мной обращаешься как с маленькой девочкой.
– О! Слава богу, я с тобой обращаюсь, как ты того заслуживаешь! – воскликнул он, прижимая меня к сердцу. – Именно потому, что ты дитя, я обожаю тебя.
И тут он наговорил мне столько чудесных, ласковых слов, что я заплакала от радости. Видишь, как я способна сама себя мучить! Но я не жалею, что немного погоревала, – от этого я еще живее чувствую, какое счастье я омрачила своими сомнениями и как хорошо, что оно вновь засияло во всей своей свежести. О, Жак совершенно прав: самое драгоценное и чистое в мире – это слезы любви.
До свидания, Клеманс. Еще раз порадуйся со мною: никогда я не была такой счастливой, как сегодня.
XXII
От Жака – Сильвии
Уже несколько дней мы грустим, не зная почему, – то она, то я, а то и оба вместе. Не хочется ломать себе голову, отыскивая причину, – это уже было бы хуже всего. Мы любим друг друга, и ни тот ни другой ни в чем не виноваты. Мы не обидели друг друга ни словом, ни делом. И ведь это такая простая вещь: сегодня у меня одно расположение духа, а завтра другое – печальное. Хмурое небо, дождь, температура воздуха понизилась на один градус – этого достаточно, чтобы мысли наши омрачились. Мое старое тело, покрытое шрамами, склонно к недомоганиям; юная и деятельная головка Фернанды живо навообразит всяких ужасов при малейшей перемене в моих повадках. Иной раз ее горячие заботы меня даже немного тяготят; она меня преследует, она меня гнетет. Мне все время приходится держаться настороже, следить за собой и даже притворяться. Но разве я могу обижаться на это? Ведь эта утомительная предупредительность так сладостна по сравнению с тем ужасным одиночеством, в котором я жил, пока не встретил Фернанду; в самую цветущую пору жизни я зачастую принуждал себя к самому нелепому стоицизму. Если Фернанда действительно будет страдать моими страданиями, я пожалею о том времени, когда они затрагивали лишь меня одного; но, надеюсь, мне удастся приучить ее к моим приступам уныния и озабоченности, и она не будет мучиться из-за них.
У Фернанды сохранилась ребячливость, свойственная ее возрасту. Как она бывает хороша и трогательна, когда подходит ко мне с распущенными белокурыми волосами и, глядя на меня большими черными глазами, в которых дрожат крупные слезы, бросается мне на шею, жалуясь, что она очень несчастна, так как я простился с нею хуже, чем вчера, – недодал ей одного поцелуя! Она не знает, что такое боль, и крайне ее боится. Право же, я часто думаю об этом и страшусь за нее: что, если у нее не хватит силы переносить тяготы жизни? И я не очень-то знаю, что надо ей сказать, как научить ее мужеству. Мне кажется преступлением и, уж во всяком случае, жестокостью влить первые капли желчи в сердце, полное иллюзий; и, однако ж, настанет час, когда придется открыть ей, что такое судьба человеческая. Как выдержит она удар молнии? А разве я смогу долго скрывать от нее этот зловещий свет?
Я получил очень печальное известие: мой друг, о котором я тебе говорил, опять бежал. Жертвы, принесенные мною ради него, не спасли его, а, наоборот, дали ему возможность снова кутить и распутничать. Теперь уж невозможно скрыть его бесчестье, его имя запятнано, жизнь загублена. Значит, тут я, как и повсюду, где пролегал мой путь, старался напрасно. Вот к чему приводит дружба, вот чему служит преданность! Нет, люди ничего не могут сделать друг для друга – им дана только одна путеводная звезда, единственная опора, и она находится в них самих. Одни называет ее совестью, другие – добродетелью, а я именую ее гордостью. У этого несчастного недостало гордости, ему остался лишь один выход – самоубийство. Клевета по-настоящему никого не затронет и не опорочит – время или случай опровергнут ее, но подлость не сотрется. Дать кому-нибудь право презирать тебя – значит вынести себе смертный приговор в этом мире; надо иметь мужество уйти в иной мир, препоручив свою душу Господу Богу.
Но у несчастного и на это недостанет гордости; я его знаю: это человек развращенный, исполненный низких вожделений. Страдать он может только из-за уязвленного тщеславия, но тщеславие никому не придает храбрости – это румяна, которые сходят с лица при малейшем дуновении ветра и не выдерживают холодного воздуха одиночества.
Недолго же я льстил себя надеждой исправить негодяя своими укорами и всякими услугами; он пал еще ниже, чем прежде! Вот еще одному человеку не задалась жизнь, и, пожалуй, никто, кроме меня, не пожалеет его. Но ведь я-то помню счастливые дни, которые провел с ним, когда он был молод, когда ни он сам и никто другой не думал, что его красивое смеющееся лицо, живой и веселый характер скрывают такую подлую душу! У него была мать, были друзья, доверявшие ему, а теперь!.. Не будь я женат, я помчался бы к нему, еще раз попробовал бы образумить его; но это ничему не поможет, а Фернанда очень тосковала бы без меня. Жаль мне его, беднягу! Надо, однако, утаить свою грусть, а то она заразит и бедную мою девочку. Нет, я не хочу видеть, как вновь омрачится ее прелестное личико, не хочу, чтобы по ее свежим и бархатистым щечкам потекли слезы. Пусть она любит, пусть смеется, пусть сладко спит, пусть всегда будет спокойна, всегда будет счастлива. А я… я создан для страданий, это мое ремесло, шкура у меня крепкая.
XXIII
Ох Фернанды – Клеманс
Мне опять грустно, моя дорогая, и я начинаю думать, что любовь не сплошь радость, есть в ней и слезы; но я теперь не всегда плачу на груди у Жака, так как вижу, что увеличиваю его печаль, если показываю ему свою. За месяц на нас обоих несколько раз нападала беспричинная и все же мучительная тоска. Правда, когда она проходит, мы бываем еще счастливее, чем прежде, нежнее ласкаем друг друга, и я неизменно даю себе слово, что больше никогда не буду мучить Жака своими ребячествами, но всегда получается так, что я опять принимаюсь за свое. Не могу видеть, когда он ходит грустный, – тотчас и сама загрущу; мне кажется, это доказательство любви, и Жак не должен на меня сердиться, да он и не сердится. Он всегда со мной такой ласковый, такой добрый!.. Разве он мог бы говорить со мною резко или хотя бы холодно? Но он огорчается и мягко укоряет меня; тогда я плачу от угрызений совести, от умиления и благодарности и ложусь спать усталая, разбитая, твердо обещая себе больше не начинать; ведь, в конце концов, это тяжело, и подобные дни сокращают наше счастье. Конечно, мне приходят безумные мысли, но, право, я не знаю, можно ли любить и не терзаться такими мыслями. Меня, например, постоянно томит страх, что Жак не очень меня любит, и я не осмеливаюсь сказать ему, что это и есть причина всех моих волнений. Я хорошо понимаю, что бывают дни, когда ему просто нездоровится, но несомненно и то, что иногда на душе у него неспокойно. То его взволнует прочитанная книга, то какие-нибудь обстоятельства, с виду незначительные, как будто воскрешают в нем тяжелые воспоминания. Я бы меньше беспокоилась, если бы он доверил их мне, но он тогда бывает нем как могила, а со мной обращается как с посторонней. Недавно я запела старый романс, каким-то образом попавший мне под руку. Жак лежал в гостиной на большом диване и курил турецкую трубку с длинным чубуком, которой очень дорожит. Лишь только я пропела первые такты, он, словно от внезапного волнения, ударил трубкой о паркет и разбил ее.
– Ах, боже мой! Что ты наделал! – воскликнула я. – Ты разбил свою любимую александрийскую трубку.
– Возможно, – сказал он, – я и не заметил. Ну, пой, пой!
– Я, право, не смею, – возразила я. – Должно быть, я сейчас ужаснейшим образом сфальшивила – ты ведь подскочил как ужаленный.
– Это тебе просто показалось, – ответил он. – Пой, прошу тебя.
Не знаю, как это выходит, но я всегда ловлю те впечатления, которые Жак пытается скрыть от меня. По некоему тайному инстинкту, который, быть может, обманывает меня, а быть может, открывает мне истину, я всегда приписываю то, что Жак говорит или делает, какой-либо причине, роковой для моего счастья. Я вообразила, что этот романс когда-то пела его любовница, что воспоминания о ней еще дороги ему, и вдруг почувствовала нелепую ревность. Отбросив ноты в сторону, я запела другой романс. Жак слушал не прерывая, потом еще раз попросил меня спеть первый романс, сказав, что знает и очень любит его. Слова эти, казалось подтверждающие мои подозрения, словно кинжалом пронзили мне сердце; я нашла, что Жак терзает меня с бессмысленной жестокостью, раз он ищет в нашей любви воспоминания о былых своих увлечениях, но я спела романс, хотя крупные слезы падали мне на пальцы. Жак лежал неподвижно, повернувшись ко мне спиной, и, конечно, полагал, что я не замечаю его волнения; но, несмотря на сердечную муку, я зорко следила за ним и подметила два-три вздоха, казалось исходившие из глубины тоскующей души и сотрясавшие все его тело. Когда я кончила, мы оба долго молчали; я плакала и, как ни старалась, не могла сдержать рыданий. Жак так был поглощен своими мыслями, что ничего не заметил и вышел, напевая с меланхолическим видом припев романса.
Я устремилась в парк, чтобы поплакать на свободе, но на повороте аллеи столкнулась лицом к лицу с Жаком. Он с обычной своей мягкостью, но холоднее, чем бывало, спросил меня, о чем я грущу. Его строгий вид так испугал меня, что я не захотела признаться, почему у меня красные глаза; сказала, что это от ветра, что у меня мигрень; наговорила всяких небылиц, а он притворился, будто верит им, – не настаивал и пытался меня развлечь. Это было ему нетрудно – я такая ветреная, что меня все забавляет. Он повел меня посмотреть кашмирских коз, которых ему только что привезли вместе с их пастухом, таким дурачком, что я просто умирала со смеху. Но посмотри, какая я! Лишь только осталась одна, снова расплакалась, вспоминая утренние события. Особенно больно мне было то, что я рассердила Жака. Он проявил равнодушие, которое доказывало, что ему совсем не хочется выслушивать мои ребяческие излияния и огорчаться моими страданиями. Быть может, у него и были такие мысли, а может быть, его зазрила совесть, зачем он заставил меня спеть этот романс, а возможно, мы и без всяких объяснений прекрасно поняли друг друга. Во всяком случае, вечером он с деланой беззаботностью спросил, знаю ли я наизусть тот романс, который пела утром.
– А тебе он очень нравится? – спросила я с горечью.
– Очень, – ответил он. – Особенно в твоих устах. Нынче утром ты спела его так выразительно, что взволновала меня до глубины души.
И вот из какой-то потребности усилить свои терзания, принося себя в жертву его прихоти, я предложила спеть романс еще раз и уже хотела было зажечь свечу, чтобы прочесть ноты, но Жак остановил меня, сказав, что мы отложим это до другого раза, а сейчас ему больше хочется прогуляться со мною при лунном свете. На следующий день утром я поискала на фортепьяно ноты и не нашла. Несколько дней кряду я безуспешно искала их. Любопытно! Куда же пропали ноты? Я даже решилась спросить у Жака, не видел ли он их.
– Я по рассеянности разорвал их; больше не стоит об этом думать, дружок.
Мне показалось, что слова «больше не стоит об этом думать» он произнес как-то особенно многозначительно. Быть может, я не права, но никогда я не поверю, что он разорвал ноты по рассеянности. Сначала ему понадобилось узнать, могу ли я спеть романс наизусть, и, удостоверившись, что не смогу, он уничтожил ноты. Романс вызвал у него искреннее волнение, – должно быть, напомнил ему о былой бурной любви!
Если Жак угадал, что происходит во мне, но счел это пустяками, недостойными внимания, он ошибается. Будь он на моем месте, он страдал бы гораздо больше меня: ведь он – моя первая и единственная любовь, я ни словом, ни делом, ни помышлением не оскорблю его; он без страха может заглянуть в мою жизнь, всю ее окинуть взглядом и убедиться, что он – единственная моя любовь. Зато его жизнь для меня – бездна, которая тонет в непроницаемом мраке; те немногие ее события, что мне известны, походят на зловещие метеоры, ослепительные и сбивающие с пути. Когда до меня впервые дошли обрывки этих недостоверных сведений, мне пришла страшная мысль, что в Жаке нет ни постоянства, ни правдивости; мне стало страшно, что я напрасно так высоко ценю его любовь; мое благоговение перед ним как будто пошатнулось. Ныне я знаю, что за человек Жак и чего стоит его любовь. Она мне так дорога, что я отдала бы целую жизнь, исполненную покоя, но жизнь без Жака, за те два месяца, которые я прожила с ним. Я знаю, что он не способен обмануть меня ложными клятвами. Теперь я уже почти и не беспокоюсь о будущем, но ужасно мучаюсь, ревнуя его к тому, что было у него в прошлом. А как бы я терзалась сейчас, в настоящем, если б не верила в Жака, как в Бога! Но я не могу сомневаться в честном его слове и не стану ревновать без причины. А та ревность к былому, которая порой овладевает мною, свободна от низких подозрений, она полна грусти и смирения. Но как мне все-таки больно!
XXIV
От Жака – Сильвии
Не знаю, кто из нас оступился, но в озеро упала песчинка. Я так остерегался, так старался предотвратить это несчастье, и все же поверхность прозрачных вод замутилась. В чем причина беды? Никогда этого не знаешь, да и замечаешь беду, лишь когда она уже нагрянула. Она непоправима. Но можно воздвигнуть плотину и преградить путь уже покатившейся лавине.
Этой плотиной будет мое терпение. Надо с мягкостью противиться чрезмерной чувствительности юной души. Мне удавалось ставить такого рода укрепление между собой и самыми бурными характерами; не будет очень трудной задачей успокоить Фернанду, такую добрую и простодушную девочку. У нее есть свойство, спасительное для нас обоих, – честность. Она ревнива, но душа у нее благородная, и подозрения не могут ее осквернить. Она изобретает для себя всевозможные терзания по поводу того, что ей неизвестно, но слепо верит тому, что я ей говорю. Сохрани меня бог злоупотребить этим святым доверием и стать недостойным его, солгав ей хоть в каком-нибудь пустяке! Когда я не могу дать ей объяснение, которое может удовлетворить ее, я предпочитаю не давать ей никакого объяснения: из-за этого ей приходится помучиться немного дольше, но что поделаешь! Другой унизился бы до каких-нибудь уловок, которые помогают улаживать любовные ссоры, но мне это кажется низостью, на это я никогда не пойду. Недавно между нами произошла размолвка, довольно болезненная для нас обоих и касавшаяся вопроса деликатного. Она запела романс, который я в первый раз слышал когда-то из уст прелестной женщины, предмета первой моей любви. Любовь была весьма романтическая, весьма идеальная, нечто вроде несбывшейся мечты, не сбывшейся, быть может, из-за моей робости и восторженного моего уважения к этой даме, хотя она мало чем отличалась от других дам, как мне впоследствии казалось. Конечно, ни эта женщина, ни былая моя любовь к ней совсем не таковы, чтобы Фернанде стоило из-за них огорчаться, а все же на светлое небо нашего счастья набежало облачко. Я с живым удовольствием слушал мелодичную, простую песню, возродившую в моей памяти иллюзии и радостные сны юности. Она воскресила волшебную плеяду воспоминаний: я вновь увидел тот край, где впервые познал любовь, леса, где я предавался своим безумным мечтам, парк, где я прогуливался, сочиняя плохие стихи, которые находил превосходными, и сердце мое забилось от радости и волнения. Разумеется, я не сожалел об этой любви, которая и существовала-то лишь в воображении, лишь в мечтах шестнадцатилетнего юноши, но есть какое-то неизъяснимое очарование в далеких воспоминаниях. Ведь первые жизненные впечатления любишь отеческой любовью: прошлое любишь, может быть, оттого, что в настоящем томишься скукой и сам себе надоел. Как бы то ни было, я на минуту перенесся в мир былого – я, конечно, не променяю на него тот мир, в котором теперь живу, но ведь я считал его навеки позабытым и вдруг, к радости моей, очутился в нем. Казалось, Фернанда догадалась, какое удовольствие она доставляет мне, и пела, как ангел, а я слушал в блаженном упоении и, когда она умолкла, не мог и слова вымолвить от восторга. Вдруг я заметил, что она плачет, и так как у нас уже был подобный случай, я понял, что с ней происходит, и немного подосадовал на нее. С первым впечатлением не в силах справиться человек самого твердого характера. В такие минуты способны притворяться только вероломные люди, а честные могут сделать лишь одно – молчать и таиться. Я вышел из комнаты пройтись по парку, и эта прогулка рассеяла легкое мое раздражение. Но я понял, что никакие мои объяснения не утешат Фернанду. Понадобилось бы убедить бедняжку в том, что ее подозрения ошибочны, то есть солгать ей, или же попытаться объяснить ей, какая разница существует между романическим воспоминанием о прошлом, которое дорого тебе, и сожалением о забытой любви. Этого она никогда не желала понять, да и в самом деле, это недоступно пониманию в ее возрасте и, может быть, при ее характере. Мое признание в довольно невинном чувстве было бы для нее больнее, нежели мое молчание. Я все поправил, доказав ей, что я готов пожертвовать из-за ее обидчивости маленьким своим удовольствием: я отказался послушать еще раз романс, когда Фернанда, пустив в ход уловку, предложила спеть его вторично, а после этого, ничем себя не выдав, я бежал от нее.
Необходимо, конечно, в подобных случаях, когда лучшего выхода нет, набраться мужества и не выказывать досады. Но, право, это дается мне с трудом. Я долго был жертвой ревности некоторых женщин, и всё, что хотя бы отдаленно напоминает мне это, вызывает у меня дрожь отвращения. Но я постараюсь привыкнуть. У Фернанды есть свои недостатки, или, вернее, слабости ее возраста, а у меня свои. Какая мне была бы польза от жизненного опыта, если б он не закалил меня во всяких страданиях? Я должен следить за собой и сдерживаться. Я непрестанно изучаю себя и исповедуюсь перед Богом в одиночестве сердца своего, дабы предостеречь себя от греха непреклонной гордости. Разбираясь в своей душе, я нашел в ней много пятен, которые могут послужить оправданием частых волнений Фернанды. Например, у меня есть плачевная привычка сравнивать теперешние свои горести с прошлыми. И тогда возникает траурная вереница теней в черных покровах, они держатся за руки, а стоит потревожить одну из них, пробуждаются от дремоты и все остальные. Когда бедняжка Фернанда огорчает меня, это не она причиняет мне боль, это воскресают мои былые любовные страдания, уподобляясь старым ранам, которые раскрываются и начинают кровоточить. Ах, невозможно излечиться от своего прошлого!
Но все же можно ли Фернанде на меня сетовать? Кто больше меня умеет наслаждаться настоящим? Кто более свято чтит сокровище, дарованное ему Богом? Как дорожу я алмазом, которым обладаю, с которого сдуваю малейшую пылинку! Кто берег бы его более тщательно, чем я? Но разве дети что-нибудь понимают? Я, по крайней мере, могу хоть сравнить прошлое с настоящим; бывает, что иной раз я страдаю вдвойне, оттого что много перестрадал, но чаще учусь путем сравнения наслаждаться сегодняшним счастьем. Фернанда думает, что все мужчины умеют любить так, как я; а я чувствую, что другие женщины не умеют любить так, как любит она. Я более справедлив к ней и более благодарен ей. Но надо признаться – так и должно быть. Увы! Неужели миновала пора счастья и настало время быть твердым? О нет! Нет! Оно еще не пришло, это было бы слишком скоро! Пусть они охраняют друг друга, и пусть счастье вознаграждает мужество.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































