Читать книгу "Дендизм и Джордж Браммелл"
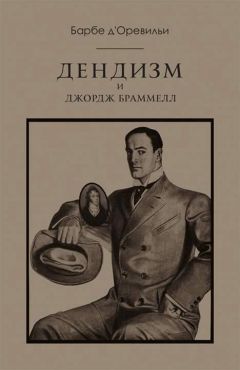
Автор книги: Жюль д'Оревильи
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Барбе д’Оревильи
Дендизм и Джордж Браммелл
© ООО «Книгократия»
* * *
Предисловие
Как бы ни углублял сам Барбе д’Оревильи понятия «дендизма», говоря, что это не только искусство завязывать галстуки, как бы ни старались его поклонники и толкователи сделать из его блестящей и парадоксальной книги катехизис индивидуальной психологии, тем не менее эта книга – о моде, может быть о моде внутренней, о психологической манере «завязывать галстуки», но своего рода «хороший тон» скорее для внешнего поведения и внешнего мышления целого литературного поколения. Едва ли люди не литературы знали и оценили эту книгу, примечательную как документ и как удивительный фейерверк парадоксов, словечек и изречений. Мы не хотим нисколько умалить значение книги, говоря, что она – о моде, так как придаем последнему слову более широкое значение. Mode, fashion, образ жизни, устав, уклад – это все, что в данный момент признается известным кругом общества за общепринятое, за надобное, за приличное. Всех бы поразило выражение: «У старообрядцев мода при начале службы делать семипоклонный начал», так же как: «По уставу при сюртуке не полагается белого галстука», – меж тем как разница вся в том, что первый обычай касается церковной практики и освящен столетиями, а вторая подробность относится к туалету и освящена лишь десятками лет или даже минутой, – но сущность их одинакова. Несколько таких минут запечатлел в своей книге о дендизме и Барбе д’Оревильи, внося много личного и отчасти творя моды, нежели их документируя. Но не так ли поступал и Оскар Уайльд, часть афоризмов которого нужно признать не за индивидуальные утверждения, а за мнения современного ему кружка эстетов. В этой области, как и во всякой другой, конечно, единичное и коллективное творчество разнятся друг от друга, но то, что сегодня мнение и парадокс д’Оревильи или Уайльда, не может ли завтра быть параграфом общего устава мод! И хотя дендизм им понимается как бунт индивидуального вкуса против нивелировки и тирании моды, не служит ли этот самый протест известной модой, уже имевшей прецеденты в итальянском Ренессансе, где все одеты по-разному, ни один человек не хочет быть похожим на другого и даже одна нога стремится разниться от другой цветом?
Капризность и произвольность этой книги придают ей особую остроту и привлекательность, может быть несколько уменьшая ее значение практического кодекса.
Как известно, появление этой вещи имело место в 1845 году, накануне перелома, совершившегося в творчестве Барбе д’Оревильи, когда он вернулся к католичеству и Средневековью с их укладом, утварью и обстановкой, несколько напоминая Рёскина и предвосхищая Гюисманса. Хотя наряду с католическими исследованиями он не оставляет и модных хроник, написанных истинным денди. Его статьи, как его внешность, поведение, были проникнуты каким-то наивным и трогательным достоинством, но мы должны признаться, что вполне понимаем улыбку современников при виде этой пламенной и несколько ходульной, романтически протестующей и наивной, непримиримой и детски простой фигуры. Безусловно, предмет, трактуемый в «Дендизме», – подлинное достояние искусства и больший, может быть, нежели спорт и военное дело; какая-то пятнадцатая муза (которых вообще слишком мало) – муза моды – вдохновляла эту горячую, упрямую, может быть, несколько смешную голову.
Барбе д’Оревильи занимал видное место в переходной от романтизма (но в прозе, кроме жестокостей В. Гюго и Э. Сю, не более ли классического, нежели это принято думать?) к натурализму и снова романтическому декадентству и символизму. Этим переходным положением объясняется недостаточное признание этой самой по себе противоречивой, причудливой, вызывающей и обаятельной фигуры. Но зоркий глаз сумеет приметить в этой редкости, ихтиозавре, горячее сердце, простое и наивное, подлинного великого поэта.
М. Кузмин
Сезару Дали,
редактору «Revue de l’architecture»
Дорогой Дали!
Семнадцать лет тому назад я писал Вам:
«Пока Вы путешествуете, дорогой Дали, и пока память Ваших друзей не знает, где найти Вас, вот нечто (я не смею сказать: книга), что будет дожидаться Вас у Вашего порога. Это – статуэтка человека, который и не заслуживает, пожалуй, ничего иного, кроме статуэтки: достопримечательность быта и истории, место которой на этажерке вашего рабочего кабинета.
Браммелл не принадлежит к политической истории Англии. Он соприкоснулся с ней по своим связям, но не входит в нее. Его место в истории более высокой, более общей и более трудной для написания, – в истории английских нравов, ибо политическая история не захватывает всех общественных уклонов, a изучаемы должны быть все. Браммелл был выражением одного из этих уклонов; иначе его влияние было бы необъяснимо, Описать его, исследовать, показать, что влияние Браммелла не было поверхностно, все же могло бы быть темой для книги, которую забыл написать Бейль (Стендаль) и которая соблазнила бы Монтескьё.
К несчастью, я не Монтескьё и не Бейль, не орел и не рысь; но все же я старался разобраться в том, на что многие, конечно, не удостоили бы потратить объяснений. Что я увидел, я и предлагаю Вам, дорогой Дали. Вам, который чуток к изящному, как женщина и как артист, и который отдает себе отчет в его власти, как мыслитель, Вам хочу я посвятить этот этюд о человеке, почерпнувшем свою славу из своего изящества. Если бы я написал этюд о человеке, почерпнувшем славу из силы своего ума, то и тогда я смело мог бы посвятить его Вам, обладателю стольких дарований.
Примите же это как знак дружбы и как воспоминание о более счастливых днях, когда мы виделись чаще, чем теперь.
Преданный вам Ж. А. Барбе д’Оревильи.Пасси… вилла Beauséjour. 19 сентября 1844 г.»
Так вот, мой друг, в этом посвящении, которому уже семнадцать лет, я не изменю сегодня ни одного слова, и это будет первый случай, когда семнадцать лет протекли, ничего не изменив.
Пусть оно останется неприкосновенным, как дружба, которой оно было выражением и которая осталась между нами неизменной, безоблачной и непрерывной. Я не всегда имел такую удачу в дружбе, как с Вами, нетронутой временем колонной среди моих развалин! Семнадцать лет Вам известно, как этот презренный Тацит, всегда несносный, ибо всегда правдивый, называет этот длинный ряд дней, о которых, быть может, мне лучше было бы умолчать, если бы с печалью о прожитом, дорогой Дали, я не соединял, по крайней мере, радостного права сказать что я остался к Вам тем же, каким я был вот уже столько лет, и, так как все в этой книге фатовство, похвалиться моими неумирающими чувствами.
Ж. А. Барбе д’Оревильи.Париж, 29 сентября 1861 г.
Предисловие к второму изданию
Эта книга едва ли может считаться вторым изданием. Отпечатанная в немногих экземплярах несколько лет тому назад, она была роздана собственноручно немногочисленным лицам, и такого рода малая и сокрытая ее гласность принесла ей счастье, – будет ли ей столь же благоприятной и та широкая, на которую решаются теперь?.. Легкий шорох молвы, он, как женщины: настигает, когда делаешь вид, что от него бежишь. В этом дьявольском мире лучшим средством создать себе успех, быть может, было бы организовать нескромные разоблачения тайн.
Но автор ее не был столь глубокомысленен, когда издавал эту безделку. В то время его мало занимали слава и литературные дела. О, еще бы! Он был занят иными нарядами, чем нарядом собственной мысли, и иными заботами, чем о том, чтобы его читали. Впрочем, над заботами тех дней он сам теперь смеется, ибо такова жизнь. He вся ли она здесь, в этой смене, возобновляющейся непрестанно, в смене заботы и насмешки?..
Автор «Дендизма и Джорджа Браммелла» не был денди (и чтение этой книги достаточно ясно покажет почему), но он был в той поре юности, которая побудила лорда Байрона сказать с его меланхолической иронией: «Когда я был красавцем с вьющимися локонами…»; a в те дни сама слава не перевесила бы на весах и одного из этих локонов. Итак он написал без авторских претензий, у него были другие, будьте покойны, дьявол тут ничего не лишился. Он написал эту маленькую книжку единственно затем, чтобы доставить удовольствие самому себе и тридцати лицам, своим неизвестным друзьям, в которых нельзя быть слишком уверенным, как нельзя без тщеславного фатовства похвалиться тем, что имеешь тридцать друзей в Париже. Так как у него не было недостатка в фатовстве, то он полагал, что их имеет, и действительно имел. Да будет ему разрешено это высказать, ибо он стал скромен, он нашел себе тридцать читателей для своих тридцати экземпляров. Это не было Битвой Тридцати, это было сочувствием Тридцати[1]1
Combat des Trente – поединок между тридцатью французскими и тридцатью английскими рыцарями – один из эпизодов войны 1341–1365 гг. (прим. переводчика)
[Закрыть].
Будь эта книга написана о чем-нибудь великом, или о каком-нибудь великом человеке, она, конечно, канула бы со своими тридцатью экземплярами в то безмолвное невнимание, которое подобает великому и неуклонно платится ему мелким; но она была написана о человеке суетном и сходившим за самый законченный образец элегантной суетности в обществе весьма требовательном. A в свете каждый считает себя элегантным или стремится быть им. Даже те, что отказались от этой мысли, хотят все таки знать толк в элегантности, и вот почему книгу читали. Глупцы, которых я не назову, хвастались, что ее поняли, и я ручаюсь моему издателю, что они ее раскупят. Повсеместное фатовство! Фатовство, создавшее первый успех, создаст и второй этой вещице, на первой странице которой была сделана попытка написать дерзость: «О фате, фат для фатов», ибо все служит зеркалом для фатов и эта книга тоже зеркало для них. Многие придут посмотреться в него и расправить усы, одни – чтобы в нем узнать себя, другие – чтобы сделаться при помощи его… Браммеллами.
Правда, это будет бесполезно. Браммеллом сделаться нельзя. Им можно быть или не быть. Мимолетный властелин мимолетного мира, Браммелл имеет свой смысл и свое божественное право на существование подобно другим королям. Но если в последнее время заставили уличных зевак поверить в то, что и они властелины, то почему бы и черни салонной не иметь своих иллюзий подобно уличной черни?
Тем более, что их от этого излечит эта маленькая книжка. Они из нее увидят, что Браммелл был одной из самых редких индивидуальностей, давшей себе единственно труд – родиться; но, чтобы развернуться, ей необходимо было еще преимущество чрезвычайно утонченной аристократической среды. Они из нее увидят, чем только надо обладать… и чего у них недостает, чтобы быть Браммеллом. Автор «Дендизма» попытался это перечислить: те всемогущие пустяки, при помощи которых повелевают не одними только женщинами; но он хорошо знал, когда ее писал, что его книга – не книга советов, и что Макиавелли элегантности были бы еще более нелепы, чем Макиавелли политики…, которые нелепы уже в достаточной мере. Он знал, наконец, что его книга заключает лишь осколок истории, археологический фрагмент, которому место как редкости на золотом туалетном столике фатов будущего, – если у них будут таковые; ибо прогресс, с его политической экономией и территориальным разделом, угрожающий сделать из человечества расу жалкой дряни, если и не уничтожит фатов, то, весьма возможно, упразднит их туалетные столики в стиле д’Орсе, как нечто несообразное равенству и соблазнительное.
Во всяком случае, вот книга, какой она была написана, ничто в ней не изменено, ничто не вычеркнуто. В нее только вонзили кое-где одно или два примечания.
Чопорная важность его времени, над которой автор «Дендизма» нередко смеялся, коснулась его не настолько, чтобы заставить смотреть на эту маленькую книжку, легкую по тону быть может (к легкости он стремился, она ему еще не надоела), как на шалость своей молодости, за которую ему следовало бы теперь извиниться. Как бы не так. Он готов даже, если бы довелось, утверждать перед лицом самых тупоголовых из господ Чопорных, что его книга столь же серьезна, как и всякая другая историческая книга. В самом деле, что видим мы здесь при свете этой искорки?.. Человека с его тщеславием, общественную утонченность и воздействия весьма реальные, хотя и непостижимые для одного только Разума, этого великого глупца, но тем более привлекательные, чем труднее их понять и в них проникнуть. A что может быть значительнее даже с высшей точки зрения людей наиболее отрешившихся и отвернувшихся от мира, от его дел и великолепия и наиболее презревших его пустоту и ничтожество?.. Спросите их. Разве в их глазах все виды тщеславия не имеют одной цены, какое бы имя они ни носили и как бы жеманно они ни выступали? Если бы Дендизм существовал в эпоху Паскаля, он, который был Денди, насколько им можно быть во Франции, разве не мог бы написать его историю, прежде чем вступить в Port-Royal: Паскаль, разъезжавший в карете, запряженной шестериком! A Рансе, тоже тигр по суровости, прежде чем углубиться в джунгли Траппизма[2]2
Трапписты – католический монашеский орден, ответвление цистерцианского ордена, основанный в 1664 г. А.-Ж. ле Бутилье де Рансе, первоначально коммендатором, с 1662 аббатом цистерцианского монастыря в Ла-Траппе во Франции (откуда и название). Был создан как реформистское движение, в ответ на послабление правил и высокий уровень коррупции в других цистерцианских монастырях. Трапписты соблюдают устав святого Бенедикта более строго, чем в остальных орденах. Они обязаны молиться 11 часов в сутки, трудиться (первоначально в поле), соблюдать молчание, прерываемое только для молитв, песнопений и по другим уважительным причинам, и строгий пост (полный запрет на мясо, рыбу и яйца), облегчаемый только для больных. (прим. редакции)
[Закрыть], быть может, перевел бы нам капитана Джесса[3]3
Предпоследний историк Браммелла (прим. авт) (см. также Вайнштейн О. Денди. М.: Новое литературное обозрение, 2012)
[Закрыть], вместо того, чтобы переводить Анакреона; ибо Рансе был тоже Денди, Денди-священник, что еще разительней, чем Денди-математик; и заметьте, каково влияние Дендизма: строгий монах, о. Жервез, биограф Рансе, оставил нам очаровательное описание его восхитительных костюмов, как бы давая нам случай приобрести заслугу в борьбе с искушением, поселенным в нас жестоким желанием их надеть. Впрочем, это не значит, чтобы автор «Дендизма» считал себя так или иначе Паскалем или Рансе. Он никогда не был и не будет янсенистом[4]4
Янсенизм – религиозное движение в католической церкви XVII–XVIII веках, со временем осужденное как ересь. Подчёркивало испорченную природу человека вследствие первородного греха, а следовательно – предопределение и абсолютную необходимость для спасения божественной благодати. Свободе выбора человеком убеждений и поступков янсенисты не придавали решающего значения. (прим. редакции)
[Закрыть] и он не траппист… пока еще.
Ж. К. Барбе д’Оревильи.
I
У чувств бывает своя судьба. Есть одно среди них, к которому безжалостен весь мир: это – тщеславие. Моралисты заклеймили его в своих книгах, даже те из них, которые лучше всего показали, какое обширное место занимает оно в наших душах. Светские люди, тоже моралисты в своем роде, так как двадцать раз на день им случается произносить свой суд над ЖИЗНЬЮ, повторяли приговор, вынесенный книгами этому чувству, если им поверить, последнему из всех.
Можно угнетать чувства, как и людей. Правда ли, что чувство тщеславия – последнее из иерархии наших душевных чувств? Но пусть даже оно последнее, зачем презирать его, раз оно тоже занимает свое место?..
Но действительно ли оно последнее? Общественное значение чувств – вот что придает им ценность; но что же иное в ряду чувств бывает полезнее для общества, чем эта беспокойная погоня за людским одобрением, чем эта неутолимая жажда рукоплесканий, которая в великих делах зовется любовью к славе, и тщеславием в малых? Быть может, любовь, дружба или гордость? Но и любовь в тысяче своих оттенков и в бесчисленных своих производных, и даже дружба и гордость исходят из предпочтения к другому, или к нескольким другим, или, наконец, к самому себе, и это предпочтение исключает другие. Тщеславие считается со всем. Если оно отдает иногда предпочтение одним одобрениям перед другими, то его особенность и его честь велят ему страдать, когда отказано хотя в одном из них; ему не спится на ложе из роз, когда одна из них измята. Любовь говорит возлюбленному: ты мой мир; дружба: ты мне довлеешь, и нередко: – ты меня утешаешь. Гордость же, та безмолвна. Один блестящий остроумец сказал: «Гордость – король одинокий, праздный и слепой; его диадема закрывает ему глаза». Тщеславие владеет менее тесным миром, чем любовь; что достаточно для дружбы, того ему мало. Оно – королева в той же мере как гордость – король. Но королева всегда окруженная свитой, всегда занятая и бдительная, и ее диадема – там, где она лучше всего ее украшает.
Необходимо было высказать это, прежде чем заговорить о Дендизме, этом плоде чрезмерно гонимого тщеславия, и о великом тщеславце Джордже Браммелле.
II
Когда тщеславие удовлетворено и не скрывает этого, оно становится фатовством. Таково достаточно дерзкое название, придуманное лицемерами скромности, т. е. всем светом, из страха перед истинными чувствами. И ошибкой было бы считать, как это быть может принято, что фатовство есть исключительно тщеславие, проявляющееся в наших отношениях к женщинам. Нет, бывают фаты всякого рода: фаты рождения, состояния, честолюбия, учености: Тюфьер[5]5
Граф де Тюфьер – персонаж пьесы «Гордец» французского драматурга Филиппа Нерико (псевдоним Детуш) 1680–1754. Сюжетом комедии Детуша служит тщеславиеи чванство молодого графа, оттененные самомнением и фамильярностью разбогатевшего мещанина. (прим. редакции)
[Закрыть] – один из них, Тюркаре[6]6
Тюркаре – персонаж пьесы «Тюркаре» французского сатирика и романиста Ален-Рене Лесажа (1668–1747), автора в том числе плутовского романа «Жиль Блас». (прим. редакции)
[Закрыть] – другой; но так как женщины занимают видное место во Франции, то там под фатовством привыкли разуметь тщеславие тех, что им нравятся и что считают себя неотразимыми. Однако это фатовство, общее всем народам, у которых женщина играет какую-нибудь роль, совсем не то, что вот уже несколько лет делает попытку привиться в Париже под именем Дендизма. Первое есть форма тщеславия человеческого, всеобщего; второе – форма тщеславия очень и очень особенного – тщеславия английского. Всё человеческое, всеобщее имеет свое имя на языке Вольтера, но что не таково, должно быть внесено извне в этот язык. И вот почему Дендизм не французское слово. Оно останется чуждым для нас, как и выражаемое им явление. Как бы хорошо мы ни отражали все цвета, хамелеон не может отражать белого, a для народов белый цвет это сила их самобытности. Мы могли бы обладать еще большей способностью усвоения, которая и так нас отличает, и все же этот Божий дар не подавил бы иного могущественного дара – способности быть самим собой, которая составляет самую личность, самую сущность народа. Итак, сила английской самобытности, отпечатлевшаяся на человеческом тщеславии, – том тщеславии, которое глубоко коренится даже в сердце любого поваренка, и презрение к которому Паскаля было лишь слепой заносчивостью, – эта сила создает то, что называется Дендизмом. Никакая страна не разделит его с Англией. Он так же глубок, как ее гений. Обезьянство не есть подобие. Можно усвоить чужой вид или позу, как воруют фасон фрака; но играть комедию утомительно; но носить маску – мучение даже для человека с характером, который мог бы быть Фиеско[7]7
Фиеско – главный герой пьессы Фридриха Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе». См. вступительную статью А. А. Рейнгольдта к первому русскому изданию 1901 г.: http://az.lib.ru/s/shiller_i_k/text_1901_fesko_oldorfo.shtml. (прим. редакции)
[Закрыть] Дендизма, если бы это понадобилось, тем более для наших милых молодых людей. Скука, которую они испытывают и нагоняют, придает им только ложный отблеск Дендизма. Они вольны принимать пресыщенный вид и натягивать до локтя белые перчатки – страна Ришелье не породит Браммелла.
III
Оба этих знаменитых фата могут походить друг на друга своим общечеловеческим тщеславием; но их разделяют все физиологические особенности двух рас, весь дух окружавших их обществ. Один принадлежал к нервной сангвинической французской расе, которая доходит до последних пределов в буре своих порывов; другой был потомок сынов Севера, лимфатических и бледных, холодных, как море, их породившее, но и гневливых как оно, любящих отогревать свою застывшую кровь пламенем алкоголя (high-spirits). Люди столь разных темпераментов, они оба обладали громадным тщеславием и, разумеется, сделали его двигателем своих поступков. В этом отношении они оба одинаково пренебрегли упреками моралистов, осуждающих тщеславие вместо того, чтобы определить его место и затем извинить.
Удивляться ли этому, когда речь идет о чувстве, вот уже восемнадцать столетий как раздавленном христианской идеей презрения к миру, идеей, все еще продолжающей царить в душах менее всего христианских? Мало того, разве не хранят мысленно почти все умные люди того или иного предрассудка, у подножия которого они затем приносят покаяние в собственном уме? Это объясняет все то худое, что не преминут высказать о Браммелле люди, считающие себя серьезными только потому, что не умеют улыбаться. И скорее этим, нежели партийным пристрастием, объясняются жестокие выходки Шамфора по отношению к Ришелье[8]8
См.: де Шамфор Н. Максимы и мысли. Характеры и анекдоты. СПб.: Изд-во Мiръ, 2007. (прим. редакции)
[Закрыть]. Своим едким, блестящим и ядовитым остроумием он пронзал его точно отравленным хрустальным стилетом. Здесь атеист Шамфор нес ярмо христианской идеи и тщеславец сам не сумел простить чувству, в котором сам был повинен, что оно давало счастье другим.
Ришелье, как и Браммелл, – даже больше, чем Браммелл, – испытал все виды славы и наслаждений, какие только может доставить молва. Оба они, повинуясь инстинктам своего тщеславия (научимся произносить без ужаса это слово), как повинуются инстинктам честолюбия, любви и т. д., оба они увенчались удачей; но на этом и прекращается сходство. Мало того, что у них были разные темпераменты; в них проявляются влияния среды и делают их еще раз непохожими друг на друга. Общество Ришелье сорвало с себя всякую узду в своей неутолимой жажде забав; общество Браммелла со скукой жевало свои удила. Общество первого было распущенным, общество второго – лицемерным.
В этом двояком расположении и коренится различие, какое мы замечаем между фатовством Ришелье и дендизмом Браммелла.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































