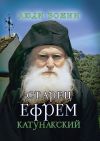Текст книги "Старец Амвросий. Праведник нашего времени"

Автор книги: Евгений Поселянин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
ГЛАВА VIII
ЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О СТАРЦЕ
Эпоха, в которую я познакомился с о. Амвросием, была самой счастливой порой моей жизни. Это было переходное время от отрочества к юности, на которую он бросил какой-то тихий, мягкий отсвет.
Я увидел его в первый раз в лето между гимназией и университетом; он умер, когда я был на последнем курсе. Я не сознавал за эти четыре года общения с ним, как много он для меня значил, и только, бывая у него, наслаждался всей душой тем обаянием, которое шло от него на всякого человека, приближавшегося к нему. И лишь тогда, когда его не стало, я понял, чем он был для меня и какое пустое, незаполнимое место в моей жизни оставляет его уход.
Моя встреча с ним была случайностью – говоря мирским языком, была незаслуженной милостью Божьей – говоря языком веры.
Я не только не стремился к нему, когда в первый раз услыхал о нем, но даже отнесся к нему с непонятной враждой и озлоблением. Я совершенно не был подготовлен к такой встрече и не имел ни малейшего понятия о том явлении, какое представляет собой старчество.
С ранних лет меня влекло к себе христианство, и те немногие святые, о которых я с детства знал, возбуждали во мне самое искреннее восхищение, особенно же преподобный Сергий и митрополит Филипп. И чем дороже были мне такие люди русского прошлого, тем горячее мне хотелось видеть воплощение таких типов в современной жизни.
В Москве, где я тогда жил, ходили слухи о независимом характере и прямоте тогдашнего митрополита Иоанникия, и это мне чрезвычайно нравилось. А кроме того, я видел, как он не жалел себя для службы и как любил простой народ, и так как говорили о его строгой жизни, – все это заставляло меня относиться с особым чувством, близким к восторгу, к этому человеку, и я любил бывать на его величественных богослужениях, во все время их сознавая, что предо мной настоящий архиерей Божий.
Точно так же инстинктивно хотелось мне видеть и настоящего монаха, который бы проводил жизнь в действительных подвигах, который ими бы дошел до такой степени, чтоб быть «во плоти ангелом», небесным человеком, чтоб в нем сияли великие дары благодати, чтоб он был живым доказательством того потустороннего мира, который мы принимаем на веру, чтоб он любил народ и чтоб народ знал его, ходил к нему и получал от него все нужное для души. Мне хотелось, чтоб этот монах жил в бедной деревянной келье, в лесу, а не в каменных палатах богатой обители. Мне всей душой хотелось найти такого инока, Божьего человека.
Уже тогда идея монашества была мне очень дорога.
Мне очень не нравились оказываемые монахам знаки внешнего внимания, например целование рук. И именно с этой стороны я и возмутился против о. Амвросия, когда в первый раз услышал о нем.
Тот человек, который рассказывал об Оптиной, упомянул, что перед тамошними старцами обыкновенно становятся на колени, и вот эта именно подробность и возмутила меня. Чувство прямой враждебности и озлобления с той минуты поселилось во мне к дальнему старцу оптинскому и жило вплоть до той минуты, когда я его наяву увидел.
Я гостил в деревне у своей тетки, когда один ее родственник, человек с очень разнообразными интересами, которого я не считал серьезным и основательным, уговорил ее отправиться в Оптину, как бы пикником.
Его оптинские впечатления, передаваемые им вперемешку со столичными сплетнями и веселыми анекдотами из его нескончаемых заграничных путешествий, не могли возбудить во мне интереса к этому монастырю. От него-то я услыхал в первый раз имя старца. Он же уверял, что старец этот прозорливый, т. е. знает разные тайны, о которых никто ему не говорил, он также рассказывал, что к нему ходит очень много народа, что его весьма уважают и даже становятся перед ним на колени.
Тогда мне казалось, что старец этот – какой-нибудь ловкий лицемер с репутацией, раздутой богомолками, и, хоть некоторые вещи в словах рассказчика, которому я вообще мало верил, как-то помимо моей воли интересовали меня, я старался не поддаваться тому влечению и уверял себя, что, конечно, не найду в нем ничего особенного.
Мы собрались ехать в Оптину не ради старца и не ради Оптиной. Она была лишь конечным пунктом интересной и оригинальной самой по себе поездки.
Мы приехали в Оптину в ночь на 15 июля.
Я помню досель все подробности этого путешествия: остановки на постоялых дворах, ночи в езде, предрассветный холод, всю неизъяснимую прелесть этих дней, проведенных среди природы, и постоянно сменяющихся пейзажей.
Помню, как остановились мы у перевоза через Жиздру, на берегу которой расположена Оптина; как ямщик звал паром, как откликался монах-перевозчик, и послышался тихий плеск воды под приближавшимся паромом, а Оптина в лучах луны на темном фоне соснового бора таинственна была там, за рекой, на высоком берегу, точно стремясь в небо своими высокими, большими башнями, высокой белой колокольней, белыми вратами и белыми стенами.
Мы прожили в Оптиной несколько дней, не видя старца, хотя и ходили к скиту, чтоб посетить его как монастырскую достопримечательность.
В эти дни сама Оптина произвела на меня сильное впечатление.
Это было что-то совершенно незнакомое мне раньше. Тут действительно был подвиг. Монахи были все на молитве и на тяжелых послушаниях. Все они непременно в полном составе присутствовали на всех продолжительных богослужениях. Не было не только какого-нибудь величания, гордой походки, все, наоборот, имели тихий, смиренный вид, при встречах между собой и с мирянами ласково кланялись; и главное – я невольно почувствовал во всех, от седовласых, еле передвигающих ноги старцев до самых молодых послушников, глубокое религиозное убеждение, искреннее усердие к своему монашескому званию и постоянное сознание того, что они находятся перед очами Божьими.
Раз весь монастырь был таков, и неведомый старец представился нам теперь иным. Но меня раздражало, как это он нас не принимает, между тем как настоятель монастыря не раз посылал к нему сказать о нас.
Уже назначен был день нашего выезда, настал канун этого дня, а мы все еще не видали старца.
Но вечером я с моим троюродным братом, который совершенно не интересовался религией и обыкновенно подсмеивался над моим интересом к духовным предметам, побывал в домике старца, и опять безуспешно. Зашли к жившему в скиту очень интересному человеку, происходившему из старинной помещичьей семьи и обладавшему большими способностями к живописи. Этот седовласый старец с выразительным лицом удивительно глубоко и блестяще говорил о внутренней жизни и христианстве. Мы находились около его утопавшего в ветвях яблонь домика, как заметили движение по скитским дорожкам, и он сказал нам, что о. Амвросий вышел из своей кельи и что теперь самый удобный случай подойти к нему.
Не знаю, переживал ли я когда-нибудь такое чувство напряженного внимания, как то, с которым подходил я к старцу. Шедшие около него монахи – я не заметил, вероятно, келейники – усиленно указывали ему на нас.
Передо мной был очень-очень старый человек, опиравшийся на палку с концом, загнутым крючком, в ватном толстом подряснике, в теплой мягкой суконной камилавке. Я сразу почувствовал в нем что-то необыкновенное, но держал себя, так сказать, в руках и внушал себе: «Пусть все думают, что ты замечательный человек. Для меня это все равно, и я сам хочу рассмотреть, что в тебе есть. Ты для меня еще никто».
С этим сложным чувством какого-то удивления перед ним и этой строгой рассудительности стоял я перед старцем. И как я понял в тот же день, он прекрасно чувствовал мое настроение. Он молча благословил нас обоих, ничего нам не сказал, ни о чем нас не спросил и прошел дальше, как будто мы были какое-нибудь пустое пространство.
Я тихо пошел за ним.
К нему приблизился высокий, здоровый простолюдин и сказал ему:
– Я, батюшка, рабочий. На заработки в Одессу собрался. Благословите туда ехать.
О. Амвросий мгновенно ему отвечал:
– Нет, в Одессу не езди.
– Батюшка, – настаивал тот, – там заработки хороши и всегда руки требуются. Там у меня знакомые.
– Не езди в Одессу, – твердо повторил старец, – а поезжай в Воронеж или Киев.
Потом он удалился с этим человеком от большой дорожки на боковую тропинку, беседуя о чем-то наедине.
Я был поражен… Как он это знает? Отчего он так быстро и прямо решает?
Старец пошел дальше, я следовал близ него.
К нему подходили еще люди, и он всякому отвечал.
Недалеко от его домика ждала его кучка крестьян, имевших вид настоящих пахарей, вовсе не тронутых городским лоском.
– Мы костромские мужики, – сказал ему один из них. – Прослышали, что у тебя ножки болят, так вот тебе мягонькие лапотки и принесли.
И они подали старцу какие-то тонкие валеные сапоги.
Я не забуду ласковой улыбки и выражения благодарности, которые осветили в ту минуту лицо старца. И в ту же минуту как бы спала перед моими глазами завеса, мешавшая мне видеть старца.
Разом в моем мозгу пронеслись какие-то давние мечты – лесной скит, светлый старый ласковый монах, в ореоле святости, народ, идущий к нему со всех концов… Ведь я этого так желал! А тут был приютившийся в старом суровом бору скит, маленькие белые домики под вековыми соснами, этот старец с тихими словами, видящий что-то невидимое нам, и народ со всем простодушием своей теплой к нему любви и безграничного к нему доверия.
«Так это сбылось! – прожгла мой мозг счастливая мысль. – Все это тут!»
И радостный, счастливый, обновленный, я стоял, любуясь на старца.
А вокруг был ясный ласковый вечер русского лета, и старые сосны вели меж собой серьезный разговор, безмолвные свидетели этой новой минуты человеческого счастья, пережитого уже здесь столькими людьми нескольких поколений, а о. Амвросий тихо улыбался костромским мужикам с их мягонькими лапотками.
В совершенно ином настроении, чем в первый раз, подошел я теперь опять к старцу.
Душа моя была полна какой-то детской доверчивости к нему и радости, и я точно говорил сам в себе: «Ну, теперь смотри на меня; вот я весь, как есть, перед тобой. Хочешь – заметь меня и посмотри, сколько во мне дурного. А не заметишь, значит, я недостоин, чтоб ты смотрел на меня».
Старец взошел на крылечко и, опираясь рукой на перильца, обернулся лицом к нам. Я стоял против него, впившись в него глазами, но ничего не говорил ему. Он приветливо спросил у моего троюродного брата, где он учится, и сказал ему, чтобы он продолжал свои занятия.
Затем он спросил у меня:
– Веруешь ли в Бога, во Святую Троицу?
– Кажется, верую, – отвечал я, – кажется, могу сказать, что верую.
Тогда он прибавил:
– Никогда ни с кем не спорь о вере. Не надо. Потому что никому ничего не докажешь, а сам только расстроишься. Не спорь.
Много раз потом я с грустью все поминал, как мудр был этот совет. Вера есть настолько индивидуальное чувство, что убеждать другого в своих, так сказать, оттенках веры – есть то же, что было бы, например, если бы кто-нибудь принялся уговаривать кого-нибудь полюбить до самозабвения третьего человека.
Потом он спросил у меня, чем я буду заниматься. Я отвечал, что должен поступить на юридический факультет.
– Занимайся юридическими науками, – дважды повторил он тогда.
И этот совет был мне очень нужен, хотя я его и не исполнил. Я поступил на этот факультет без всякого влечения, только потому, что в то время филологический был преобразован в какие-то старшие классы гимназии и я не хотел продолжать писать опротивевшие мне и без того extemporalia[11]11
Extemporalia (лат.) – упражнения в переводе с родного языка на греческий или латинский. (Прим. ред.)
[Закрыть].
Больше на этот раз мы со старцем не говорили. В тот же вечер, последний вечер нашего пребывания в Оптиной, к нам зашел наш новый знакомый из скита, Димитрий Михайлович, и несколько часов проговорили мы о старце. Он рассказал нам многое из его жизни: о его ласковом обращении, о вере к нему народа, о тех необыкновенных случаях, в которых выражались его духовные дары – прозорливость и дар исцеления. Я жадно ловил этот рассказ. И когда на следующий день, ранним утром, на рассвете, по холодку мы выезжали из Оптиной, и снова тяжело заплескала вода в Жиздре под грузом нашей громадной коляски и четверни, и Оптина со своими белыми церквами, белой колокольней и белой оградой оставалась за нами, вся моя душа льнула к старцу, и я страшно жалел, что так мало видел его.
Что совершилось во мне? Отчего я, не видав еще ничего особенного от этого человека, к которому за неделю до того относился с таким озлоблением, почувствовал вдруг к нему такое усердие?
Случилось то же, что и с другими. Меня коснулось веяние его святыни, и как птица радостно ныряет и резвится в лучах весеннего солнца, так же и душа моя была полна радости и словно обновилась для какой-то новой жизни.
Опять, после нескольких дней в тихой Оптиной, начиналась обычная любимая жизнь, летние путешествия, родные, верховая езда и пикники, лунные ночи, любимые книги, мечты; а там осень, город, университет, театры, знакомые дома, много встреч… Но теперь в эту жизнь часто-часто вступала вдруг мысль о старом дряхлом человеке в теплом подряснике под вековыми деревьями Оптинского скита, и хотелось бросить все, лететь к нему и искать у него разрешения, помощи и защиты от всего, что искушает всякую жизнь, искажает безоблачную пору первой молодости.
В течение следующего года я несколько раз писал отцу Амвросию и очень был доволен его ответным письмам.
Все у него было ясно и определенно, на все можно было получить категорический ответ «да» или «нет». Затем он так умел вдуматься в то, что ему написано, вчитаться между строк, дать прямые ответы на косвенные вопросы… Когда настала осень, меня чрезвычайно потянуло в Оптину, и мои летние разъезды я решил закончить Оптиной.
Мне было весело ехать. Я оставил поезд железной дороги в Калуге, откуда до Оптиной приходилось делать 70 верст на лошадях по большой дороге. Ямщики шибко гнали, и, выехав часа через два по полудни, я еще засветло приближался к Оптиной.
Помню серую тройку последнего, от станции Подборок, перегона, скачку пристяжных, скрип высоко нагруженных возов, свозивших в деревни урожай, и тихую ласковость этого вечера.
На следующее утро я сидел в приемной у о. Амвросия. Там были еще какие-то люди, а мое внимание привлек один весьма крупный и мужественный полковник из Туркестана с тремя маленькими сыновьями. Когда нам сказали, что старец покажется сейчас из своей комнаты, мы вышли в коридор, где дожидалось много народа. Вскоре раздался стук отворяемых дверей, частые удары по полу костыля, и в коридор вошел о. Амвросий. Все присутствовавшие стояли в два ряда на коленях, и он проходил, благословляя каждого, а с некоторыми останавливаясь и говоря по нескольку слов.
Стоявший около меня туркестанский полковник обнял своими могучими руками скучившихся около него сыновей, а о. Амвросий тихо гладил их по голове.
– Вот благословите их растить, – сказал взволнованный отец, а старец, крестя детей, ласкал их любящим взором.
Когда он дошел до меня, он тихо коснулся моей головы и негромко сказал:
– А, теперь сам приехал!
И мне показалось совершенно естественным, что он помнит, и как случайно я попал к нему в предыдущем году, и как я тогда в нем сомневался. Обойдя и благословив всех, о. Амвросий сказал мне: «Ну, пойдем потолкуем!» – и, опираясь на мое плечо, повел к себе в комнатку.
Отрадная светелка, где так легко говорилось, где слова казались грубы и недостаточны, чтоб передать и открыть все, что было в жизни, в мыслях и намерениях, все, из чего состояло существование, где не было уже стыда и смущения человека перед человеком, а только радость, что вот нашелся такой, кому можно вручить себя и рассказывать себя всего без утайки, чтоб чище и светлее становилась жизнь. И во все время беседы такое радостное спокойствие, что он поймет все в самых тонких оттенках и что самые слова свои говоришь больше для себя, потому что он и сам все видит.
Какое было наслаждение в сознании, что вот перед тобой замечательный, великий, прославленный человек, и этот человек во время твоего разговора с ним весь поглощен тобой и твоими интересами.
Мне хотелось с ним обсуждать главное и второстепенное в жизни, и он ко всему относился с неизменным участием, во все входил, на все мог подать совет.
Помню, как в деле нравственной жизни он советовал избегать той педантичности, которая мертвит дело. Так, я рассказал ему, что вычитал в детстве в жизнеописании, кажется, Франклина, что у него была особая разграфленная по дням тетрадь с означением его главных недостатков, против которых он ежедневно отмечал, в чем именно в тот день провинился, и что завел себе такую же тетрадку. Старец решительно восстал против такого средства самонаблюдения. «Это только ведет к похвальбе, – говорил он, – будут у тебя несколько дней все графы чистые, и возомнишь ты, что уже и невесть как хорош. А нужно прежде всего сознавать перед Богом свои вины, которых у каждого человека бесконечно много».
О. Амвросий настаивал на соблюдении нравственного устава и особенно на хранении постов. Как я ему ни доказывал невозможность соблюдения их при моей жизни дома, в большой семье, где я не могу распоряжаться по-своему, и в среде моих знакомых, где посты не соблюдаются, он все стоял на своем. Теперь, столько лет спустя, я понял вполне, как бы много лучше было для меня, если бы я беспрекословно его в этом послушал.
Я говорил с ним и о моих отношениях с людьми: о знакомых, которые мне особенно нравились или не нравились, о всем, что меня занимало, о всех моих планах и намерениях.
Вещи, на которые от других годами не дождешься ответа, у него разрешались одним словом, даже заглазно.
Один мой товарищ, не чувствовавший душевной близости к своим родителям и смущенный этим, попросил меня рассказать об этом старцу. Старец на это ответил мне: «Прочти пятую заповедь».
– «Чти отца твоего и матерь твою», – стал я читать, удивленный, и говоря себе: «Он и без отца Амвросия знает эту заповедь, и ее-то неисполнением и тяготится!.
– Повтори еще, – сказал отец, когда я прочел заповедь.
– Чти отца твоего и матерь.
– Повтори первое слово.
– Чти.
– Так что же сказано?
– Что надо почитать.
– Так вот, так и передай твоему приятелю. Если он почитает родителей, почтителен к ним, заботится о них.
– Он не может заботиться, – вставил я, – они очень богатые.
– Я не о том. А вот чтобы быть с ними, когда они этого хотят, не избегать их общества, почитать им иногда что-нибудь, слушаться их. Ведь они же не требуют от него ничего невозможного?
– Да, но они люди разных миров. У них интересы разные.
– Это ничего не показывает. Можно заниматься своими делами, не забывая родителей и не требуя, чтобы они интересовались непременно его интересами. Да он сам поймет, в чем состоит приказание «чтить». И если он это исполнит, он может быть покоен.
Обращение о. Амвросия было необыкновенно обаятельно. Сколько привлекательности было в его улыбке! Сколько заботы и одобрения в его глазах, какая ласкающая, милая русская речь в его устах.
Если входишь к нему радостный, закивает головой и весело скажет: «А, ясный денек пришел!» Если грустно на сердце, сколько серьезности и сочувствия в его удивительных, без слов говорящих глазах!
Но кроме этих чисто внешних черт, придававших такую цену отношениям с о. Амвросием, было, несомненно, что-то благодатное, что лилось от его святыни в душу приближавшегося к нему человека.
Разом, как входил к нему, чувствовал какое-то успокоение. Что-то отрадное, надежное, радостное сходило на душу, и душа точно юнела, становилась доверчивой, простой и чистой, какой была в далекие дни детства. Все наслоения греха, эгоизма, озлобления исчезали, как лед под лучами южного солнца. Переживалось что-то счастливое и прекрасное.
И трудно сказать, как значительна оказалась для всех, кто в первой молодости знал о. Амвросия, эта встреча, какое влияние она должна была оказать на всю дальнейшую их жизнь.
Навсегда эти люди были застрахованы от одной из опаснейших болезней современности – пессимизма.
Все уродства, какие могли они встретить в своей последующей жизни, весь запас необходимых уроков жизни, измен и разочарования – все это покрывалось одним лучезарным образом.
«Пусть жизнь плоха, пусть говорят, что она насквозь прогнила, что тщетны благие стремления, я знал, я видел отца Амвросия, его лучи сияли мне», – так могут всю жизнь твердить себе эти люди.
И лучезарный этот образ, всегда, в самые опасные минуты отчаяния, только бы вспомнить его во всей его правдивости, спасет их.
А пока он жил, даже редко видя его, какое было счастье сознавать, что там, в скиту далекой Оптиной, живет этот праведник, к которому в тяжелые дни можно прийти и «отдохнуть»!
В третий раз я посетил Оптину в последний год жизни старца Амвросия. Стал собираться я туда с весны, получив от К. Н. Леонтьева весть, что старец сильно слабеет.
Константин Николаевич Леонтьев был замечательный человек и замечательный писатель, доживавший у ограды Оптиной последние годы своей сложной и тревожной жизни. В молодости он пережил период полного отрицания и тяжелым путем дошел до веры, которой страстно искал. Не могу забыть его рассказа об одном важном обстоятельстве его жизни.
Леонтьев, служивший по дипломатической части консулом в Турции, находился близ Константинополя, на даче, когда вдруг ночью почувствовал несомненные признаки холеры, эпидемия которой свирепствовала тогда в тех местах. Немедленно снарядил он одного из своих слуг в город за врачом и в ожидании стал думать о приближавшейся смерти. Не хотелось ему умирать! В голове его были литературные планы, которые погибли бы вместе с ним. Потом он имел страстное желание перед смертью покаяться. А смерть подходила внезапная, неумолимая.
Так как он, хотя и не веруя, любил некоторые внешние явления христианства, то у него стояла в углу икона Божьей Матери. Что совершалось в ту минуту в этой страждущей душе? Только он, смотря на икону, обратился к Владычице с мольбой о спасении его. И он остался жить. Через некоторое время он отправился на Афон, в русский Пантелеймоновский монастырь. Как представителя России, его встретили с торжеством – весь монастырь вышел к святым воротам. А на следующее утро он со смиренным видом и бьющимся сердцем вошел к знаменитому старцу Иерониму, запер за собой двери и упал на колени. Так поручил он себя руководству старца. Из рук о. Иеронима он вышел верующим. На склоне лет он устроился близ о. Амвросия.
На этот раз я и остановился у Леонтьева.
Он занимал целый дом за монастырской оградой. Особенно уютны были две верхние большие комнаты – его спальня и кабинет, из окон которых открывался привольный, чисто русский вид. К дому прилегал довольно большой сад, обильно засаженный деревьями. Как-то раз я застал его бродящим по дорожкам, усыпанным осенними листьями, и теперь припоминаю его высокую фигуру и выразительное лицо с печатью мысли и страдания.
Я прожил в Оптиной с неделю, но всего лишь два раза видел о. Амвросия, и то на короткое время. Старца там не было. Он находился в основанной им женской Шамординской общине, где провел и зиму. Ходили слухи, что Калужский архиерей настоятельно требует возвращения его в Оптину, и даже ждали приезда преосвященного, который, как говорили, принудит о. Амвросия покинуть Шамордино.
Теперь, когда старца не было в Оптиной, я понял, чем был он для этой обители.
Оптина опустела. В нее заезжали лишь на самый короткий срок. И меня как-то мало тянуло теперь в скит. Я больше сидел дома, слушая блестящие, ослепительно-яркие остроумием, глубиной, оригинальностью рассуждения Леонтьева, или бродил по берегу Жиздры или по песчаным дорогам Оптинского бора.
У Леонтьева в доме шли большие сборы. Старец советовал ему переехать в Сергиев Посад из Троице-Сергиевой лавры. Так как у Леонтьева, несмотря на трехтысячную пенсию и получаемый им литературный гонорар, денег, вследствие его щедрости, никогда не было, старец снабжал его деньгами, недостающими на переезд. Уже после смерти Леонтьева, происшедшей через месяц после кончины старца, у Троицы, как говорится в Москве, т. е. в Сергиевом Посаде, я узнал, что перед отъездом его старец тайно постриг его в монашество с имеем Климента, которое он принял в память своего покойного друга, так глубоко им понятого и так правдиво им описанного, – оптинского инока Климента Зедергольма.
Шамордино, куда я ездил с Леонтьевым для свидания с о. Амвросием, находилось в самой интересной поре своего развития.
Там было что-то уже до полутысячи сестер, и все они были охвачены великим рвением. Старец вдохновлял во всех великое усердие. Удивительно счастливо расположенная по высокому обрыву, над необозримой равниной, убегающей вдаль к горизонту, скрывающемуся от глаз, обитель состояла из деревянных домиков, разбросанных в зелени молодых деревьев. Церковь была небольшая, деревянная, домовая, и к ней, по мысли старца, были пристроены палаты богадельни, так что старушки, не выходя из своих комнат, могли через окна слушать богослужение. Фундамент громадного каменного собора был выведен из земли и поражал своими размерами.
Монастырь был заполнен народом, когда мы туда приехали, и перед заборчиком палисадничка игуменского корпуса скучилась не расходившаяся толпа, жаждавшая видеть хоть тень старца.
Сперва к старцу прошел Леонтьев и довольно долго у него оставался. Как я узнал от Леонтьева в тот же вечер, тут окончательно разъяснен был вопрос о его отъезде. Зная обстоятельства жизни Леонтьева, я впоследствии не мог не говорить себе, что в этом совете вновь блестяще проявилась прозорливость старца.
Вслед за Леонтьевым старец позвал меня.
С понятным волнением вошел я в заветную комнату к человеку, так много для меня значившему и два года мною не виденному.
Во второй раз я увидал эту келью старца, когда его уже не было на свете. Она поддерживается и доселе в том самом виде, как была при его кончине.
В стороне от окна, по внутренней стене, низкая железная кровать, на которой старец скончался. На ней большой портрет старца, на котором он изображен лежащим, как он обыкновенно принимал посетителей. На этажерке со стеклянными стенками собраны его вещи, посуда, им употреблявшаяся, его шапочки и белье.
И всякий раз, как входил я в эту келью – последний земной приют великого старца, – я переживал и то жгучее чувство сострадания, которое наполняло меня тогда перед ним, и тоску разлуки, и какую-то сладкую уверенность, что он вновь видит меня и все слышит, что неслышно хочется мне сказать ему.
Я был поражен, войдя в келью, тем, что увидел, потому что, кроме своего умирающего брата, не видел еще на земле такого великого изнеможения.
Старец лежал предо мною, как полумертвый. Рука не могла сделать легкого движения для знамения креста и бессильно повисла вдоль тела. Он не сказал, насколько помню, обычного ласкового или шутливого слова привета, только глаза его, бессмертные глаза, выражали жизнь.
Я заговорил с ним, и тут мне стало прямо страшно его состояния.
Он хотел говорить, поднять голову, но голова, точно шея была без позвонков, бессильно заваливалась назад. Вместо слов вырывался какой-то малопонятный тихий хрип, и лишь через несколько минут я с величайшим усилием стал догадываться о его словах.
Я вышел, глубоко потрясенный. Предо мной был мученик.
А затем ждало много других и этот томящийся у пали-садничка народ, к которому он, вероятно, и вышел, полумертвый.
И однако мысль о его близком конце – и тот ужас, говоря субъективно, для всех его детей, какой совершился здесь через какие-нибудь два месяца, – мне и в голову не пришла. Тень этой мысли не коснулась меня.
Я так привык слышать об изнеможении старца, так привык слышать фразы: «Старец Амвросий еле дышит», «старец крайне ослабел», – и рядом все объясняющую фразу: «Старец живет чудом», – что я ни на минуту не мог думать, как скоро мы останемся без старца Амвросия.
Накануне отъезда из Оптиной я еще раз приехал в Шамордино. Прежде чем увидать старца, я познакомился с семьей С., отец которой, из старой дворянской фамилии, старый кирасир, впавший в бедность, жил с шестью детьми и женой на полном иждивении старца и лишь год назад кончил жизнь, поддерживаемый до конца людьми, знавшими старца.
На этот раз свидание было продолжительнее.
В его комнате что-то переделывали, и он помещался пока в комнате игумена, направо от гостиной. Он был гораздо, несравненно свежее того раза, и я мог по-прежнему, на свободе поговорить с ним. У меня было не то что предчувствие, что я его больше не увижу (потому что я как-то не мог верить в его смерть), а человеческое соображение, что я его долго могу не увидеть. Я попросил его дать мне что-нибудь в благословение, и он благословил меня маленьким образком Николая Чудотворца, который никогда не покидает меня.
Лет десять спустя я был отчаянно болен тифом и сильнейшим плевритом обоих легких. Мне было очень плохо, меня соборовали и дважды приобщили. Я болел уже около двух месяцев без видимого улучшения и был чрезвычайно слаб. Вечером 6 декабря, в Николин день и накануне именин старца Амвросия, я вспомнил об его образке и, сняв его со стены, положил его себе на лоб. С той минуты мне стало лучше, и началось быстро пошедшее вперед улучшение.
Получив образок, я попросил о. Амвросия благословить мою сестру. Он перекрестил ее через пространство иконой Божьей Матери «Достойно есть» и дал ее мне.
Среди дальнейшего разговора я сказал старцу: «Батюшка, вы меня не забывайте. Если мы не увидимся больше, вы меня там не позабудьте. Я вас очень люблю».
Он словами ничего мне не ответил, но до гроба я не забуду того, как он тогда посмотрел на меня.
И опять-таки и в ту минуту я не думал о близости его конца, а говорил о его конце, как иногда в минуты большой откровенности говоришь о смерти с очень близкими людьми, уверенный, что они еще долго проживут.
Затем, рассуждая вслух, как я привык это перед ним делать, я стал ему говорить:
– Знаете, мы с вами ведь долго не увидимся. Я теперь ведь несколько лет не буду в Оптиной. Весной я должен кончить университет и летом буду в другой полосе России, далеко от вас. Будущее лето я проведу вольноопределяющимся в лагере и опять не попаду сюда.
– Ну, может, и скоро сюда попадешь, – спокойно возразил мне старец.
– Нет, батюшка, невозможно это.
– Как знать! Может, и очень скоро здесь будешь, – уверенно произнес о. Амвросий.
– Да невозможно, батюшка, – нетерпеливо возразил я, – зачем я сюда вскоре приду?
– Будет причина и приедешь, – мягко сказал он.
– А я вам, батюшка, говорю, что это невозможно.
– Ах, какой, тебя не переспоришь! – ласково махнув рукой, закончил старец этот разговор. – Ну, пойди посиди в гостиной.
Старец стал переменять обувь, что ему, по болезненности, приходилось делать по нескольку раз в день. Я в этом ему помог. Затем он меня выслал. Я хотел с ним проститься, но он сказал, что через несколько минут еще меня позовет.