Текст книги "Восьмой дневник"
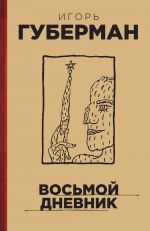
Автор книги: Игорь Губерман
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Игорь Губерман
Восьмой дневник
Моим читателям и зрителям – с великой благодарностью
Предисловие
Конечно, есть на свете книги редкой выделки: текст написан кровью сердца, переплёт – из кожи автора. Моя к такому виду не относится: ума холодных наблюдений больше в ней, чем сердца горестных замет. На самом деле я хотел бы написать совсем другую книгу. Тема Вечного Жида, история Агасфера давно уже волновала меня великодушием Христа к тому случайному жлобу, который подвернулся по дороге на Голгофу. Ведь назначенное ему вечное скитание запросто могло обернуться куда большим кошмаром – неразлучностью с женой, имя которой подворачивалось так естественно: Агасфирь. Я даже их характеры продумал: она была энергична и предприимчива, а он – меланхоличен и ленив. И такие тут коллизии безвыходной семейной жизни мог бы я наворотить, что эта книга стала бы лучшей из лучших в описании грядущего матриархата. Но, по счастью, я лишён таланта бытописателя, такую книгу я не потяну, её напишет кто-нибудь другой. А я по колее привычной поплетусь и свой дневник продолжу как умею. Как-то я прочёл у Андрея Синявского, что название книги должно звучать как музыка и сразу же нести тот смысл, который вложен в книгу. Насчёт музыки не знаю (очень я немузыкален), а нехитрый смысл всего дальнейшего названием «Дневник» сполна исчерпан: тут и в самом деле будут содержаться только записи моих летучих впечатлений и несложных мыслей по пути. Кстати, там же у Синявского набрёл я на совет матёрого литературного знатока и не поленился даже выписать, настолько мне пришлась по нраву эта хлёсткая безжалостная мысль: «Чтобы написать что-нибудь стоящее, нужно быть абсолютно пустым». Чего-чего, а пустоты вполне достаточно, могу спокойно приниматься за письмо.
Хорошо и приятно писать о самом себе, подумал я. Не надо сидеть в библиотеке, ползать по Интернету, никакой не сделаешь позорной ошибки, а если что наврёшь, так на здоровье, и читателю гораздо интересней. Плиний Старший меня в этом смысле очень поддержал, где-то написав весьма ободряюще: «Нет книги столь плохой, чтобы она была бесполезной». Очень я ценю древних мыслителей и всегда нахожу у них цитаты на все случаи жизни. Эти цитаты ещё тем хороши, что их и проверять никто не станет – кому охота копаться в такой древности? Поэтому я давно уже изготовил и держу в запасе большие выписки из бесед Эмпедокла с Тетрациклином. А самому себе глубоких переживаний и ветвистых мыслей не приписываю (нет их начисто) – живу и покрываю буквами бумагу. А касаемо того, что мельтешу, перемещаясь по пространству, как цыган с медведем (в одном лице), – так, слава богу, и кормление семьи отсюда происходит, и чего наповидаю, сразу же о том и напишу.
Сегодня мне исполняется семьдесят шесть, идёт вторая половина восьмого десятка лет, я неуклонно приближаюсь к месту моего назначения. И даже графоманы перестали слать мне свои опусы – должно быть, полагая, что ввиду маразма я уже их не смогу благословить. В эти годы самая пора сидеть на завалинке, курить табак-самосад и вспоминать, как воевал с Наполеоном. Это сезон, когда давно перестал захлёбываться от обилия жизненных соков, зовущих на эскапады и приключения, и время течёт ровно, у него и ритм иной, чем ранее когда-то. Ритм молодого существования похож на стук каблуков человека, легко сбегающего с лестницы. Ритм стариковский – это звук шагов того же человека, много лет спустя тяжело поднимающегося по тем же ступенькам. А посреди ещё – кризис среднего возраста. Впрочем, я легко перенёс его в тюрьме и лагере, где надо было не о смысле жизни думать, а скорее – о сохранности её. И возраст мой сегодняшний меня довольно мало удручает, я ещё со школьных лет помню прекрасные слова, услышанные мною во дворе. У нас в соседнем доме жили две проститутки (работали они на Белорусском вокзале). Даже имена их до сих пор помню – Валя и Наташа (на вокзале – Эвелина и Нателла). В воскресные дни они часто сиживали в полдень на дворовой скамейке – курили «Беломор» и лузгали семечки. Мы, мальчишки, часто тёрлись поблизости – невыразимая была в них привлекательность для нашего подросткового возраста. Им было лет по тридцать, и пессимистка Эвелина порой об этом грустно вспоминала. А подружка Нателла всякий раз ей говорила: «Ты, Валюха, не тушуйся, мы ещё нужны людям!» Я эти слова запомнил на всю жизнь.
Ну ладно, вечером большая пьянка предстоит. С утра я посмотрел злорадно на отложенную накануне пачку сигарет, где с паршивой подлостью зловещей было мне уведомление: «Курение убивает», и закурил из другой пачки, там хоть сообщалось только о сердечно-лёгочных расстройствах. Количество, конечно, надо сократить, подумал я, закуривая вторую. Нет, я согласен полностью с написанным на той паскудной пачке, и курение, конечно, убивает. Но ведь медленно: со мной оно творит своё убийство уже лет пятьдесят, как не больше. И когда хожу к врачам (порой хожу), то совершенно вне связи с этим пагубным блаженством. Просто созревает в подуставшем организме некое очередное неустройство, и я с прилежностью его лечу. Даже суворовское изречение приспособил в виде утешения: тяжело в лечении, легко в раю.
И тут я вспомнил о приятном: девять месяцев назад, седьмого октября, мне позвонил один читатель мой из Питера. Они с женой под вечер сели выпивать, а чтобы бытовое пьянство в праздник превратить, сообразили вдруг, что отмечают день моего зачатия. О чём немедленно и сообщили мне по телефону. И я польщенно их благодарил.
На пьянке будут произнесены, конечно, разные чувствительные слова, носящие характер поминальных, я от них растрогаюсь и свой любимый тост произнесу (горжусь, что сам когда-то сочинил) – «За благородство, с которым наши жёны переносят своё счастье!». А после все заговорят с соседями по столу, и я спокойно буду пить свой виски – даже Тата в этот день не упрекнёт меня в излишнем употреблении.
А года полтора назад мне выпал шанс приобрести всемирную известность. Историческую, несомненно, ибо ранее такого с авторами не случалось и не будет, хочется надеяться, впоследствии. Я завывал мои стишки в Нью-Йорке, и не где-нибудь, а в концертном зале «Миллениум», на Брайтоне, где публика горячая, поскольку из Одессы и окрестностей её. Набилось там под тысячу смешливого народа, первое отделение мне явно удалось, все кинулись в антракте покупать книги и, конечно, их подписывать. Я стремительно калякаю автографы в фойе на каждом концерте, а что здесь мой стул придвинут вплотную к стене, я как-то не заметил. Обычно первые десять минут зрители шумной беспорядочной толпой напирают на стол, стремясь быстрее надписать свою покупку, я уже привык к такому хаотическому натиску (я даже радуюсь ему), но на этот раз толпа была чересчур обильна, и задние активно поджимали, стремясь протолкаться. Стол мой наклонился, и столешница со страшной силой врезалась куда-то ниже рёбер. Я пытался закричать, но смог издать только хриплый клёкот. Дышать я тоже не мог. Ещё я помню побледневшие и искажённые страхом лица тех, что были около стола – они уже ничего не могли сделать. Ещё минута, и случилось бы событие уникальное: читатели раздавили автора насмерть. Ах, какая у меня была бы слава! Только вдруг на стол вскочил какой-то молодой мужчина и гортанно что-то завопил. Стол немедля выпрямился, встал на все четыре ножки, я вдохнул немного воздуха и ожил. А мужчина продолжал что-то кричать, можно было с трудом разобрать, что это английский. А ещё двое таких же в строгих костюмах с галстуками уже расталкивали толпу, ко мне пробираясь. Оказалось, что владельцы этого концертного зала держат в охранниках молодых турецких мужчин – то ли не полагаясь на соплеменников, то ли по причине, что дешевле. Так мне, во всяком случае, объяснил кто-то за сценой. Эти молодые турки, удивлённые такой Ходынкой, и спасли меня от счастья быть раздавленным своими же читателями, лишив несомненно уникальной известности. Даже жаль немного, что уцелел. И тихо продолжаю стариться.
Как дивно я наплакался недавно! Мы с женой ездили в Хайфу, где наша внучка приносила воинскую присягу. На огромный плац торжественным парадным шагом вышло полторы сотни девчушек, выстроились в несколько рядов и сперва выслушали краткую молитву полкового раввина. А может быть, это был просто монолог о доблести библейских предков, я даже не пробовал понять. Я ошалело вертел головой, рассматривая неисчислимое количество родственников, замерших на каменных скамьях амфитеатра, а после стал выискивать глазами свою любимицу в лётной форме (внучка наша попала в военно-воздушные части, что само по себе было предметом гордости). Тем временем какой-то большой воинский чин зачитывал им слова присяги, а они хором повторяли каждый отрывок. Я давно уже рассмотрел внучку, но пока глаза у меня только слабо слезились – очень уж был трогателен и смешон этот девичий строй. Но дальше – каждая из них подходила к группе офицеров, ей вручали винтовку и Библию, а она, прижав книгу к левой груди, громко произносила: «Клянусь!» Я вытер глаза, искоса глянул на скамьи сзади меня (нас было человек восемьсот) и обнаружил множество прослезившихся матерей с отцами, бабушек и дедов. Настала как раз очередь внучки, тут уж я заплакал, не стесняясь. Никогда не подозревал в себе такой сентиментальности. А сразу после церемонии присяги их отпустили в объятия родственников, и огромная толпа расселась на зелёной поляне возле плаца, устроив нечто вроде пикника. Каждая группа обнимала-поглаживала своё сразу повзрослевшее дитя (с винтовками они уже не расставались), уважительно трогала на пилотке значок военно-воздушных сил (внучка очень им уже гордилась и так засовывала пилотку под погон, чтоб он был виден), а главное – старалась пообильней покормить домашними продуктами упорхнувшее чадо. Остальные закусывали прямо на трибунах. Девки сияли! Представляю себе, как их муштровали две недели, обучая маршировать и перестраиваться.
А ощущения совсем иные довелось мне испытать чуть позже – на торжестве обрезания моего младшего внука. Меня как патриарха пригласили быть сандаком – это человек, на коленях которого лежит младенец в то время, как невозмутимо строгий моэль (резник в просторечии) отсекает восьмидневному малышу крайнюю плоть. Я в ужасе хотел было отказаться, но взял себя в руки, уселся на стол (кресла подходящего не оказалось) и твёрдым голосом попросил сына, чтоб меня немедленно окатили холодной водой, если я поплыву от выступившей крови. Все сочувственно засмеялись и обещали. Оказалось всё совсем нестрашно, очень уж подвинулась технология этого ритуала, я изготовился к самой (на мой взгляд) важной части процедуры. Мне рассказали, что за те секунды, что моэль выпрямляется, совершив обрезание, сандак может (и должен) молча произнести про себя пожелания младенцу на предстоящую жизнь – и они сбудутся. К этой важной части торжества я приготовил слов примерно десять, но успел проговорить только три – чтобы он был весёлым, умным и ебливым. Очень уж быстро выпрямился моэль. Но три вполне достойных пожелания-напутствия сказать я всё-таки успел. И очень был собой доволен, что не плюхнулся в обморок от проступившей капельки крови. Так что напился я в тот день с полным и законным основанием.
В день рождения полезно что-нибудь хорошее подумать о себе, и я подумал. Ведь какое счастье, что я начисто лишён зависти, распространённого недуга у так называемых творческих людей. Один приятель рассказал мне очень яркую историю. Он бард, поёт он собственные песни, и как-то оказался на свальном концерте вместе с пятью-шестью такими же умельцами. Сразу же после концерта они уселись выпивать в гримёрке, а он чуть задержался в зале. И придя к соратникам, сказал с законной гордостью: «Ребята, меня только что сравнили с Высоцким!» За столом наступило угрюмое молчание, он даже не ожидал такой реакции. И пояснил: «Ко мне сейчас подошёл какой-то незнакомый мужик и стал хвалить мои песни. А потом говорит: ‘‘Но по сравнению с Высоцким ты говно!’’» И как разгладились, как посветлели лица его коллег!
Ну, что ещё необходимо написать в предисловии? А, вот что: из последней поездки я привёз очень существенный признак того, что Путин (наконец-то!) вызывает неприязнь у населения. Пять водителей машин (два таксиста и три левака) в разных городах страны повестнули мне, что на самом деле Путин – еврей. А московский таксист даже рассказал, как в этой связи пострадал Ходорковский. Вот его версия, тут же записанная мной, так что довольно близко к тексту: «Понимаешь, это всё случилось в еврейский праздник Пурим. Они втроём сидели выпивали – Путин, бывший наш мэр города Лужков и Ходорковский. Выпили, о чём-то стали спорить. А горячие все трое! И чего-то Путин возражал, а Ходорковский говорит ему: да ты еврей и рассуждаешь по-еврейски. А такого Путин не прощает никому!»
И я порадовался молча, что хотя бы таким образом у россиян родится понимание.
Каждый раз, приезжая на гастроли и мотаясь по различным городам, я заново радуюсь тому, что Россия ещё вполне жива – несмотря на все усилия её вождей и правителей. И народ российский предаётся своему извечному любимому занятию – оживлённо безмолвствует. Жить во лжи, бессилии и унижении людям очень обидно, и ради душевного покоя и равновесия они как бы не видят, что живут во лжи, бессилии и унижении. К тому же я ведь наблюдаю казовую сторону российской жизни – смеющихся нарядных зрителей, хорошо одетых горожан, вышедших погулять и за покупками, а кошмаров и уродств окраинной жизни, тягот быта и тоску бесправия не вижу вовсе. И мой залётно-фраерский, туристский оптимизм справедливо осуждают в застольных спорах отдельные местные жители. А кстати, очень многие из них – вполне преуспевшие, весьма упакованные люди, и автомобили у них – роскошные гольденвейзеры (марку автомобиля я могу назвать не точно). Они в меру характера то сдержанно, то пылко говорят о царящем в стране разнузданном произволе. О бесправии и множественной нищете, о мздоимстве и бездарной наглости сосущих кровь клопов-чиновников, и многое другое упоённо мне перечисляют. И всё это правда. И притом – безвыходная и безнадёжная, что для души ещё потяжелее, чем для разума. Но я, однако, знаю возражения и горячо (по мере выпивания) их выдвигаю. Согласитесь, говорю я вкрадчиво, что сегодняшний феодальный режим всё же намного лучше, чем ещё только вчерашнее рабовладельческое в чистом виде устройство страны. И приметы нынешней свободы тщательно упоминаю. А насчёт того, что по-бандитски всё отлажено, так ведь такие люди нынче у власти, а феодалы того давнего времени были отнюдь не лучше в этом смысле. Так что Россия просто с большим запозданием перешла от рабства к феодализму, а впереди у неё таким образом – разумное и куда светлее будущее. Нельзя же прямо из лагеря (а был ведь чистый лагерь) перейти к почти разумной современности. Отсюда и мой постыдный оптимизм. Тут собеседники мои чуть утихают (хочется мне думать – вспоминая горестные судьбы своих отцов и дедов), а я тем временем закусываю жареной картошкой и солёной рыбой, таково моё любимое меню. И мне немного стыдно за свои невидимые глазу собутыльников розовые иностранские очки. Я помню многое из прочитанного мной о кошмарности жизни в сегодняшней России, о повсюдном гнусном беспределе, об унизительности существования под властью крепко сколоченной огромной мафии. Забавно, что расцветка государственного флага нам об этой мафии напоминает: красный, голубой, белый – а теперь подряд сложите первые буквы. Но об этом лучше вслух не говорить, и дружно все мы переходим на анекдоты, лучшую душевную защиту от реальности.
А теперь – о странствиях моих за два последних года.
Туманный Альбион
О старости я много написал, но вот совсем недавно увидал пример достойного на редкость увядания. Полвека тому назад (да-да, ровно полвека) привёл меня как автора в журнал «Знание – сила» мой недавний в те поры знакомец Лёня Финкельштейн, сотрудник этого известного журнала. Мало кто знал, что отсидел он некогда пять лет в тюрьме и лагере (по пятьдесят восьмой, «за болтовню», как сам он говорил), давно печатался под псевдонимом Л. Владимиров. Мы подружились. В шестьдесят шестом году моя свежеобретённая тёща Лидия Борисовна уезжала с прочими писателями в Лондон, с ними ехал и Лёня. «Посмотрите на эти лица, – тихо сказал я Лидии Борисовне (тактичностью я никогда не отличался), – тут доверять можно только моему приятелю!» Из Лондона вернувшись, моя тёща первым делом радостно сказала: «А ваш Лёня там остался, попросил политического убежища!» С тех пор мы его слушали по Би-би-си и по «Свободе», однажды виделись, когда недолго были в Лондоне, а как-то к нам он приезжал под Новый год, осталось чувство близости, а годы беспощадно тикали. И вот мы в Англии опять, и Лёне восемьдесят семь. И хотя ветхость неизбежная уже его коснулась, он улыбчив, памятлив и несуетно подвижен. Мы с ним съездили в пивную, где туристы редки и случайны – существует это заведение аж с 1520 года, есть легенда, что когда-то здесь частенько сиживал Шекспир (театр «Глобус» был неподалёку), и висит доска со списком королей, которых запросто пережила пивная. Конечно же, и место есть, где сиживал Шекспир, поглядывая искоса на Темзу. А обедали мы в клубе «Атенеум», где такие люди в членстве состояли, что, перечисляя их, вполне законно и естественно помолодел Лёня, приосанился (уже давно он в клубе состоит), и я увидел на мгновение того пижона, каким был он много лет тому назад. И любопытство к миру сохранил он почти прежнее, прекрасный образец старения мы повидали с женой Татой в Лондоне. А к клубу я потом вернусь, поскольку там ещё раз побывал, и спутникам своим уже всё врал как старожил.
Я в Лондон в интересном качестве попал. Все знают анекдот о некоем коте, который был гуляка, ёбарь и все ночи пропадал на чердаках и крышах в поисках любовных приключений. А крепко-накрепко состарившись и одряхлев, по-прежнему проводил ночи вне дома. «Что ты там делаешь?» – спросили его хозяева. «А я теперь консультант!» – ответил кот. Так вот, в Лондон был я приглашён как член жюри международного конкурса поэтов. Писатель Олег Борушко некогда придумал интересную игру – «Пушкин в Британии». Александр Сергеевич, как известно, был наглухо невыездным и не был никогда в Британии, английский слабо знал (читал со словарём), но строчек, связанных с туманным Альбионом, сыскалось у него весьма немало. («Что нужно Лондону, то рано для Москвы», «торгует Лондон щепетильный», «скучая, может быть, над Темзою скупой» и разные другие). На этот фестиваль (уже девятый!) была вынесена строчка – «по гордой лире Альбиона», и желавшие принять участие в турнире должны были одно стихотворение начать этой строкой. Стихи высылались загодя, Олег читал их сам, и творения сотни (как не больше) графоманов сразу же кидал в корзину. Первые четыре таких конкурса Олег финансировал сам (даже дорога частично оплачивалась участникам), деньги находились благодаря его давней и весьма грамотной любви к антиквариату, а потом включилась Россия. Так на мелкие брызги нефтяного извержения празднуется теперь 6 июня в Лондоне день рождения Пушкина. В этот раз приехали сорок поэтов из пятнадцати стран мира. Согласитесь, что внушительная цифра – я о количестве стран, поскольку рад и горд, что русский язык распространяется по миру так стремительно и явно. Это прекрасное следствие кошмарной российской жизни, скажете вы мне, и я немедля соглашусь. Но радость мою это не уменьшит. А ещё был и турнир переводчиков (не помню точно, сколько их набралось в числе этих сорока), и три старых английских поэта впервые обрели звучание на русском языке. Тут надо отдать должное вкусу Олега: стихи читались не только в Пушкинском доме (есть в Лондоне такое заведение), но и в старинной церкви Сент-Джайлс. Она частично сохранилась чуть ли не с семнадцатого века, и забавно, что её так и называют: «церковь поэтов». Прихожанами её были Байрон, Мильтон, Шелли, тут похоронены переводчик Гомера (имя не записал), Даниель Дефо и Оливер Кромвель, просто не называю нескольких других со столь же звучными именами. Всё это рассказал мне настоятель церкви, явно пламенный патриот своего прихода, так что достоверность не гарантирую. А как раз когда в церкви этой читались стихи, был день кормёжки бомжей, и они сошлись со всей округи. А мы, кто курит, выходили покурить и, видит бог, не слишком отличались от нахлынувших бездомных. Часть из них явилась с выпивкой, украдкой поддавая под еду, у нас с собой, конечно, тоже было, так что очень интересная толпа собралась в тот день у знаменитой церкви, молча радовалась ей моя беспутная душа. И тени тех, кто посещал эту церковь в разные века, на нас смотрели с безусловным одобрением. А ещё несколько молодых бомжей покуривали травку за углом, и сладковатый запах анаши витал над этим дивным сборищем. Все бомжи расплатятся за это угощение сидением на субботней проповеди, а пииты – вольные птахи – почирикали и разлетелись. Вечером, конечно, пили уже вдосталь, Пушкин получил бы удовольствие от такого дня рождения своего.
Теперь об Англии немного. Был у меня родственник (со стороны жены, но не родня и ей, а по замужеству сестры), талантлив был и рьяный англоман, хотя английского не знал. Так вот на каждой пьянке он вставал и говорил торжественно и громко: «Здоровье Её Величества Королевы Английской! Мужчины пьют стоя!» А я хотя и выпивал (уж очень это глупо – рюмку упустить), однако не вставал. Скорее из упрямства и по вредности характера, чем по идейной непреклонности какой. Но вот сегодня, вдоволь начитавшись, как подло вела себя Англия с евреями (перечислять не место и не хочется), я рад о том упрямстве вспомнить невзначай. А кстати, мой любимый Черчилль был один из очень немногих, кто этой подлости (весьма разнообразной) противостоял, насколько мог. И я в этот приезд услышал с радостью легенду (проверять, естественно, не стал), что памятник ему – единственный из памятников в городе, на который не гадят голуби. Как видно, тоже уважают. Только есть два неких факта, которые не могу не упомянуть. Об одном из них я узнал сравнительно недавно (по глубинному невежеству, естественно), а факт второй с ним оказался в некой смысловой рифме. С удовольствием я оба тут и изложу.
Летом 1215 года король Иоанн Безземельный был вынужден под давлением восставших баронов подписать удивительный документ – Великую Хартию вольностей. Это был, как точно кто-то сформулировал, краеугольный камень будущей английской свободы и демократии. Это была гарантия прав человека и уважения к личности. Да, конечно, это сперва относилось только к так называемым свободным сословиям: баронам, церкви и купцам. Но из этого вытекало главенство закона, а не мановения монаршей руки. Из этого являлась возможность контроля над королевской властью. И много всякого другого, постепенно превратившего Англию в страну, какой она является сегодня. А знаменитая американская Декларация независимости спустя несколько веков произошла отсюда же. Речь шла о свободе человека и неотъемлемых его правах.
И одновременно почти что – летом 1206 года – на курултае всех монгольских князей, объединившихся под властью Чингисхана, была оглашена так называемая Великая Яса (оцените совпадение эпитетов). Это был свод законов, напрочь отдающих любого человека в полную власть верховного хана. Это был огромный перечень запретов и наказаний за их нарушение. Подлинник того закабаления не сохранился, к сожалению, но множество отрывков и комментариев дают достаточное представление об истинно великом документе.
Так и пошло с тех пор развитие Запада и Востока, а который из путей выбрала Россия, ясно видно и сегодня. Тут-то мне как раз и пригодится факт второй, донельзя мелкий рядом с первым, но на редкость показательный. Как раз в тот год, когда в России отменили крепостное рабство, в Лондоне пустили первую линию метро.
И клуб «Атенеум», над порталом которого стоит огромная позолоченная Афина, – такое же следствие английской свободы. Его учинили в начале позапрошлого века как клуб интеллектуалов, и первым его секретарём был Фарадей (да, да, тот самый). Предназначался этот клуб для тех английских джентльменов, которые внесли заметный интеллектуальный вклад в развитие человечества. Или же (замечательное послабление, по-моему) ещё только подавали веские надежды, что внесут. Одним словом, отсекалось множество людей торгового и всякого коммерческого успеха. «Нет, и таких сейчас полно в клубе, – повестнул нам Лёня, – только они ещё известны и другими проявлениями своей богатой натуры». Из просторного фойе широким маршем уходила лестница на второй этаж («Вот тут внизу когда-то помирились Диккенс с Теккереем», – буднично сказал нам Лёня, и облако высокого блаженства окутало мою седую душу). Но мы пока ушли направо. «Это как бы утренняя комната», – пояснил нам Лёня назначение большого зала, сплошь уставленного креслами и разными диванами (а рядом – небольшие столики, естественно). Тут можно было почитать свежие газеты (их ассортимент весьма велик), выпить чая или кофе – бармен за небольшой стойкой находился тут же безотлучно и ничуть не удивился, что незнакомый иностранный гость с утра заказал виски. И тут на нас посыпались такие имена сидевших в этой комнате людей, что ясно было: кто-нибудь из них, а то и многие, возможно, сиживали в кресле, на котором я сейчас прихлёбываю виски без содовой и льда (был спрошен – отказался, я дикарь). Здесь Дарвин мог сидеть (нет, кресла больно современные), мог Жюль Ренар, Бертран Рассел, Голсуорси или Черчилль. Господи, даже Черчилль! А что, вполне широкое кресло. «Лёня, – взмолился я, – только не привирай, ведь я это непременно опишу, не выстави меня наивным мудаком, каким на самом деле я являюсь!» «Да ты что, – ответил Лёня чуть надменно, – я вот именно за этим столиком не раз сидел с Исайей Берлиным, мы были приятели». Тут я задохнулся от восхищения и вспомнил: Лёня ведь уехал так давно, что успел ещё пообщаться с самим Керенским, просто-напросто пил с ним коньяк и наверняка постеснялся спросить у ветхого старикана, как он так просрал Россию. Потом мы поднялись по лестнице наверх, где в зале возле библиотеки традиционно пьют кофе, и там на специальной стойке полистал я толстенную в кожаной обложке книгу с перечнем нобелевских лауреатов, членов клуба «Атенеум». Каждому – страница текста и большая фотография. И тут я вовсе присмирел, и снова очень выпить захотелось. Весьма солидная батарея разных бутылок аккуратно выстроилась около кофейного автомата, как некое воинское подразделение, и, плеснув себе виски, я мельком подумал о заманчивой попытке в этот клуб вступить. Из кофейного зала был выход на балкон, и я недолго покурил у пыльных ног позолоченной Афины. «Клуб, – рассеянно думал я, глядя на бродящую внизу толпу туристов, – это знак особости, причастности к некой касте, и неважно – это клуб автомобилистов (он тут рядом) или горнолыжников, к примеру. Но такой, как этот, – штука уникальная, конечно…» Да, я забыл одну деталь: сюда являться можно только в пиджаке и с галстуком. Последний раз пиджак носил я (но недолго) лет пятьдесят тому назад, сейчас я был в пиджаке и при галстуке, предусмотрительно привезенными Лёней, и ощущал себя словно Иван Сусанин на приёме у чванливых польских панов – может быть, отсюда и проистекало моё слегка плебейское восхищение. Словом, было мне там хорошо и необычно. Спасибо тебе, Лёня, старый друг, думал я расслабленно и сентиментально. С виски мне покуда стоит погодить, спохватился я, поймав себя на этих чувствах. А после мы обедали в донельзя чинном ресторане на первом этаже, и Лёня нам продемонстрировал ещё одну чисто джентльменскую подробность: в листках нашего меню не было цен на разные блюда, а у Лёни они были, потому что гости тут платить не могут, платит только пригласивший их член клуба. Меня эта деталь весьма растрогала (вино было бургундское и пилось очень хорошо).
Оттуда мы поехали в дом Пушкина слушать графоманов разной меры одарённости. Порою были и хорошие стихи. Я слушал с чрезвычайнейшим вниманием, не зная, что два дня спустя меня постигнет в этом доме удивительный конфуз. Мне сообщили, что я должен провести мастер-класс и что многие из этих поэтов ко мне записались. Чтоб я так жил, как я не знаю, что такое мастер-класс (сказала бы, наверно, моя бабушка), но уронить своё достоинство седого мэтра не отважился и удручённо покивал. Жена пошла со мной и молчаливой очевидицей была позора мужа. Когда явились мы в маленькую классную комнату, уже на стульях и столах сидело человек двадцать, собравшихся услышать матёрые суждения о поэтическом мастерстве. Ни единой мысли не было у меня по этому поводу. Умело скрыв и робость, и растерянность, я бодрым голосом спросил у этих подмастерьев, что они читали из поэтов прошлых и сегодняшних. Посыпались стандартные классические имена. «А что из этого вы знаете наизусть?» – спросил я. И три девицы, запинаясь, что-то прочитали. Остальные слушали угрюмо, недоумевая, почему я им не раскрываю никаких секретов стихотворчества, а пристаю с занудными и глупыми вопросами. И тут меня прорвало, потому что очень сделалось обидно за незнаемых этими людьми их предшественников. Я стал читать им всё, что помнил. Неописуемую смесь из Саши Чёрного и Веры Инбер (молодой и удивительной в ту пору), питерских поэтов шестидесятых годов, я даже Симонова им прочёл поэму про «крепость Петропавловск на Камчатке» – видел я по лицам и глазам, что большинства этих стихов они не знали. Моего запаса приблизительно на час хватило. А после я сказал им главное, что относилось к мастерству: поэзию российскую необходимо знать, только тогда можно найти свою дорогу. Тут я подумал о самоучках типа Кольцова и Есенина, и пафос мой немедленно угас. Поэты расходились с недовольством, явственно читавшимся на их одухотворённых лицах, но никто меня никак не попрекнул. И лишь назавтра устроитель этого прекрасного базара у меня спросил с издевкой:
– Вы вчера, Игорь Миронович, всех укоряли, говорят, за незнание стихов Тредиаковского?
– И Хемницера с Херасковым, – смиренно ответил я.
А стихи я, между прочим, им читал отменные, ей-богу, мог ведь и свои весь час им завывать – куда бы они делись, бедные?
А ещё возили нас в Кембридж, там состоялся турнир на звание короля поэтов – судила собравшаяся публика. Автобус ждал нас на набережной, так что мы немного погуляли по тому её прекрасному отрезку, где лежат египетские сфинксы. Я немного постоял возле просторного, весьма уместного сортира, где бесчисленные толпы туристов избывают восхищение великим городом. Я там остановился покурить, поскольку вспомнил, как недавно ехал я с приятелем по Украине, и тормознулись мы на симпатичном придорожном рынке, где полно было ларьков с продуктами и около десятка некрупных забегаловок, сочившихся чадным ароматом жареного мяса. Там несколько в стороне был и сортир (конечно, платный) – неказистый домик, наскоро воздвигнутый из каких-то чахлых бетонных плит и наспех кое-как оштукатуренный. Вся прелесть состояла в том, что буквально в нескольких метрах позади него росло здание частного дома, шёл уже второй этаж. Какой-то умный и смекалистый предприниматель купил небольшой участок земли (отсюда тесная близость стройки и сортира), и скорость возведения этого дома явно зависела от сортирных доходов. А народу много останавливалось тут, помимо легковых машин стояли грузовые фуры, место было донельзя удобным для привала в длительном пути. И я стоял, куря и размышляя, как легко и быстро сотни проезжающих людей насрали этот особняк его сметливому владельцу.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?




































