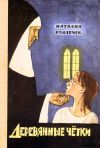Текст книги "Деревянные тротуары"

Автор книги: Игорь Куберский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
«Надо сходить в магазин, – подумал он, – купить молока и хлеба». Сегодня он ничего не будет делать. Ну его к бесу. Лучше посмотрит телевизор. Будет сидеть и смотреть и отламывать от свежего батона душистые ломти и запивать прямо из бутылки. Замечательно.
Он открыл дверь – за дверью стояла Катя.
– Извините, что задержалась, – на «вы» сказала она, неуверенно, но все же переступая порог. Судя по ее зарумянившемуся лицу, она торопилась.
– Вы что, уходите? – осведомилась ничего не значащим голосом, оглядывая, что где.
– Я на минутку, в магазин, – сказал Топилин. – Ела? Купить что-нибудь вкусное?
– Купите, – повернулась она к нему, улыбнувшись припухлыми губами. Только теперь он заметил, что у нее какой-то тревожный, раненый взгляд.
– А где Володя? – спросил он.
– Запил. Не придет.
– А… – качнул он головой. – Тогда, может, не стоило тебе… – Он счастливо лгал, зная, что за это ничего не будет.
– Как? – прямо посмотрела она на него. – Мы ведь обещали.
– Ну да… Конечно, – пробормотал он, с трудом сдерживая свое счастье. – Я сейчас. – И бросился вниз по лестнице.
Это было бегство – от нее, а больше от самого себя, а еще больше – от того, что стояло за ними. И самое блаженное в бегстве было предчувствие возвращения. Это предчувствие невозможно было бы перенести, не сбежав. «Она там!» – стучало, щемило, болело, ликовало в нем. Очень важно было, что она именно там и что она ждет. Он и покупал для нее – бестолково и сердя продавщицу. А сам только смеялся в ответ – лицо, может, и не смеялось, но внутри – внутри он смеялся от счастья. Странное такое счастье – ни от чего. Просто оттого, что она там. Так вдруг светло стало внутри. И чудилось, что он такой большой, всемогущий, а грудная клетка – это такое залитое светом пространство, когда солнце прямо в глаза, так, что смотреть невозможно и предметы расплываются, превращаясь в лучи, и потому – ни земли, ничего, только свет, только полет в этом свете, навстречу ему, – вот как было. Он и обратно бежал, отведя подальше руку, плавно неся в авоське снедь, не бежал – плавно скользил, летел, как белый конь с крыльями. Ключом открывать не стал – позвонил.
– Вот! – торжественно вытянул он навстречу Кате руку с авоськой. – Будем есть.
Она смотрела на него, как на ребенка, которого любят. Она смущенно следила, как он колдует среди свертков и кульков, гремит сковородкой, хлопает дверцей холодильника.
– Что это вы, в самом деле? Что я, вас объедать буду?
Топилин враз все бросил и осуждающе посмотрел на Катю:
– Вот так ты больше никогда не будешь говорить, идет?
– Идет, – кивнула она, завороженная этим нечаянным будущим временем, чувствуя и свой промах, и то, что без него не возникло бы сейчас мгновенно осенившей картины – «он и она».
– И еще говори мне «ты».
Она радостно кивнула.
Топилин хотел подойти и поцеловать, но почувствовал – нет права. Вчера было, а сегодня нет. Еще нет. Он и не подошел, только труднее стало – только что все было ясно и без тайны, а вот теперь и тайна, и скрывать нужно, притворяясь, что все просто и ясно.
Они сели за стол. Еда была разной – на мелких тарелочках.
– А сколько твоему сыну лет? – спросила Катя, протягивая вилку через стол, к ломтикам сыра. Голос у нее был равнодушный, как бы растворенный в деловитости движения руки с вилкой, спрятавшийся за это движение. Топилин почувствовал, что это не простой вопрос – он был выстрадан, решен в ней независимо от его ответа.
– Шесть, – сказал он как можно беспечней.
– Его зовут Петя?
– Ага.
– Как моего отца.
– Здорово! – почему-то восхитился Топилин.
– Он похож на тебя?
– Нет, – ответил, подумав, Топилин, забывая оставаться беспечным и незаметно для себя теплея глазами и голосом. – Скорее на мать.
– Может, потом будет похож на тебя? – предположила она. – Ведь дети меняются…
– Да, может быть, – опомнился он.
Разговор ему не нравился – опасный разговор. Главное – он препятствовал тому чудесному, непленному, ликующему, что переживал Топилин по дороге сюда. «Зачем она об этом?» – подумал, он. Неужели они не могут обойти эту тему? Ему лично это ничуть не мешало. Это были совсем разные, не пересекающиеся плоскости. Он даже увидел их. И вдруг почувствовал, что пересекутся где-то там, далеко, в ослепительном пространстве, все равно пересекутся – и холодком обдало. Легким таким холодком, как при взгляде из автобуса, когда проспишь свою остановку. Мгновенное падение сердца. Или это еще раньше случилось – когда со взглядом ее столкнулся. Это после какого-то его ответа она вдруг посмотрела на него совсем по-иному, как прежде не смотрела, и он словно сорвался в бездну. Во взгляде этом было даже не знание того, что будет, а скорее вопрос, но он почувствовал, что и в этом кротком ее вопросе они, Топилин и Катя, объединены, да так, что не освободиться, – что-то длительное, непрекращающееся было там. Он положил свою руку на ее (накрыл косточки кисти), как бы отвечая на этот взгляд, но на самом деле не справляясь с ним, и ее глаза не откликнулись на это прикосновение – оно было мельче вопроса.
Раздался звонок.
У Топилина вытянулось лицо. Катя закусила губу, и ее кулачки сжались. Это мог быть только Володя.
– Не открывай, – быстро шепнула она.
Это был бы лучший выход, но на кухне горел свет, и Володя, наверное, уже посмотрел со двора. Он мог и не поднять голову, но мог и поднять. Не открой теперь – он поймет бог знает что и, пьяный, разнесет дверь. А открыть…
Топилин решительно встал.
– Только прошу тебя, – вскочила за ним Катя. Она поверила его решимости. – Нет! – оттолкнула она его у двери. – Пусти, я сама. Я ему сейчас покажу.
– Катя… – мягко и укоризненно сказал он севшим от волнения голосом. С трудом сдерживая дрожь в руке, он щелкнул замком и неспешно потянул дверь на себя.
Это был Костя. В одной руке он, дурачась, держал за хвост бронзовую копченую атлантическую селедку, в другой – за головку – маленькую «столичной».
– Ты? – растерялся Топилин.
– Старик, – увидев их двоих, нимало не смущаясь, сказал он. – А я к тебе. Принимаешь? Э… да у тебя ремонт. Что ж ты не сказал. Я бы помог.
– Спасибо, мне уже помогают, – сказал Топилин.
– А… – протянул Костя, понятливо поворачивая плечо назад.
– Послушай, – сделал вид, что сердится, Топилин.
– Слушаюсь, – сказал Костя, охотно вошел и толкнул спиной дверь. – Позвольте представиться, – обратился он к Кате. – Константин. Естественно, Эдуардович. Сослуживец вот этого негостеприимного типа. Можно сказать, на правах друга. На службе – архитектор, в быту – бобыль.
– Катя, – сказала Катя. – Маляр.
– О! – восхитился Костя. – По строительной части? Значит, мы родственники. Ну что? Будем квасить или как? То есть я хотел сказать «красить». – Он покосился на маленькую, которую продолжал держать в руке. – Что касается меня лично, то я убежден, что производительность труда только повышается…
– Ладно уж, – сказал Топилин, – шагай вот сюда, производитель. Больше некуда.
Выпили, чего Топилину вовсе не хотелось, закурили, сразу заполнив дымом кухоньку. Катя только коснулась губами рюмки и отставила ее в сторону.
– И правильно! – поддержал Костя. – В твои годы я больше всего любил газировку. Может, за лимонадом сбегать? – готовно привстал он.
– Не надо, – поспешно сказал Топилин. Визит мог затянуться.
Костя с укором посмотрел на Топилина:
– А если Катя хочет?
– Не надо, – улыбнулась Катя. – Спасибо.
Топилин с удивлением посмотрел на нее. Похоже, она не жалела об этом вторжении, наоборот, – лицо ее было приветливым, а глаза выражали готовность слушать и уважать.
Говорил больше Костя, все охотнее обращаясь к Кате, а она отвечала, чуть задумываясь перед ответом, и, похоже, – увлеченная этой игрой в анкету. За пять минут такого вот разговора Топилин узнал о ней больше, чем за три дня, и ему было обидно, что не он спрашивал. И еще он с неприязнью отмечал это Костино умение «раскалывать» людей, делать своими собеседниками.
– Н-да… – мычал тот, – жизнь у тебя не сахар. А ты подавай-ка документы в наш, архитектурный, а? – Он взглянул на Топилина, и в его глазах уже ясно читался целый план вспоможествующих мероприятий. – Зачем тебе Лесотехничка? В лесу клещи, брр…
Топилину казалось, что он неудержимо откатывается на второй план, – роли поменялись, и ему досталась Володина, так что оставалось выйти и с ухмылкой взяться за кисть. Ему было необходимо перехватить взгляд Кати, коснуться ее как-нибудь незаметно, чтобы закрепить тайным знаком то, что уже было между ними и что давало им право друг на друга, но Катя словно сознательно не замечала его робких ухищрений. В повороте ее головы читалось: если ты мужчина, тебе нечего таиться. Будто она сердилась на него, будто он оскорблял ее гордость. Но не мог же он так вот встать и сказать: катись-ка ты отсюда, Костя. Похоже, они с Костей издевались над ним. В какой-то момент ему показалось, что кивни ей сейчас Костя, – и она встанет и уйдет с ним. Он вышел в ванную комнату – помыть руки после селедки – и, яростно растирая их под струей воды, твердил с горькой обидой: «Так вот она какая, теперь понятно», – твердил, сам не веря тому, что говорит, перелагая на нее какую-то свою вину, непонятную, неизвестно откуда возникшую, но вину – чувствовал, – вину.
Вернулся он такой темный и потерянный, что Костя что-то смекнул и вдруг засобирался. Его стали удерживать, но он еще больше смутился, забормотал о делах, которые «не ждут», и растерянным взглядом скользнул по лицу Топилина, ниже глаз, – было в этом взгляде ошеломление и нежелание ничего знать.
– Пока, ребята! – ненатурально гаркнул он и пропал.
– Жаль, что ушел, – неестественно сказал Топилин, останавливаясь в дверях кухни и глядя на опущенную Катину голову. Светлая челка, распавшись надвое, закрывала ее лицо, Катины пальцы подкидывали спичку. Та падала, тоненько постукивая по пластику стола.
– Хороший мужик, да? – продолжал он в ответ на Катино молчание.
Катя пожала плечами.
– Вы так говорили… – жалко улыбнулся он, не в силах вырваться из опутывающей его фальши, не владея мгновением. – Приятно было посмотреть.
Он ждал, что Катя возразит, скажет что-нибудь утешительное, но она только подкидывала спичку.
– Катя! –Топилин сделал шаг к ней и положил руки на плечи. Плечи были неожиданно теплыми и мягкими – родными по сравнению с ее осуждающим молчанием. – Ну нельзя же из-за того, что кто-то пришел, все губить.
– Разве он кто-то? – раздался ее голос.
Топилин осекся.
– И что ты имеешь в виду, когда говоришь «все»?
– Ты же знаешь, Катя! – с отчаянием сказал он.
Его руки не в силах были оторваться от тепла плеч – и надежда его была только в том, что Катя не делала попытки высвободиться. Она неожиданно подняла голову. На глазах ее были слезы. Это поразило Топилина. Он потянул ее к себе, приподнимая:
– Катя, что с тобой?
И чувствуя, что своими слезами она не только прощает его, а и уступает, смиряется, не протестует больше.
– Катя! – еще раз выдохнул он, уже не помня себя, не отмечая отдельно, где он, а где она, прижимая все сильнее, целуя и челку, и мокрые глаза, и щеки, и руки с шершавыми ладонями, вжимаясь в ее тепло, податливость и идя с ней куда-то, из кухни, из прихожей, в комнату. Она остановилась на полпути, стремительно взглянула на него тем своим затапливающим взглядом, и руки ее сами неожиданно сильно, властно обняли его.
– Родной мой, любимый, родной мой, любимый…
Она шла сама, сопротивляясь каждым своим шагом, и все же шла, и какие-то ее слова звучали страшным, клятвенным шепотом, как заклинания, – он их не понимал, – безумные слова, сопротивляющиеся ему и жаждущие покориться. Когда они остались нагими, она вдруг замолчала, и по телу ее, как по реке под ветром, прошла крупная дрожь, а когда легли, упали, переплелись, она снова говорила что-то безумное, – и вся она беззащитно пахла горьковатым лыком мочалки и земляничным мылом.
Сколько это длилось, он не знал, не помнил, но страсть его долго не могла истощиться. А потом наступил покой.
– У нас там, знаешь, как хорошо, – тихо, почти шепотом говорила Катя – головой на его плече, и отяжеленная ею рука его, еще не оправившаяся от внутреннего трепета, тихо, благодарно гладила ее тело.– Деревянные тротуары… И озеро… Большое такое… Лача.
– На озере Лача сижу и плачу… – бормотнул он ни с того ни с сего где-то слышанное.
– И церкви старинные… И леса. А в лесах грибы, ягоды. Ты любишь собирать грибы?
– Люблю.
– Ты приедешь, да? Я тебе дам резиновые сапоги. Такие тяжелые. И мы пойдем в лес… А добираться очень просто, на самолете. Туда самолет летает. Прямо из Каргополя. Знаешь, такой кукурузник, крылья сверху и снизу.
– Как стрекоза?
– Ну да.
– А здесь ты не хочешь жить?
– Нет. Мне не нравится… Я уже два года здесь и не могу привыкнуть.
– Почему?
– Так… Людей много. Толкаются. И никто друг друга не знает. Смешно.
– А откуда Володя взялся?
– Лодька? Так… случайно. Когда экзамены провалила.
– А почему ты выбрала Лесотехническую?
– У меня отец лесничий. Вообще-то он с нами не живет. Он с мамой развелся, когда мне еще было тринадцать. Наверно, поэтому. Хотела, как он.
– Ты его любишь?
– Люблю. Как же можно отца не любить! И сестренка любит. Ей сейчас столько, сколько мне тогда было.
– А почему он ушел?
– Не знаю. Он нам не говорил. Он молчаливый. А мама наоборот. Все его ругала. А он молчал. А потом взял и ушел. Мама топиться бегала. Но он не вернулся. Она запрещала нам с ним встречаться. Ужас какой-то. Я ей этого никогда не прощу.
– А его ты простила?
– Папу? Я даже не думала, прощать или нет. Раньше я не понимала, плакала поэтому. А сейчас понимаю.
– Что понимаешь?
– Ну… Если человек решил уйти, значит, он больше не может.
– Но есть же долг.
– Если не любишь, то долга нет. Ведь вместе живут, если это лучше.
– А ты, – сказал Топилин, – зачем ты живешь с Володей? Ты же его не любишь.
Она ответила не сразу. Словно только что поняла, что Топилин прав, и огорчилась этому.
– Не люблю. Но любила, наверно. Я была совсем одна, не знала, что делать. Я так не хотела возвращаться к маме. Думала, в институт поступлю. Потом сестренку привезу. А он подошел. В столовой. Он был не такой, как сейчас. Потом у него аллергия началась – на краски на эти. Они же ядовитые. Он меня и на работу устроил и в общежитие. На Адмиралтейский. Мы корабли красили. Когда их уже на воду спустят. Сначала даже интересно было. Знаешь, какие там каюты?! А потом у меня голова начала болеть. За смену надышишься этих красок – ничего не соображаешь. Молоко бесплатно давали, но толку-то…И я кашлять начала. Говорят, легкие слабые. А потом я к нему домой переселилась. Вроде как невеста. Только у него мать ужасная. Во все лезет, всем командует. Володька мужик уже, а как щенок – во всем ее слушает. Она все ему твердит, что я ему не пара. Говорит, что я на жилплощадь позарилась. Нужна мне их жилплощадь! Потому мы и не расписались до сих пор – она против, думает, я разведусь и жилплощадь отсужу. Что за радость такая – только зло вокруг видеть! Володька не такой, он добрый. Я уже за это время раза три сбегала в общежитие, а он придет следом – сидит, сидит, сидит. Он меня любит. Вот я и возвращаюсь, как дурочка. Только я все равно решила его бросить. В сентябре возьму отпуск, уеду – и все.
Топилин тихонько, концами пальцев, продолжал гладить ее тело, рука была недвижна, приняв на себя ее легкую тяжесть, так что ему был доступен только маленький островок на бедре, которому он передавал свою нежность. Он продолжал гладить – как бы перекрывая своим чувством все, что слышал, не опускаясь до реальности, только теперь ему было нестерпимо грустно. Жизнь, едва подарив их друг другу, уже начинала разъединять, и только что проросшие корни, обнажаясь, как белые нити, рвались один за другим. С чувством начинающейся потери он прижал Катю к себе, повернул и, приподнявшись, стал целовать. Несколько мгновений она оставалась недвижной, еще во власти того, что ему не принадлежало, не могло принадлежать, и он становился все настойчивее, ополчаясь против судьбы, в которой так ясно читалось, что было и что будет. Они словно уже начали прощаться и ласкали друг друга с одной и той же скрываемой мыслью – и нестерпимости этого прощания могла равняться только страсть. Но если его лицо было от нее темным, почти мрачным, судорожным, то Катино – светлым, одаряющим. Будто он разрушал, а она создавала.
– Ах ты, мой неугомонный… – звучали ее задыхающиеся слова.
Домой он повез ее на такси. Отпускал легко, тем более – она сама захотела уехать. Он и не спрашивал, почему. Может, втайне был даже благодарен за это. Она словно решила раз и навсегда уберечь его от проблем. Мудрая, милая девочка!.. Как это она говорила – «неугомонный». И еще – «ласточка моя». Он – ласточка. Топилин улыбался в темноте. Такси перемчало их с одного края города на другой. В темной теплой полуночи повсюду еще светились окна – за каждым что-то делали люди. Сколько людей – и никто не знает друг про друга. И про него с Катей никто не знает. А что было бы, если б узнали? Может, так лучше, чтобы никто ни про кого ничего не знал. Кажется, он понимал, почему она не осталась. Чтобы было завтра.
Хлопнула дверца, и ее белая юбка, махнув, растворилась в темноте. Она попросила не провожать. Из-за Володи. Окна его блочного пятиэтажного дома смотрели прямо на них.
– Старик, ты спятил! – Похоже, Костя волновался, и его вспотевшая зажигалка, как он ни щелкал, не давала пламени.
– Послушай… – попробовал перебить его Топилин. По пути на работу он думал, как себя вести. Можно было отсечь разом – и не подпускать. Но что-то в этом было не так. Небезопасно как-то. И он решился на другое – на задушевность. Хотя, в общем-то, какое его, Кости, собачье дело. – Послушай…
– И слушать нечего. Тебе что, не найти…? (Он употребил непечатное слово, будто иного Топилин и не заслуживал.) Ты бы мне сказал. Я б в тот же вечер пришел бы с двумя метелками. (И это Топилин должен был слушать!) Ты что, не понял? Она ведь девочка. Ты сказал, что у тебя жена, дети?
«Она не девочка», – хотел возразить Топилин, но вовремя спохватился. Негоже было оправдываться.
– Она все знает, – сказал он. – Что еще?
– А то, что ты должен бежать, пока не поздно. Ноги в руки. Смотри, она принесет тебе в подоле ляльку. Вернее, твоей жене. Ой, поплачешь, Топка. Кровавыми слезами. А жена – тебе на работу. А на работе – моральный облик и прочие мелкие и крупные неприятности.
Костя был прав. Однако во всей его правоте было что-то стыдное, унизительное.
– Послушай, – прервал его Топилин, – послушай, милый Костька… – Топилин посмотрел на его крупное озабоченное лицо, лицо еще не старого сенбернара и улыбнулся грустной улыбкой. – Все, что ты тут городишь, я уже сам себе тыщу раз повторил. Только…
– Что только? – по неугасшей инерции рванулся вперед Костя.
– Только я хотел бы, чтобы кто-нибудь хотя бы однажды, пусть раз в жизни честно сказал бы мне, кто я такой есть? Человек или так просто, «тварь дрожащая».
– Друг мой, – сказал Костя, – это маразм. Не трогай великие тени.
– Я сегодня утром, – не слушая его, продолжал Топилин, – размышлял, что такое маленькие люди. И я понял. Маленькие люди – это те, у кого маленькие мысли. Так вот, я плевал на это. С десятого этажа. С сотого. С «Эмпайр стейт билдинг», понял?
– Топка, это чистый маразм. В лучшем случае – теория. А жизнь…
– Дурак. Ладно, я тебе скажу, хотя ты этого не заслуживаешь. Я люблю ее.
Сегодня он сделал несколько ошибок. И главную – что рассказал Косте. Не надо было. Тем более, что про любовь – это он поспешил. Он и сам-то еще не знал. Так – ляпнул, чтоб оправдаться. Этим словом всегда можно оправдаться. Кажется, единственное слово, которому верят. Катя – она жила в нем нежностью, воспоминанием и надеждой на новую встречу. Поди разбери – любовь это или что-то другое. Просто он ждал ее, и чем ближе становилось время ее прихода, тем неистовей. Какой она придет? Что было там, дома? А вдруг она придет с Володей? Нет, это невозможно. А вдруг он увяжжется – Отелло… Парень простой, немудрящий. Тяпнет мастерком – и привет.
«Надо бы вооружиться», – не совсем в шутку подумал Топилин. Поэтому и дома не стал ждать. Вышел во двор – благо, двор большой, кусты, деревья – и встал так, чтобы держать в поле зрения подход. Если они вдвоем – ну их к бесу. Не будет он связываться. Постоят, позвонят – и уйдут. И стыдно стало – «маленькие мысли». Ох, сколько маленьких мыслей. Что ни шаг. Вот так он и живет, будто все время голову в плечи вжимает, будто защищается от чьего-то замаха. А ведь никто и не замахивается – это он сам себе внушил. Вышел из-за кустов, пошел к подъезду, посвистывая.
Уже стемнело, только зубчатые кирпичные обводы газонов, самочинно покрытые известкой одним из пенсионеров-скамеечников, еще белели в сумерках, да несмотря на темень, неподалеку щелкали по столу костяшки домино. Катя возникла ему навстречу из этой сгущающейся тьмы. В брюках, рубашке, поверх которой была по моде надета шерстяная полосатая майка, она была очень юной, светлая челка ее распадалась при каждом шаге. Радость и угрызения совести кольнули Топилина одновременно.
«Ах, грешен, – подумал он, поспешая к ней, – грешен, прости».
– А Володя? – спросил он для порядка, хотя ведь знал – не подведет она.
– Запил, я же говорила. Теперь неделю будет пить.
– Он ничего? – не удержался Топилин.
– А если б и чего? – испытующе посмотрела она на него.
Он взял ее за руку и повел к себе. Их могли увидеть. Ну и пусть.
Они провозились с ремонтом до одиннадцати вечера. Топилин хотел было плюнуть на доделки и, прижав Катю к себе, закрыл глаза, но она мягко высвободилась. Она что-то сказала: «подожди», «постой» или, может, «потом», или даже ничего не сказала, а просто ладонь, прежде чем высвободиться, задержала на нем, так что это прозвучало как обещание, и, хотя и так все подразумевалось, то, что она сама понимала это, более того – дарила ему, как-то разом развернуло их отношения: из случайного, непредвидимого, колеблющегося, эфемерного – в ожидаемое, надежное, верное, в «семейное» – понял он. И представилось, он и она – муж и жена. Они вместе. Они ремонтируют свою квартиру, свой дом. Они друзья. Им просто и хорошо. Им спокойно друг с другом. Спокойно и надежно. И легко молчать. И легко говорить. Так, в этой тихой скрытой грезе и прошли часы. И наступило время сна. Он уже лежал, а она была в ванной, и он слышал, как плещет вода. Он ждал ее и знал, что ничего не произойдет, что помешало бы им. Он ждал ее как муж. Но как счастливый муж. Есть же такие счастливые семьи – слышал, читал. Может, и они были бы счастливой семьей?
Сегодня уже не было страха и сковывающего волнения – они открылись, доверились друг другу, будто знали друг друга всегда.
О чем они только не говорили в эту ночь. А утром простились, чтобы больше никогда не встречаться.
Поезд приходил в восемнадцать ноль-ноль, так что Топилин едва успел, купив по пути у цветочницы букет перестоявших в ведре маков. Он стоял на платформе, глядя то на медленно, неслышно надвигающийся состав, то – с сомнением – на пониклые оранжевые лепестки. Номера вагона в телеграмме почему-то не оказалось, и это покалывало Топилина предчувствием неизбежного конфликта: у них, конечно, претяжелый чемодан и сумки – варенья, соленья, а он даже не знает, куда бежать. Успокаивал себя, что жена возьмет носильщика, а здесь, в начале платформы, он их перехватит. Ну, не виноват же он, в самом деле! Но неспокойно было.
Состав остановился, хлынула и потекла навстречу толпа, и он напряг все внимание, чтобы не пропустить. Их все не было, толпа поредела, так что уже без риска прозевать можно было пойти навстречу. Жену и Петьку он увидел почти сразу – какой-то мужик помогал им вынести вещи, жена кивала ему, видно, благодаря и отказываясь от помощи, и оглядывалась издали в сторону Топилина, не узнавая его. Он побежал. Он уже был в десяти метрах, когда она, наконец, заметила и, еще раз – демонстративно – поблагодарив мужика, тут же убрала улыбку и тяжко посмотрела на Топилина.
– Папа! – закричал Петька и бросился к нему. Мужик тоже оглянулся, понял – лицо его приняло удовлетворенное выражение, и самоустранился с сознанием исполненного долга.
Петька повис на Топилине, и так, вместе с ним, тот и подошел к жене. Петькин порыв был как нельзя более кстати.
– Здравствуй! Почему ты вагон не указала? – спросил он, потянувшись, чтобы поцеловать жену в щеку. Она отклонилась – чтобы он не достал – с тяжелой, несошедшей укоризной в глазах.
– Так-то ты нас ждешь…
– Клянусь, Люда, – сказал Топилин. – Вот, смотри! – И, опустив Петьку, полез за телеграммой.
– Ладно, – сказала жена. – Верю. Хотя, по-моему, ты просто опоздал.
– Да клянусь! – взмолился он, протягивая доказательство.
Жена, наконец, словно с сожалением убедившись в его правоте, кивнула на чемодан:
– Пошли.
Он подхватил, и они пошли. Пронесло. Топилин был почти счастлив. Умела она его поставить на место. Казалось, ему отпущены все грехи. Он шел очищенный, удовлетворенный, в считанные мгновения пристегнутый к упряжке. Супруг. И тянул ровно, с мерным привычным усилием налегая грудью.
Вид чистенькой квартиры внес окончательный мир.
– Папа, как это ты сам отремонтировал? – спросил Петька. – Ты разве ремонтник?
– Я не один, – сел Топилин на корточки перед сыном, чтобы жена не увидела его лица. Плохо как-то слушалось лицо, когда он вошел в эту, зияющую пустоту.
– А с кем? – ревниво спросила жена, словно почуяла что-то.
– Так… с парнем одним.
– Дорого взял?
– Нет, – сказал Топилин, по-прежнему сидя перед сыном, как бы занимаясь им, и назвал сумму.
– Дорого, – сказала жена. – Если вы вместе.
После ужина он мыл Петьку – с того семь грязей сошло. Накинул большое махровое полотенце, подхватил и на руках отнес в постель. Поцеловал, наказал не высовываться, «а то простудишься», и стал стелить себе, откинув спинку диван-кровати.
– Ты будешь мыться? – крикнул на кухню.
– А как же! – отозвалась жена.
– Тогда подожди, я зубы почищу.
Потом лег, потушил свет. Петька не спал – тихо возился за книжным шкафом, устраиваясь поудобнее, – в мать пошел. Та долго ищет удобную позу, прежде чем заснуть. Нервные все стали. Сам-то он засыпает сразу – как проваливается. Хотя тоже не флегма. А, может, флегма? Видение Кати качнулось перед ним. Катя… Сжало сердце, и глаза защипало. Свет из прихожей падал на новые обои, приклеенные вместе с ней. Катя… Боже мой! Из ванной, как вчера, доносился плеск воды.
«Надо уснуть, – подумал он, – уснуть». Но и засыпая, сторожко слышал, как пришла жена, удивилась его отключенной неподвижности, что-то спросила. Он ответил, с трудом, как из полного забвения, она молча оскорбилась, легла, не притрагиваясь к нему, а он уже спал, спал изо всех сил, боясь ее прикосновения, как ожога, – спал с открытыми в темноте глазами и чувствовал себя ничтожеством.
– Ну что? – спросил Костя. – Финита ля комедия?
– Отстань, прошу тебя, отстань, – сказал Топилин.
– Я ж говорил. Ну, ничего, ничего. Я ничего. Зато теперь у тебя есть, о чем вспомнить. Так, значит, расстались, да?
– Ну, расстались.
– Эх, Топка, Топка. А кто – ты или она?
– Она. А вообще-то я. То есть из-за меня.
– Ну да, я понимаю, понимаю.
Топилину захотелось говорить:
– Она умница. Сказала, что не хочет лишать Петьку отца.
Он глубоко затянулся. Глаза пощипывало – то ли от дыма, то ли от мыслей о Кате.
– Тебе еще повезло.
– Как утопленнику.
– Нет, определенно повезло. Все равно в твоей ситуации только такой и может быть финал.
– Какая у меня ситуация?
– Самая конкретная. Когда есть семья, все остальное – это путь по окружности. Он приводит только в исходную точку.
– Бездарно. Все бездарно.
– Брось. Ты просто выбрал не те ориентиры. Как сказал уважаемый философ, человек – это бесплодная страсть. Живи, работай, Петьку воспитывай. У тебя все хорошо.
– Живи, – усмехнулся Топилин. – А ты живешь?
– Я? Вполне. Ну, у меня совсем другое дело.
– А по-моему, то же самое. – Топилин бросил сигарету в урну.– По-моему, Костька, ты однажды сильно сплоховал. И с тех пор тоже по кругу, по кругу. И простить себя не можешь.
Костя вдруг замер, и лицо его стало растерянным.
– Это ты зря, – сказал он, – не надо. – В голосе его послышалась отдаленная угроза.
– Видишь… – сказал Топилин. И пошел.
Легко сказать – живи. Жить было нечем. Почему-то особенно тяжек был путь на работу и с работы – среди людей. Ощущение своей непринадлежности никому и ничему. Как бы никто его не замечал – будто сквозь смотрели. Пустота прозрачна. Самое удивительное, что жена ничего не почувствовала. Стало быть, так было всегда. Только сам он теперь иначе к этому относился.
По вечерам, чтобы не оставаться дома, он брал Петьку, и они где-нибудь бродили. Он сделал ему лук – и они стреляли на пустыре. Смастерил коробчатого змея, но ветра для этой громоздкой конструкции было недостаточно, и змей, нехотя поднявшись, тут же припадал к земле.
«Вот так и я», – горько усмехался Топилин. Петька много говорил, большой рассказчик – не в папу. Топилин слушал вполуха – только чтобы не ответить вместо «да» «нет». Однажды случился замечательный закат – нагнало облаков, они многоэтажно стояли в вечернем небе, сияя вершинами. Петька все зверей узнавал: «Смотри, папа, как кролик на задних лапках», – а Топилин видел горы, замки, что-то вроде сказочной земли святого Грааля, – и вдруг ясно осознал, что он глубоко и бесповоротно несчастен.
На следующий день, когда он вычерчивал на работе квартал вдоль извилистого поворота живописной речки Дудергофки, видя и эту речку, и ее поросшие кустами берега, и дом, и этаж, и окно, откуда он и Катя смотрят, обнявшись, на этот узкий – в четыре шага, – но упорный, несдающийся ручеек, в дверь постучали, и кто-то вошел. Странно было, что стучат, но Топилин не повернул головы, почему-то решив не смотреть, и тут раздался голос Кости, удививший его своим звучанием, прежде чем он понял смысл сказанного:
– Юрий Павлович, к вам пришли.
Он обернулся. Остановившись в дверях, на него смотрела Катя.
В длинном коридоре никого не было. Только одна из сотрудниц вышла следом за ними и, изумленно глянув на них, застучала каблуками в противоположную сторону. Ему было трудно говорить.
– Катя… – только и повторял он. – Катя…
Она смотрела на него и улыбалась. Теперь лицо ее было совершенно спокойным, совсем не таким, как там, минуту назад, в дверях.
– Я пришла, – сказала она.
…Соображать он начал только потом, оставшись один. Что он говорил ей, – это еще не считалось. Это был порыв. Счастье гораздо на порывы. Он должен быть хладнокровен, решить как задачу, при этом ничего не утаив от самого себя. Только тогда ответ будет окончательным. Даже любовь нельзя вводить главным условием – любовь может пройти. А долг остается. Значит, есть что-то еще. Свобода. Отчего? Что делает человека человеком? Свобода выбора. Вот альтернатива рабскому существованию. Я выбираю – значит, совершаю поступок. Поступив так, а не иначе, я определяю все дальнейшие обстоятельства своей жизни. На человеческую жизнь приходится всегда несколько таких поступков. И если то, что выбрал когда-то, стало теперь своей противоположностью, значит, надо снова выбирать. Так, словно в лихорадке, возбужденно размышлял Топилин, опять чувствуя, что он не в прошлом и не в будущем, а – в настоящем, творимом его руками, как тот квартал белых пенопластовых кубиков-зданий, которые он волен был расположить согласно своему внутреннему представлению об истине и красоте.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?