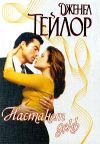Текст книги "Настанет день"

Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Книга вторая
ИОСИФ
1
Повозок было три. В первой сидела Мара, пятнадцатилетняя Иалта, тринадцатилетний Даниил и один из рабов, во второй – четырнадцатилетний Маттафий с двумя рабами и большою частью багажа, в третьей – остальной багаж и отпущенница Мары Ярматия. Иосиф ехал верхом подле Мариной повозки, а замыкал поезд конюх Иосифа. Время от времени Маттафий брал лошадь конюха, уступая ему свое место в повозке.
Был славный осенний день, очень свежий, с моря тянул ветерок, несколько облаков ослепительно белели на яркой, светлой синеве неба. Иосиф был весел и оживлен. Тогда, девять лет назад, купив поместье Беэр Симлай, он обещал Маре вернуться в Иудею, как только завершит свой труд. Теперь как будто срок пришел, «Всеобщая история» завершена. Но хорошо, что он нашел «компромиссное решение» и сможет остаться в Риме на зиму. Мара, Иалта и Даниил пусть едут вперед, а он с Маттафием присоединится к ним весною. Радостно ждет он этой зимы – зимы наедине с сыном, с Маттафием.
Он любит Мару, искренне любит ее, но они вместе уже двадцать пять лет (не считая коротких перерывов), и за эти годы нрав у нее сделался тяжелее, хотя он без возражений признает, что и сам не раз взваливал ей на плечи невыносимую тяжесть. Очень долгий понадобился срок, чтобы рассеялось слепое поклонение, привязывавшее ее к мужу, и в прежние времена Иосиф часто желал, чтобы она научилась судить самостоятельнее – обо всем, и о нем тоже. Но теперь, когда его желание сбылось, когда она с материнскою снисходительностью принимает и терпит его слабости, не скрывая, однако, что знает их все наперечет, – теперь он порою предпочел бы, чтобы все было, как раньше. Ибо порой ее осуждение, каким бы осторожным оно ни было, больно его задевает. Настойчивость этого осуждения – вот что ему неприятно; в глубине души он убежден, что она права, хотя его изощренная диалектика без труда опровергает ее правоту.
И прежде всего она была права, когда все эти последние годы мягко, но неотступно настаивала на том, что в конце концов надо расстаться с Римом. С тех пор как император распорядился убрать его бюст из храма Мира, друзья снова и снова заклинали его бежать из этого страшного Рима, прочь с глаз императора, Мессалина, Норбана. Иоанн Гисхальский приводил ему сотни разумных доводов, перед которыми аргументы Иосифа уже не могли устоять, – не то что перед словами Мары, а когда затем последовали новые репрессии, даже Юст ему заявил, что оставаться теперь – это скорее позерство, чем мужество. Один раз Иосиф и правда съездил в Иудею; он внимательно осмотрел свое новое поместье Беэр Симлай, убедился, что под безупречным надзором его старого Феодора бар Феодора дело подвигается, во всяком случае, не хуже, чем оно могло бы подвигаться под присмотром самого хозяина, и с этим убеждением вернулся в Рим.
Теперь он доволен тем, как все сложилось, доволен, что эти тяжелые годы он прожил в Риме, в стороне от событий и вместе с тем в самой их гуще. Теперь его труд завершен, и предлог, которым он оправдывал перед самим собою и перед Марой свое пребывание в Риме, предлог, что вдали от Иудеи работа удастся лучше, отпал, приспел срок выполнить обещание. Но он просто не решался сразу же сесть на корабль, чтобы похоронить себя в Иудее. И вот найдено «компромиссное решение», новый предлог, чтобы остаться в Риме хотя бы еще ненадолго. Если он хочет, чтобы «Всеобщая история» оказала свое действие, лицемерно убеждая он себя и Мару, его присутствие при выходе книги в свет важно, почти необходимо: это его долг хотя бы перед Клавдием Регином, который положил столько любви, терпения и денег на то, чтобы он смог выполнить свою работу. Шаткий довод. Мара усмехнулась разочарованно и чуть-чуть горько, и Иосиф пережил несколько неприятных минут, когда предлагал, чтобы она ехала вперед, а они с Маттафием приедут позже, весною. Но теперь эти неприятные минуты позади. Уже шестой день они в дороге, завтра, самое позднее послезавтра будут в Брундизии[83]83
Брундизий – порт в Южной Италии, на Адриатическом море. Путешествие из Италии в Иудею начиналось обычно отсюда.
[Закрыть], корабль выйдет в море и повезет Мару с детьми в Иудею, а потом настанет зима, и вплоть до весны ему не придется думать о переезде в Беэр Симлай.
Ветер румянит щеки Иосифа и разглаживает морщины на лбу. Сегодня никто бы не поверил, что ему далеко за пятьдесят. Он не выдерживает медлительной поступи упряжных коней и скачет вперед.
Звонко бьют копыта о мощенную плитняком дорогу. Да; в этом ему не откажешь, императору Домициану, – никто из его предшественников не содержал в таком порядке Аппиеву дорогу. Бесконечной вереницей тянутся в обе стороны повозки, носилки и всадники. Одних он обгоняет, другие движутся ему навстречу. Он протискивается между повозкой и носилками, и какой-то возница кричит:
– Эй, ты, потише! Или, может, за тобой полиция гонится?
И Иосиф весело откликается:
– Нет, просто я тороплюсь к своей девчонке!
И все смеются.
Он останавливает коня на пригорке, повозки далеко позади, он ждет. Появляется его мальчик, Маттафий, он снова не мог усидеть в повозке, он мчится галопом, весело погоняя смирного и невидного конька. Иосиф радуется, глядя на своего мальчика. Вот он уже совсем близко – крупный, высокий, в свои четырнадцать лет он почти догнал самого Иосифа. У его Маттафия такое же худое, костистое лицо, длинный, с легкой горбинкою нос, густые, иссиня-черные волосы. Щеки разрумянились, короткие волосы перебирает ветер, в горячих глазах светится наслаждение стремительной скачкой. Как он похож на него и как не похож в одно и то же время! В нем нет и следа той необузданности чувств, которая приносила Иосифу столько радостей и столько мук; зато он многое унаследовал от благодушной, приветливой натуры матери, от ее детскости, которую она сохраняет и по сей день. И приветливая открытость у него тоже от матери – он легко сходится с людьми, без малейшей, однако, назойливости. Нет, красивым его не назовешь, думает Иосиф, пока Маттафий скачет к нему, обдуваемый ветром, без шапки; по правде сказать, ни одну черту его лица не назовешь красивой, и все же как он обаятелен, как ясно отражается во всем его облике открытая, мальчишеская откровенность чувств, как в каждом движении сквозит безыскусственное и полное жизни изящество! Он уже юноша и тем не менее еще совсем ребенок, ничего удивительного, что дружелюбные взгляды тянутся к нему отовсюду. Иосиф завидует детской натуре сына и любит ее в нем. Сам он не знал детства, в десять лет он был рассудительным и взрослым.
Маттафий останавливается рядом с отцом на пригорке.
– Знаешь, – говорит он, и его голос звучит неожиданно низко и по-мужски на этих пунцовых губах, – просто невыносимо, повозка ползет, как черепаха. Вот будет замечательно, когда мы поедем назад, ты и я, вдвоем!
– Хотелось бы мне знать, – отвечает Иосиф, – что ты скажешь, когда увидишь корабль: наверно, пожалеешь, что не плывешь вместе с матерью.
– Нет, что ты! – пылко протестует мальчик. – Мне не хочется проходить обучение в Иудее – ни военное, ни гражданское.
Видя оживленное лицо сына, Иосиф радовался, что решил оставить его в Риме. Молодость, ожидание, тысячи надежд светились в горячих глазах мальчика.
– Не говоря уже, разумеется, о придворном? – добавил Иосиф.
Необдуманные слова; он увидел это по силе впечатления, которое они произвели на мальчика. Обучение в армии, при гражданских властях или при дворе, – этот путь должен был пройти каждый мальчик из аристократической семьи. Однако обучение при дворе было доступно далеко не каждому, оно расценивалось как знак высокого отличия, и требовались крепкие связи на Палатине, чтобы прошение о приеме не встретило отказа.
– А это в самом деле возможно, ты не шутишь? – в свою очередь спросил Маттафий, и все лицо его про сияло жадным блеском. – И ты мне позволишь? Ты сделаешь так, что меня примут?
– Не увлекайся, – поспешил Иосиф взять обратно свое необдуманное слово. – Я еще не решил окончательно и пока ничего не могу тебе сказать. Будь доволен, мой мальчик, что остаешься еще на одну зиму в Риме, Или, может, ты недоволен? Тебе этого мало?
– Конечно, нет! – торопливо и чистосердечно возразил Маттафий. «Но только, – подумал он, и глаза его широко раскрылись при этой радостной мысли, – какое ото было бы торжество и что сказала бы Цецилия, если бы меня взяли ко двору!»
Иосифу недолго пришлось допытываться у сына, при чем тут эта Цецилия. Она была сестрой одного из школьных товарищей его Маттафия и однажды, в пылу спора, предсказала ему, что он окончит свои дни мелочным торговцем на правом берегу Тибра – там, где ютится еврейская беднота. Это был первый случай, когда его еврейство причинило Маттафию боль. Иосиф отдал мальчика в школу, где других евреев не было, и случалось, что товарищи потешались над ним и его еврейством. Сам Иосиф мальчишкой вряд ли смог бы проглотить и забыть такие обиды. Он бы раздумывал над ними месяцы, годы, он бы возненавидел тех, кто над ним издевался. Маттафия глумление школьников скорее, видимо, изумляло, чем ранило, он не принимал его близко к сердцу, он дрался с ними и с ними веселился, а в общем, недурно ладил с товарищами. Только фраза, сказанная этой маленькой Цецилией, засела у него в памяти. Но, по сути дела, Иосиф очень доволен. По сути дела, он доволен, что его мальчик честолюбив.
Повозка поравнялась с всадниками. Некоторое время Иосиф едет рядом с Марой. Он полон нежности к жене, он любит и остальных своих детей – Иалту и Даниила. Как же это вышло, что он ощущает теперь такую глубокую привязанность к сыну Маттафию, более сильную, чем ко всем остальным? Еще год назад он почти не вмешивался в воспитание подростка. Теперь он сам не понимает, как это было возможно. Теперь в нем шевелится ревность, когда он вспоминает, что так надолго отдал мальчика матери, сердце переполняется при мысли, что эту зиму он проведет с ним наедине. Как это выходит, что один из детей вдруг становится тебе настолько дороже остальных? В былые дни господь благословил его Симоном, Мариным первенцем, но он упустил это благословение, безрассудно расточил милость господню. Тогда господь покарал его и проклял Павлом. Ныне он снова благословляет его – Маттафием, и на этот раз он не расточит господней милости. Этот мальчик, Маттафий, станет его свершением, его Цезарионом, безупречным сочетанием эллинства и еврейства. Ему не повезло с Павлом, но на этот раз ему повезет.
Они прибыли в Брундизий через два дня. Корабль «Феликс» был готов к отплытию – завтра рано утром он выйдет в море. Еще раз, в двадцатый раз, Иосиф говорит с Марою обо всем, что надо помнить и решить. Рекомендательные письма к губернатору в Цезарее он ей уже передал, свиток с ценными наставлениями Иоанна Гисхальского, над которыми ей предстоит еще раз поразмыслить вместе с управителем Феодором, – тоже. Главное – чтобы она помогла Феодору сделать из Даниила хорошего хозяина. Даниил был спокойным мальчиком, не слишком глупым и не слишком умным, он с нетерпением ждал переезда в Иудею, в поместье Беэр Симлай; когда Иосиф сам приедет в Беэр Симлай весною, он найдет там хорошего помощника. Но ни единого слова не было сказано в этот последний день о том, что касалось лишь их двоих, что привязывало Иосифа к Маре. Они так много пережили вместе – и хорошего и дурного; Мара не владела тем глубоким знанием людей, которым был одарен Иосиф, и не могла следовать его философии, но она знала его лучше, чем кто-либо другой в целом свете, и он это понимал, понимал, что она любит его женской и материнской любовью, которая видит все его слабости, исподволь с ним борется и мирится с ними.
Мальчик Маттафий сразу же облазил весь корабль. Славное судно, надежное и вместительное, но, по его мнению, слишком тихоходное. Он горячо объясняет это отцу и брату Даниилу; он очень надеется, что, когда весною они с отцом тоже отправятся в путь, у них будет корабль побыстрее, чем этот «Феликс». Мчаться вперед под ветром на всех парусах на стройном, узком, невероятно быстром судне – он думает об этом с восторгом, его глаза сияют.
На другой день «Феликс» уходил. Иосиф и Маттафий стояли на набережной, а Мара с детьми стояла у борта. По-прежнему дул приятный бодрящий ветерок, но-прежнему в небе хлопотливо бежали маленькие белые облака. Вокруг, на судне и на набережной, было шумно и оживленно. Потом бортовые перила стали медленно поворачиваться, удаляясь от берега, и с ними – лица Мары и детей. Иосиф стоял на набережной, он смотрел, пристально всматривался в эти три лица у борта, его взгляд впитывал их черты, и он думал, обо всем хорошем, что пережил за многие годы своего союза с Марой. С корабля донесся ее голос.
– Приезжай весною с первым же судном! – кричит она по-арамейски, и слова ее уносит ветер, они тонут в гомоне толпы.
Но вот корабль уже далеко от набережной и, вопреки неблагоприятному суждению о нем Маттафия, быстро уходит с попутным ветром.
Иосиф смотрел ему вслед до тех пор, пока лица у борта не слились и глаз уже не улавливал ничего, кроме скользящего по воде контура, и все его мысли в это время были с Марою и полны нежности к ней. Но затем, едва только он отвернулся, как вместе с очертаниями судна словно бы исчезла и она сама; в мыслях у Иосифа была лишь радостная зима в Риме, которая ждала его, – зима вдвоем, с сыном Маттафием.
Весел и приятен был их обратный путь. Иосиф и его сын ехали быстро, конюх на дрянной наемной кляче остался далеко позади. Иосифу было легко и покойно, он не ощущал своих лет. Он болтал с мальчиком, и быстро, светло прилетали и улетали думы.
Как он любит его, этого Маттафия, теперь и в самом деле своего старшего! Да, ведь Симон мертв, а Павел еще более недосягаем, чем мертвый. Иосифа пробирает дрожь при мысли, что Мара едет в ту землю, где живет Павел, теперь враг, злейший враг – злее на придумаешь.
Но у него есть его Маттафий, всю зиму Маттафий будет рядом с ним. Как сильно отличается открытая натура его Маттафия от его собственной, если говорить честно! Откровенность Маттафия словно отмыкает людей, завоевывает сердца; напротив, он, Иосиф, никогда не умел соблюсти меру и, изливая душу перед посторонним, иной раз убеждался, что этот посторонний отшатывается от него, неприятно задетый такою несдержанностью.
Как же все-таки вышло, что вся любовь Иосифа разом обратилась на него – на Маттафия? Все эти годы мальчик прожил бок о бок с ним, а он, Иосиф, собственно, его и не видел! Теперь он видит его, и он понимает, что Маттафий далеко не так одарен, как Павел или даже как Симон. Почему теперь, когда его план вырастить Павла продолжателем и свершителем своего дела позорно и жестоко провалился, почему он верит, что ему должно повезти с этим мальчиком, с Маттафием, и все свои надежды, всю любовь отдает ему?
Почему? Вот и Маттафий тоже все время задает этот вопрос, и очень часто ни один смертный не в силах на него ответить. Иосифу приходится тогда отделываться неопределенными, уклончивыми словами или же прямо признаваться: «Не знаю», – и, слыша этот ответ, Маттафий испытывает то же чувство, что когда-то так часто испытывал сам Иосиф в высшей школе в Иерусалиме. Там, если поднималась проблема, вызывавшая между учеными споры в течение десятков, а то и сотен лет, как часто тогда – и именно в тот миг, когда острота и сложность дискуссии достигали предела, – Иосиф должен был довольствоваться ответом: «Кашья». А это означало: проблема, нерешенная проблема, окончательных выводов нет, разъяснению не подлежит.
Они добрались до Рима быстрее, чем ожидали. Когда Иосиф принял ванну, перевалило далеко за полдень, но до заката оставалось еще два часа, ужинать было рано. Его отсутствие длилось совсем немного, и все же Иосифу казалось, будто он вернулся из далекого путешествия, и он решил до вечерней трапезы прогуляться по городу.
Довольный, брел он по оживленным улицам светлого, сверкающего под ярким солнцем города. После многих часов в седле приятно было как следует размять ноги. На душе было легко и привольно, уже много лет не знал он этого чувства. Его труд завершен, ни один долг больше не тяготеет над ним, и женщина с тихим, невысказанным упреком на устах больше его не ждет. Он был другим человеком, годы не ложились бременем на его плечи, ему чудилось, будто он оброс новой кожей и в груди у него новое сердце. Иными путями, чем все последние годы, шли его мысли. Иными глазами глядел он на этот в конечном счете столь близкий ему Рим.
Много лет прожил он в Риме, всякий день, всякий час его окружали эти дома, улицы, храмы, а он ни разу прежде не замечал, как поразительно все изменилось здесь с той поры, когда он увидел город впервые. Это было при Нероне, вскоре после пожара. Рим не мог тогда похвастаться ни такой четкой планировкой, ни такой чистотой, он был неряшливее, но зато свободнее, многообразнее, веселее. Он стал теперь более римским, чем в ту пору, Флавии, и в особенности этот Домициан, сделали его более римским. Теперь в нем было больше дисциплины. Ларьки торговцев уже не загромождали добрую половину улицы, носильщики и разносчики приставали к прохожим не так назойливо, меньше стала опасность споткнуться о лохань с помоями или попасть под душ из нечистот, льющийся откуда-нибудь с верхнего этажа. Дух Норбана, дух министра полиции, владычествовал над городом. Большой и сильный высился Рим, дерзко и ослепительно сверкали его здания, могучая рука сочетала воедино старину и модерн, город выставлял напоказ свое богатство и власть над целым миром. Но выставлял напоказ не с обаятельной хвастливостью неряшливого, вольнодумного нероновского Рима, а холодно и угрожающе. Рим – это значило: порядок и власть, но порядок только ради порядка, власть только ради власти, власть неодухотворенная, бессмысленная власть.
Иосиф в точности помнил те мысли и чувства, с которыми он глядел впервые на этот город Рим. Он хотел его завоевать, одолеть его хитростью. И в каком-то отношении это ему удалось; правда, потом обнаружилось, что победа его с самого начала была скрытым поражением. Теперь позиции стали яснее. Этот домициановский Рим был жестче, обнаженнее Рима Веспасиана и Тита, в нем не осталось ничего от жизнерадостных повадок того Рима, который некогда завоевал молодой Иосиф. Теперь его труднее завоевать, тому, кто пожелает одолеть его, потребуется больше сил, но зато теперь он так откровенно выставляет напоказ свою мощь, что труднее и обмануться в размерах стоящей перед тобою задачи.
И вдруг Иосиф понял, что, как прежде, как в дни молодости, он полон безмерного честолюбия, жгучего желания покорить этот город. Быть может, поэтому он так упорно противился мысли оставить Рим. Кто знает: быть может, это щекочущая охота к борьбе удерживала его в Риме. Ибо только здесь можно довести борьбу до конца. То была борьба с владыкой города Рима – с Домицианом.
Нет, он еще далеко не исчерпан, их спор. И если император так долго безмолвствует, то вовсе не потому, что он забыл об Иосифе, он просто отодвинул срок великого состязания. Но теперь оно близилось, надвигалось, и если не император, то он, Иосиф, сам назначит день. Он чувствовал, что выбрал время удачно: он завершил свой труд, «Всеобщая история» написана, и это его камень в праще, камень, которым маленький Иосиф свалит гиганта Домициана.[84]84
…это его камень в праще, камень, которым маленький Иосиф свалит гиганта Домициана. – Намек на библейское предание об отроке Давиде, который вступил в единоборство с филистимским великаном Голиафом и сразил его камнем, пущенным из пращи («Первая Книга Царств», XVII).
[Закрыть] И он чувствует в себе новые силы, они приливают к нему от сына, он обретает новую юность в юности своего Маттафия.
Он так погружен в свои думы, что уже ничего не слышит и не видит вокруг. Смех и веселая болтовня, доносящиеся из небольшого мраморного строения, возвращают его к действительности, и вот он уже больше не распаленный честолюбием воин, но обыкновенный прохожий: закончив многолетний труд, радуясь, что сброшено с плеч тяжелое бремя, он бредет по городу, который любит и который, несмотря ни на что, стал его родиной. Он тоже усмехается, прислушиваясь к смеху и веселому говору, вырывающимся из-за стен небольшого мраморного строения. В Риме четыреста таких общественных уборных. Каждое сиденье снабжено великолепной спинкой и подлокотниками из дерева или мрамора, и римляне сидят друг подле друга и непринужденно болтают, облегчаясь. В комфорте они знают толк, ничего не скажешь. Устроились весьма удобно. Иосиф слушает благодушную болтовню испражняющихся в этом красивом белом строении, и насмешливая, горькая улыбка у него на губах обозначается резче. Комфорт у них есть, изобилие тоже, власть тоже. Все внешнее есть у них, все, что не затрагивает сути вещей.
Да, Рим – это порядок и бездушная власть, Иудея – это бог, это раскрытие божества, это осмысление власти. Одно не может существовать без другого, одно дополняет другое. Но в нем, в Иосифе, они сливаются воедино – Рим и Иудея, власть и дух. Он избран для того, чтобы их примирить.
Ну, а пока хватит об этом. Сейчас он не хочет об этом думать. Долгий, тяжкий труд остался позади; он хочет отдохнуть.
Прогулка по городу его утомила. Какой он большой, этот город! Если идти пешком, до дому еще добрый час. Иосиф взял носилки. Опустил занавески, отгородился от пестрой толчеи улицы, которая так настойчиво на него наседала. Развалился в полумраке носилок, приятно утомленный, – не борец, но просто утомленный, проголодавшийся человек, который завершил большую и хорошо удавшуюся работу и теперь, в отличном настроении, нагуляв волчий аппетит, примется за ужин вместе с любимым своим сыном.
– Поздравляю вас, доктор Иосиф, – сказал Клавдий Регин и пожал ему руку. Это случалось нечасто: обычно он только вяло касался толстыми пальцами руки собеседника. – Это действительно всеобщая история, – продолжал он. – Я многое из нее узнал, хотя и прежде не был полным профаном в вашей истории. Вы написали превосходную книгу, и мы сделаем все возможное, чтобы мир ее узнал.
В устах Регина, всегда такого сдержанного и насмешливого, эта похвала звучала необычайно сердечно и решительно.
С живостью говорил он о том, что нужно предпринять, чтобы успешно выпустить книгу в свет. Техническая сторона дела – производство и сбыт – это в конечном счете вопрос денег, а Клавдий Регин не был скрягой. Но там, где техническая сторона кончалась, все сразу становилось сомнительным и неясным. Например, как быть с портретом автора, который, по заведенному обычаю, должен быть предпослан книге.
– Я но хочу делать вам комплименты, мой дорогой Иосиф, – заметил Клавдий Регин, – но сейчас вы с виду совсем как я, а я – самый настоящий старый еврей. Мне ваш нынешний вид нравится, но боюсь, что публика будет иного мнения. Что, если мы немного прикрасим портрет? Если мы попросту изобразим элегантного, безбородого Иосифа прежних дней, чуть-чуть постаревшего, разумеется? Мой портретист Дакон делает такие вещи бесподобно. Кстати сказать, было бы совсем недурно, если бы вы и в жизни больше разыгрывали роль светского человека и меньше – кабинетного ученого, повернувшегося к миру спиной. Если бы вы, например, снова предоставили цирюльнику соскоблить с ваших щек щетину, вреда от этого не было бы никакого.
Иосиф слушал бесцеремонные, пошловатые речи Регина без всякого неудовольствия, потому что различал за ними искреннее уважение, да и Регин знал, что говорит. Последнее время удача снова во всем сопутствовала Иосифу. Заинтересованность Регина почти наверняка обеспечивала «Всеобщей истории» внешний успех, а Иосиф жаждал такого успеха. Время, когда он равнодушно встретил весть о том, что его бюст выброшен из храма Мира, – это время миновало.
Иосиф воспользовался благодушием Регина, чтобы завести речь еще об одном деле, которое его теперь занимало, – об учении Маттафия. Было очень опрометчиво с его стороны подать мальчику надежду на обучение при дворе, но так уж случилось, и помочь ему не мог никто, кроме Клавдия Регина.
Иосиф объяснил Регину ситуацию. Уже больше года назад Маттафий отпраздновал бар-мицва[85]85
Уже больше года назад Маттафий отпраздновал бар-мицва… – «Бар-мицва» (буквально: «сын заповеди» или «сын обязанностей») называют мальчика, достигшего совершеннолетия (тринадцати лет), а затем и самый обряд вступления в число взрослых и полноправных членов еврейской религиозной общины. Обыкновенно в первую субботу после дня рождения нового «сына заповеди» его вызывают к амвону синагоги читать главу из Писания, приходящуюся на эту неделю, и между тем как он читает, отец произносит следующее славословие: «Благословен тот, кто снял с меня ответственность за это дитя». Что бар-мицва отмечался уже в I в. н.э., сомнений не вызывает, но каким образом это происходило, судить трудно. Надо иметь в виду, что достижение тринадцатилетнего возраста означало полную дееспособность не только религиозную, но и юридическую и гражданскую.
[Закрыть] – свое вступление в еврейское общество, теперь наконец ему пришло время облачиться в мужскую тогу и стать римлянином и римским гражданином. При этом принято было объявлять, какую карьеру избирает молодой человек. Иосиф хотел, чтобы его мальчику была открыта возможность пройти курс обучения не только в армии или при гражданских чиновниках, но и при дворе, он хотел этого и ради сына, и ради себя самого. И это желание побудило Иосифа рассказать Регину, в чьей дружбе он не сомневался, больше того, что требовалось обстоятельствами.
– Я чувствую, – объяснял он, – что привязан к моему Маттафию сильнее, чем к остальным детям. Он должен стать моим свершением, моим Цезарионом, идеальным сочетанием эллинства и еврейства. С Павлом у меня ничего не вышло. – Впервые он сознался в этом вслух и так откровенно. – Он слишком многое унаследовал от язычества, мой грек Павел, он восстал против моего плана. Маттафий же – мой сын с головы до пят, он еврей, и он послушен.
Регин сидел, понурив тяжелую голову с мясистыми, плохо выбритыми щеками, так что его сонные глаза под выпуклым лбом не были видны. Но слушал он внимательно.
– Вашим свершением? – подхватил он и с дружелюбной иронией продолжал: – Но какой именно Иосиф должен и намерен достигнуть своего свершения в этом мальчике Маттафий – кабинетный ученый или же солдат и политик? Он честолюбив, ваш Маттафий? – И, не дожидаясь ответа, заключил: – Приведите мальчика ко мне на этих днях. Я хочу на него поглядеть. Тогда и решим, смогу ли я дать вам добрый совет.
Несколько дней спустя Иосиф с Маттафием стояли у ворот виллы Регина, куда их пригласил министр. Гостей встретил секретарь. Регина неожиданно вызвали к императору, но он рассчитывал, что не заставит Иосифа ждать слишком долго.
– Кстати, вот это, видимо, вас заинтересует, – говорит с подчеркнутой вежливостью секретарь и показывает Иосифу портрет, только что выполненный художником Даконом для «Всеобщей истории».
Сияющими глазами, немного испуганно и вместе с тем зачарованно, смотрит Иосиф на портрет. Но с еще большим любопытством глядит на портрет мальчик. Смуглая, продолговатая голова, горящие глаза, густые брови, высокий, изрезанный частыми морщинами лоб, длинный, с легкой горбинкой нос, густые, иссиня-черные волосы, тонкие, со вздернутыми уголками губы, – неужели это нагое, гордое, аристократическое лицо – лицо его отца?
– Если бы я не знал заранее, – говорит он, и голос, стекающий с его пунцовых губ, так глубок и по-мужски низок, так взволнован, что секретарь отрывает взгляд от портрета, – если бы я не знал заранее, я бы не мог сказать, ты ли это, отец. Так вот каким ты можешь быть, если хочешь.
– Мы все должны, пожалуй, представать перед миром не совсем такими, какие мы на самом деле, – отвечает Иосиф, пытаясь отделаться шуткой, но чувствует себя неловко. Честолюбивая страстность, с которой мальчик идеализировал отца, почти пугала его. Тем не менее он решил теперь действительно последовать совету Регина и сбрить бороду.
Секретарь предложил им погулять в парке, пока не вернется Регин. Это был широко раскинувшийся сад, еще держалась теплая, ясная осенняя погода, прогулка была приятной. Свежий воздух бодрил; в обществе сына Иосиф оживлялся и молодел: он мог говорить с Маттафием, как со взрослым и в то же время – как с ребенком. Что за глаза у мальчика! Как жизнерадостно сияют они под широким, прекрасно вылепленным лбом! Счастливые, юные глаза, они не видели ничего из тех ужасов, которыми полны его глаза, они не видели, как горел храм. Доля еврейских страданий, доставшаяся Маттафию, ограничивается безобидной насмешкой одной маленькой девочки.
Они подошли и павлиньему садку. С детским восторгом рассматривал Маттафий великолепных птиц. Появился сторож и, видя интерес, с которым мальчик глядит на его павлинов, стал обстоятельно рассказывать гостям хозяина о своих питомцах. В первый год их было семь, пять происходили от знаменитого выводка Дидима, двух доставили прямо из Индии. Сейчас неудачное время – птицы потеряли шлейф. Только в конце февраля, когда они затокуют, можно будет полюбоваться на них в полном блеске.
Сторож рассказывал, а Маттафий слушал и не мог наслушаться. Он оживленно беседовал со сторожем, спросил, как его зовут. Оказалось, что родом он с Крита и зовется Амфионом; мальчик нетерпеливо задавал все новые и новые вопросы. Маттафий погладил одного павлина по лазоревой, сверкающей грудке; павлин смирно стерпел ласку; видя это, стал доверчивее и сторож и рассказал, как трудно ходить за этими тварями. Они надменные, властные и ненасытные. И все-таки он без памяти любит своих птиц. Ему удалось заставить нескольких птиц разом распустить хвост. Маттафий восхищенно следил за игрою красок. «Словно цветы на лужайке!» – воскликнул он, тысячи глаз напомнили ему звездное небо, он захлопал в ладоши. Но тут павлины перепугались, дружно, все, как один, свернули свое пышное великолепие и с противным, скрипучим криком бросились врассыпную.
Иосиф сидел на скамье и рассеянно прислушивался, погруженный в тихие, недобрые размышления. «Павлин, – думал он, – вот уж истинно римская птица – великолепная, крикливая, властная, нетерпимая, тщеславная, глупая и ненасытная. Внешность, видимость – в этом все для них, для римлян».
Что его Маттафий так живо заинтересовался павлиньим садком, Иосифа не тревожило. Ведь он еще мальчик, полный любопытства ко всему новому, что попадается ему на глаза, и насколько мало занимают его отвлеченные проблемы, настолько же остро волнует все предметное, живое. С удовлетворением и гордостью видел отец, как хорошо понимают друг друга его сын и павлиний сторож. Он чуть посмеивался над горячностью мальчика. Поглядеть на него со стороны – кажется, уже взрослый, но это только кажется, на самом деле он еще совсем мальчишка.
И еще: чуть усмехнувшись, Иосиф отмечает про себя, с каким невинным рвением старается Маттафий расположить к себе столь далекого от него человека, как этот сторож. Всерьез тщеславным он не был, но знал о впечатлении, какое производит на людей, и бессознательно старался всякий раз убедиться в этом снова.
Наконец вразвалку подошел Клавдий Регин, дела на Палатине задержали его ненадолго, и теперь, перед обедом, он хотел размять затекшие в носилках ноги. Он был хорошо настроен, и скоро стало ясно, что мальчик ему нравится. Он снова заговорил о труде Иосифа, о «Всеобщей истории», и спросил Маттафия, что он может сказать об этой великой книге отца. Своим низким мужским голосом, скромно и чистосердечно Маттафий объяснил, что читатель он довольно скверный: он очень долго просидел над «Всеобщей историей», но за живое его затронули лишь изображенные Иосифом события последнего времени. Вероятно, он еще слишком невежествен, чтобы постигнуть разумом дела, давно минувшие. Эти слова, произнесенные с милой, располагающей улыбкой, прозвучали как извинение, но в то же время мальчик и не пытался скрыть, что не принимает близко к сердцу этот свой недостаток. И так всегда: то, что говорил Маттафий, было вполне заурядным – ни особенно блестящим, ни особенно тупым, – но неизменно воспринималось как что-то незаурядное благодаря естественности и обаянию, с которыми он выражал свою мысль.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?