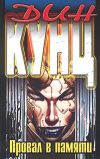Текст книги "Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории"

Автор книги: Лутц Нитхаммер
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 39 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Именно эта женщина в конце полевой фазы нашего проекта и написала о ней самый подробный отчет властям. Раньше, чем это смог бы сделать кто-то из нас, западных исследователей, она подвела предварительный итог работы. Она описала то, что проявилось не только в интервью, взятых с ее участием, но и в остальной массе нашего материала: пропасть, отделявшую базис от партии, и отсутствие перспектив в провинции. Изложила она это, используя неуязвимые социалистические выражения, но настолько неприкрашенно, что ее начальство не дало отчету хода. Видимо, не хотели будить лихо в высших партийных инстанциях и привлекать внимание к проекту, к своему институту, к методу… – не знаю. Но и сам этот весьма критичный отчет для внутрипартийного пользования, и его сокрытие теми, кто думал то же или примерно то же, что в нем было написано, мне кажутся очень показательными для реально существовавшего отношения между социалистическим режимом и опросами населения.
Мне самому понадобилось полгода после завершения полевой фазы, прежде чем я изложил на бумаге первый анализ наших интервью. На этой фазе реальное количество опрошенных выросло впятеро против запланированного. Помимо интересовавших нас биографий и истории восточных немцев мы узнали многое из области этнологии этой другой части Германии. Но после возбуждения, сопровождавшего полевую работу, наступили депрессия и растерянность. Дело было не только в том, что мысль об обработке примерно пятисот 90-минутных кассет казалась кошмаром, и не только в том, что переход из «поля» за письменный стол действовал подавляюще: во время осуществления нашего проекта рухнули надежды на перестройку в ГДР; берлинское начальство впервые в жизни совершило самостоятельный поступок, а именно пошло против Советского Союза, охваченного лихорадкой горбачевских реформ, и тем приблизило собственный конец. Но поначалу этого еще невозможно было предвидеть, ибо никто на Западе (включая меня) не мог себе тогда представить, что русские так быстро уйдут. Во время поездок на Восток мы чувствовали застой, чувствовали растущую бесперспективность в настроении наших собеседников, кошмарное давление, которое вызывало отчаяние, замкнутость, стремление уехать.
Тогда, зимой 1987/88 года я гостил в одном роскошном исследовательском институте в Западном Берлине {14}, в квартале фешенебельных вилл, и сидел перед своими 500-ми кассетами, перемешивая депрессию наших собеседников со своей собственной. В итоге получилась первая диагностическая статья, которая, если я не ошибаюсь, оказалась едва ли не единственным в то время в Западной Германии прогнозом грядущего кризиса ГДР {15}. Написана она была благодаря проведению трех очень разных аналитических операций с нашим материалом: этнолого-биографического анализа, социально-статистического изучения смены поколений и исторической диагностики текущего момента.
В первом случае мы делали предметом и инструментом нашей интерпретации все чуждое, задевающее, непонятное, что наблюдали «в поле». Этой процедуре я научился от швейцарских друзей-этнопсихоаналитиков, проводивших исследования в Латинской Америке {16}: когда пытаешься понять чужую культуру, надо то, что непонятно и раздражает, не заключать в скобки и отодвигать в сторону, а наоборот, вместе с собственным раздражением ставить в центр рассмотрения. Ведь это раздражение маркирует культурное различие – отличие от того, что внутри нашей собственной культуры существует как данность, которая не требует прояснения. В данном случае меня раздражало «раздвоенное мышление» наших собеседников: их рассказы о собственной жизни представлялись мне удивительно «общественными», их сдержанный и экономный язык казался в то же время выразительным и шизоидным.
Я попытался продемонстрировать это на примерах. Вот женщина, пережившая много тяжкого во время войны и строительства социализма; она называла себя шизофреничкой, и под защитой этой болезни ей удавалось поразительно внятно формулировать осознанный ею диссоциативный социальный характер ГДР {17}. Вот профессор философии, которого мне отрекомендовали как образец антифашиста и который мне рассказал о своем рабочем детстве и о тюремном заключении в Третьем рейхе, но хотел умолчать о том, что после 1945 года он стал первым культурным лидером ГДР, не справлялся с этой ролью, а потом партия обвинила его в том, что он выдал гестапо своих товарищей, и он был свергнут, но потом снова стал пользоваться почетом и получил титулы профессора и образцового антифашиста {18}. Вот еще пример: сын рабочего, павшего жертвой гитлеровской «эвтаназии», нацист и восторженный член гитлерюгенда; во время войны влюбляется в женщину-офицера, дочь коммуниста и активиста Сопротивления, который для того, чтобы себя обезопасить, без ведома дочери направил ее по военной стезе. Этот человек резко критикует ГДР, он всегда был против этого строя, однако любит технику и верен долгу, поэтому пускается на всякие импровизации, чтобы хорошо выполнять свою работу; смирился с обстоятельствами, подорвал работой здоровье. А жена, чей отец-коммунист в 1950-е годы был так разочарован социализмом, что покончил с собой, удобно устроилась в жизни и внутренне дистанцировалась от реальности {19}. Или вот, наконец, рабочий, которого в молодости, сразу после войны, уговорили вступить в партию. Он сделал головокружительную карьеру, почти дорос до главного инженера своего металлообрабатывающего завода, но по медицинским причинам то и дело вынужден был отступать на шаг назад. Свою партийную работу он описывает как бегство из семьи: женился на женщине старше себя, в отношениях с нею воспроизвелись в более сносной форме его травматичные отношения с матерью. Для своей первой биографической презентации он избрал самую избитую схему, которой пользуется подавляющее большинство граждан ГДР для организации своих автобиографических рассказов {20}.
Эта схема обязана своим формированием единой структуре всех личных дел в ГДР: по ней заполняли формуляры в отделах кадров, писали автобиографии для всевозможных инстанций, прежде всего партийных. В 1950-е годы этому даже специально учили. Формальный принцип этого публичного изложения своей биографии заключался в том, чтобы жизнь никогда не становилась цельной, а все время была разделена на графы: работа, семья, политика, иногда также деньги, и даже хобби – все излагается в отдельных колонках от начала до конца, одна тема за другой. Эта программа не допускала формирования идентичности: она предусматривала систематическое подчеркивание социальных лиц человека в ущерб его собственному личному «я». Вместе с тем она освобождала его от трудной и не всегда приятной ответственности за свою цельную и обладающую неким центром личность. В этой общественной форме биографии свое, личное нельзя было представить. Но оно не пропало, оно всплывало в разговоре, когда интервьюер задавал уточняющие вопросы, – всплывало как отгороженная приватная сфера, но потом при случае раскрывалось как целая сложная реальность, которая, однако, другую – общественно организованную, шаблонную – реальность не отвергала как лживую, а сосуществовала с нею. У человека, вполне овладевшего искусством быть гражданином ГДР, очарование и глубина заключались в наличии у него второго и третьего дна; в приватной сфере это позволяло ему хорошо справляться с действительностью, в публичной делало его незаметным и/или позволяло ему делать карьеру. К этой схеме я скоро вернусь, когда попытаюсь разъяснить странное понятие «биократия», вынесенное в название статьи.
Социально-статистическая обработка, которой я подверг примерно третью часть наших интервью (а именно те, которые были собраны в одном промышленном пригороде в Саксонии), разумеется, как и вся устная история, не претендовала на репрезентативность, а была направлена лишь на получение количественных опорных точек, позволяющих наметить некие типы поколений. Я обсчитал этапы карьер и рождения детей, происхождение и политические убеждения. В результате получилось, что два старших поколения людей, живших в этих местах, обладали необычайно высокой социальной мобильностью, направление которой в общих чертах можно описать так: для мужчин – из квалифицированных рабочих в другие сферы, для женщин – из других сфер в квалифицированные рабочие. Несмотря на весь свой политический антиамериканизм в годы холодной войны, ГДР в политическом и культурном отношении была «Америкой маленького человека», потому что детям рабочих и молодым людям, вступавшим в жизнь после 1945 года, она предоставляла шансы социальной мобильности, превратившиеся в базовый экзистенциальный опыт и заменившие религиозные ценности экономическими. Однако, в отличие от Америки, распределение социальных шансов здесь определялось политическими факторами, и это породило фиксированный на авторитарной системе тип выдвиженца из низов. Политический и экономический кризис, охвативший страну в период осуществления нашего проекта, как правило, вызывал у людей такого рода ощущение утраты перспектив, которое они порой лишь с трудом могли скрыть {21}. Это привело к тому, что три года спустя в этой местности, некогда коммунистически настроенной, подавляющее большинство рабочих стало голосовать за западные консервативные партии, обещавшие покончить с социалистической депрессией посредством импорта капитализма.
Мы в то время еще не могли этого знать, но уже тогда бросалось в глаза, что отсутствие перспектив порождало в людях очень большие ожидания. Точно так же бросались в глаза и гордость старших поколений тем, чего они достигли в условиях ГДР, и их отчужденность (чтобы не сказать ненависть) по отношению к младшему поколению, у которого ожидания были менее скромные, а материальные возможности менее ограниченные, нежели у стариков – тяжело работавших, многократно потрепанных жизнью и многократно к ней приспосабливавшихся, благодарных за все и лишенных перспектив {22}.
Рассмотрев упомянутый выше феномен «раздвоенного мышления» и проанализировав разрыв между поколениями, я не мог не сделать вывод, что в ГДР близится культурный кризис. Политическая интеграция старших поколений оказалась возможной благодаря уникальному социальному опыту, какого у младших поколений быть уже не могло, потому что освобождение пролетариата было для них уже давно свершившимся фактом, а вину за нацизм они не ощущали. Опыт старшего поколения, приобретенный в уникальных исторических обстоятельствах, не был системно обусловлен и потому не мог быть передан младшим, которые по необходимости должны были искать свой путь. Каким будет этот путь, я тогда не знал и знать не мог. И не я один – таких было много, но это меня не радует, ибо это значит, что многие были слепы и не смогли распознать, куда движется Советский Союз: чем же тут гордиться?
Прежде чем моя статья, в которой я прогнозировал кризис ГДР, была опубликована в одном небольшом научном журнале на Западе (1988) {23}, я познакомил с нею нескольких друзей на Востоке, в том числе и наших «опекунов». Они удивились, что я использовал устную историю для политического прогнозирования, поправили несколько ошибок в деталях и категорически потребовали переформулировать одну фразу, в которой я по чисто языковым причинам, говоря о периоде правления тогдашнего главы государства, употребил глагол в прошедшем времени. Я ничего особенного не имел в виду и поменял формулировку, но мне запомнилось, что подлинное табу в последние годы существования ГДР было наложено не столько на прогноз грядущего крупного кризиса, сколько на слова, выражавшие просто возможность того, что время правления главы государства, которому к тому моменту перевалило за восемьдесят, когда-то может закончиться. Но это была цензура на низшем уровне. Как я узнал впоследствии из архивных документов штази, служба госбезопасности явно тоже ознакомилась с моим манускриптом, и там не стали останавливаться на подобных пустяках, а просто сделали вывод, что я злоупотребил полученным разрешением на опросы. Если бы ГДР не прекратила существовать, то, вероятно, в последующие годы стало бы еще труднее получать добро на проекты в области устной истории – по соображениям государственной безопасности.
IIIНо через два года ГДР рухнула. С той поры интервьюирование граждан Восточной Германии переживает расцвет: социологи, политологи, этнологи, педагоги и историки воспользовались открывшимися возможностями. Опубликовано, в частности, множество биографических рассказов, записанных на пленку и зачастую обработанных в стиле документальной литературы {24}. Среди них есть много сложных биографий, но нет тех признаков, которые мне показались характерными: «раздвоенного мышления», социальной мобильности как паттерна легитимации, разрыва между поколениями и разрушающей идентичность схемы биографического рассказа «по графам». Какой вывод следует из этого?
Можно было бы подумать, что мы все сделали неправильно и что наше официально дозволенное исследование продемонстрировало нам только внешний слой действительности ГДР, а не скрытую под ним и защищенную диктатурой подлинную идентичность граждан, которая смогла проявиться лишь теперь, в более свободных условиях. Поэтому мы сделали попытку в 1992 году снова проинтервьюировать наших респондентов пять лет спустя после первых интервью. Но на наши письма откликнулись только 10 % из них, а во время повторных интервью лишь в нескольких случаях респонденты – все они были членами не СЕПГ, а других партий блока – нам рассказали совсем не те истории, что в первый раз: то, что раньше представлялось как выстраданная ими поддержка режима, теперь описывалось как сопротивление ему в условиях вынужденного коллаборационизма. Но в целом принципиальных изменений в историях не было, только добавились кое-какие детали и эпизоды. Вышеупомянутая схема рассказа «по графам» более не проявлялась, но это ни о чем не говорило: эта форма, служившая для официального представления автобиографии, была уже больше не нужна респондентам ни в публичных контекстах, ни в контексте нашего проекта, в котором они и прежде рассказывали о своих жизнях по гораздо более сложной схеме.
Но более всего озадачило нас, конечно, то обстоятельство, что лишь очень немногие были готовы участвовать в еще одном интервью, в то время как в 1987 году процент отказов у нас был очень небольшой, а некоторые (в основном далекие от режима люди) тогда едва ли не сами рвались рассказать нам, людям с Запада, свою историю. Может быть, мы тогда напугали людей или задели их своим высокомерием, или еще как-то неправильно себя с ними вели? Встречаясь впоследствии с некоторыми из наших собеседников, мы не замечали у них подобных чувств. Но еще в первый раз респонденты нам часто говорили после окончания интервью, что они не ожидали такого подробного разговора и сказали больше, чем собирались, и не так, как собирались. Хотя интервьюер никогда не может знать, что остается после беседы в душе у каждого его респондента, я все же думаю, что странный эпилог нашего проекта объяснялся не тем, как опрошенные оценивали наше поведение, и не тем, что теперь они могли бы рассказать совсем другую историю своей жизни.
Намного правдоподобнее представляется мне другая гипотеза: такой резкий культурный слом, как тот, что произошел с крушением ГДР и объединением Германии, заставляет людей стыдиться континуитета. Биографические рассказы основаны на постоянном соотнесении воспоминания о пережитом с господствующими на данный момент в культуре формами его изложения. Поэтому человек может до и после культурного кризиса правдоподобно и связно рассказать свою жизнь, но несравненно тяжелее рассказывать ее одному и тому же слушателю, с которым у рассказчика имеются общие воспоминания о формах изложения, примененных в прошлый раз, а теперь ставших неприменимыми.
Описание этой проблемы в моральных понятиях исказило бы ее суть и глубину. То есть неверно было бы утверждать, что люди хотели рассказывать выдумки о своей жизни только в соответствии с господствующими на каждый данный момент мерками, но не быть при этом пойманными за руку: это означало бы исходить из того, что индивид автономен от окружающей его культуры. Однако такой полной автономии не существует, хотя степень зависимости индивида от культуры бывает самой разной. Даже когда он демонстративно дистанцируется от окружающей культуры, он делает это, как правило, в ее же формах.
Эта привязанность к коммуникативному контексту может элиминироваться в разговоре тет-а-тет между двумя индивидами, которые принадлежат одной и той же субкультуре или давно знакомы друг с другом: отставив в сторону то, что принято на данный момент в «большой» культуре, они могут, например, предаться ностальгическим воспоминаниям о старых добрых временах и вести себя так, словно те еще продолжаются. Однако интервью, особенно такие, какие применяются в исследованиях по устной истории, – это не задушевный разговор с глазу на глаз, а культурное мероприятие. Собеседники чаще всего либо вовсе не знакомы, либо знают друг друга лишь очень недавно. Они обычно принадлежат к разным поколениям, чаще всего к разным общественным слоям или – как в нашем случае – даже вовсе к разным культурам. За интервьюером стоит культура (обычно чуждая повседневной жизни респондента), для которой разговор записывается и в которой его текст интерпретируется – по ее правилам и ради ее интересов. Разумеется, при хорошем интервью возникает такая атмосфера человеческой общности, словно бы этих предпосылок и последующего анализа разговора не было, но все же в нем имеет место встреча культур, едва ли не более реальная, чем человеческая общность.
IVНе случайно автобиографическое интервью получило в ФРГ большее распространение в исследованиях по устной истории, нежели в других странах. В этом проявились множественные культурные и политические разрывы, которыми отличается история Германии в ХХ веке, особенно после 1945 года. После крушения Третьего рейха не осталось почти ничего из того, что традиционно было ясно и однозначно. Чтобы понять человека в его историческом представлении о самом себе, нельзя уже было относить его высказывания к сфере исторического опыта какой-то одной более или менее стабильной субкультуры. Сначала нужно было проследить индивидуальный путь этого человека, а потом уже его высказывания, основанные на его жизненном опыте, соотносить с этим путем. В культурах, существовавших «после», те различия, что существовали и были важны «до», трансформировались и сглаживались. Поэтому биографическая устная история была в одно и то же время выражением глубоко засевшего недоверия людей к собственной культуре и глубокими археологическими раскопками, имевшими целью критически реконструировать – вопреки множеству разрывов – связи с прошлым.
С этой точки зрения в западногерманской истории можно выделить четыре фазы обращения к биографической тематике, которые тесно связаны с ответственностью за национал-социализм. Первый раз тема биографии была актуализирована, когда союзнические оккупационные власти в период денацификации начали крупномасштабный процесс принудительной биографизации. Биографическая анкета, не заполнив которую нельзя было в первые послевоенные годы получить доступа к источникам пропитания, освещала жизнь с точки зрения членства в политических организациях и предположений относительно той или иной политической вины. После того как в годы холодной войны денацификация потерпела крах, на долгие годы были созданы условия, когда многие люди получили возможность не оглядываться на свое прошлое. Философ Герман Люббе даже говорил, что основой принятия демократии в западногерманской политической культуре сделалось согласное, «коммуникативное молчание о прошлом». Инвективы из ГДР, направленные против реставрации общественных элит Третьего рейха в ФРГ, натыкались в то время на эту стену молчания и отскакивали от нее. В 1960–1970-е годы эту стену начали разрушать процесс Эйхмана, потом процесс над палачами Освенцима, потом начало студенческого движения 1968 года, потом новая историография, опиравшаяся на архивные документы, и, наконец, после того как ответственное за нацизм поколение в значительной мере ушло со сцены и тем самым от ответственности, возник новый и более дифференцированный интерес к биографическим темам. Носителями этого интереса стали прежде всего люди, которые в свое время состояли в нацистских молодежных организациях, но которых лично почти не в чем было обвинить. В этот период в Западной Германии начались исследования по устной истории. Ее самое важное воздействие на широкие массы заключалось не в том, что она реконструировала утраченные миры, а в том, что она восстанавливала воспоминания о политизированной повседневной жизни при Гитлере. Поскольку индивидуальные обвинения не имели более никаких практических последствий, началась – через 40–50 лет после разрыва – совместная работа индивидуальной и коллективной памяти по осмыслению континуитета.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?