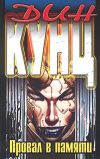Текст книги "Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории"

Автор книги: Лутц Нитхаммер
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Английское словосочетание oral history означает – вопреки своему буквальному значению – не какой-то особый вид истории, который ограничивается устно традированными источниками, а специфическую технику изучения современной истории {74}. Устная история, с одной стороны, позволяет исследовать определенные сферы, по которым нет иных источников или они не доступны, и таким образом, она представляет собою один эвристический инструмент среди прочих. С другой же стороны, она позволяет расширить концепцию недавнего прошлого и историзировать его, в силу чего практика oral history оказывает влияние на понимание истории в целом.
Существуют два распространенных заблуждения. Первое из них – что устная история есть социально-романтический самообман, научно несостоятельный, ибо надежных воспоминаний и репрезентативных высказываний слишком мало, чтобы можно было строить на них серьезное исследование. Второе – что устная история есть универсальная аббревиатура вчерашнего, своего рода instant history, которая годится для всего чего угодно и позволяет понять утраченный мир дедушки, прослушав его последнее интервью, записанное на магнитофон. В противоположность этим двум глобальным предрассудкам функцию oral history в изучении современной истории скорее можно уподобить функции археологии для истории древней.
Это метод, специфичный именно для Новейшего времени, нацеленный на междисциплинарное сотрудничество, позволяющий расширить спектр исторических источников и историческое восприятие, а от других эвристических областей в истории отличающийся тем, что его источники не даны в готовом виде: их характер определяется отчасти тем, как они «добываются». Конечно, сравнение с археологией не совсем удачно, потому что остатки воспоминаний в памяти качественно отличаются от керамических черепков в земле. Но раскопки расширяют наше понимание истории, основанное на текстовых источниках, добавляя к нему пространственное измерение, и разрушают проекции исторической фантазии, предлагая новую возможность восприятия, где все наглядно и все зарисовано гораздо более реалистично, чем прежде воображалось. Подобным же образом интерактивная индукция интервью-воспоминания требует такого представления об исторической науке, при котором мы признаем, что ее данные продуцируются в процессе исследования, что она приближается к перспективе субъективного опыта, препятствует переносу нынешних представлений на прошлое и создает (подобно археологии) из фрагментов и примеров основу для нового восприятия, в данном случае – восприятия такого аспекта, как человеческий жизненный опыт. Поэтому ниже я хотел бы попытаться кратко очертить те сферы, где интервью-воспоминание сулит эвристические приобретения для современной истории, а затем сказать несколько слов о том, почему аспект человеческого опыта исторически важен и в какой мере его интервенция может иметь критическую функцию.
Устная история возникла в США вскоре после войны, когда стало ясно, что важные для общества решения все больше принимаются не на уровне высшего руководства, а готовятся в штабах, аппаратах и на заседаниях, так что те, кто за них «ответственны», на самом деле зачастую только повторяют написанное другими и оправдывают это перед лицом общественности. Логика, стоящая за этими решениями, и институциональные процессы, в ходе которых они вызревали, суть порождения мира элит второго эшелона (менеджеров, функционеров, чиновников, экспертов), которые не пишут своей истории, не излагают в ней своих мотивов и связей, а если бы они и писали мемуары, то эти книги не продавались бы. Те письменные тексты, которые эти люди продуцируют, суть лишь конечные морены внутриаппаратных процессов, которые сами по себе все меньше опираются на письменную фиксацию информации. В XIX и в первой половине ХХ века дело обстояло еще совсем иначе: во-первых, число участников было гораздо меньше; во-вторых, им зачастую не оставалось ничего другого, кроме как письменно объясняться друг с другом по поводу их истинных мотивов. Современные бюрократические аппараты во второй половине ХХ века продуцируют все больше бумаг (впрочем, этому процессу роста может положить конец распространение средств телекоммуникации), но все больше решений обсуждается и принимается по телефону или в мобильных рабочих группах, поэтому такие бумаги все меньше годятся для глубокого исторического анализа {75}. Никсоновские магнитофонные записи деловых разговоров в Белом доме и взяточная бухгалтерия Флика[3]3
Имеется в виду «дело Флика», ставшее причиной громкого политического скандала в ФРГ в середине 1980-х годов. Фирмы Ф. Флика тайно передавали крупные денежные суммы деятелям нескольких политических партий, в том числе и министрам. Это, как предполагали (доказательств, впрочем, найти не удалось), были не просто пожертвования в пользу партий, но взятка за выгодное для концерна постановление Министерства экономики. Чиновники налогового ведомства обнаружили записи об этих выплатах в бухгалтерских книгах компании.
[Закрыть] обладают такой высокой ценностью не потому, что в них документирован очень необычный способ ведения дел, а потому, что подобная форма фиксации информации о практиках в мире власти и денег в высшей степени необычна.
Однако опыт показывает, что представители этих кругов зачастую и после выхода на пенсию или в отставку сохраняют дисциплину, подобающую их должностям, и лишь немногие из них готовы и способны с достаточной точностью вспоминать детали своей прежней деятельности. Только в исключительных случаях долговременная память не изменяет человеку, когда по прошествии десятилетий нужно в подробностях реконструировать процессы принятия конкретных решений. Это неоднократно показывали допросы свидетелей в процессах по преступлениям нацистов, шедших более чем через двадцать лет после событий. Это обстоятельство испортило репутацию огромной массы письменных свидетельств и записей устных рассказов в области современной истории {76}. Ситуация бывает, возможно, иной в тех случаях, когда подобные процессы принятия решений одновременно означали важные, переломные моменты в биографии самого вспоминающего, но тогда он зачастую не хочет потом ни с кем делиться воспоминаниями о них. Опыт интервьюирования представителей элит на темы, связанные с политическими решениями, привел историков к мысли, что опросы свидетелей надо начинать сразу после значительных событий. Но такие мероприятия по превентивной фиксации исторических сведений быстро наталкиваются на финансовые трудности, а кроме того, они сопряжены со сложнейшими методическими проблемами {77}.
Многие историки, разочаровавшиеся в плодотворности и надежности интервьюирования представителей элит как способа сбора информации о принятии решений, тем не менее считали, что встречи с ними помогали им многое понять из «подоплеки дела». Более крепкой представляется долговременная память в отношении того, что касается социальных отношений внутри аппаратов и между ними, оценок тех обстоятельств, которые определяли принятие решений, и тех кодов, в которых осуществлялась коммуникация; одним словом: лучше помнятся истории из верхних этажей рабочего мира {78}. Поэтому тут вполне можно было бы проводить антрополого-социальноисторические исследования повседневной жизни «человека организационного». Но в качестве информационной подпорки для современной политической истории даже такие воспоминания из организационных контекстов следует признать особо текучими и субъективными данными, которые можно собирать и контролировать только в сочетании с соответствующими архивными разысканиями. В этом смысле процесс такого комбинированного сбора информации сближается с расследованием дел в криминалистике, а интервью – с допросом. Часто для этих целей более пригодны и достаточны разговоры «о подоплеке дела», проводимые без магнитофона, т. е. не оставляющие после себя никакого документа, доступного для текстового анализа.
В проекте LUSIR подобные интервью с представителями элит на темы, связанные с политическими решениями и структурами, проводились только как составные части биографических интервью, сопровождались архивными исследованиями профсоюзных документов, а в качестве респондентов фигурировали прежде всего члены производственных советов и другие представители рабочих элит горнодобывающей и металлургической отраслей. Разговоры «о подоплеке дела», ведшиеся помимо собственно интервью, дали нам очень важные сведения, например для реконструкции политических взаимосвязей {79}. Но та полученная от представителей политических элит информация, которая касается не фактов и структур, а политических идей, ценностей, опыта и кодов, особенно трудна для интерпретации, потому что этим людям приходилось постоянно заново обдумывать и переосмысливать свои цели, так что их память уже многократно прорабатывала и заново интерпретировала воспоминания.
Это я хотел бы проиллюстрировать примером ретроспективной рефлексии одного профсоюзного функционера по поводу вопроса об обобществлении собственности на средства производства в первые послевоенные годы. Свой опыт он сформулировал в таких словах: «Здесь тогда еще время не пришло для тогдашнего времени» {80}. Сначала эта фраза вызывает недоумение. Высказывание, с одной стороны, представляет собой краткую формулу, а с другой стороны, расплывчато и облачено в камуфлирующие понятия («время»), которые к тому же имеют разные значения: это противоречие указывает на то, что это перед нами квиетистский код самопонимания, которым выражена идея, не пригодная для открытого высказывания. Правда, достаточно хотя бы немного знать о том времени, чтобы понять политическое значение этих камуфлирующих понятий. Но фразу, которая в результате такой расшифровки получится, – «общественные отношения здесь тогда еще не созрели для обобществления средств производства», – респондент явно не хотел произносить, потому что это было бы всего лишь затертой левацкой рационализацией поражения социал-демократов и коммунистов. Сказав меньше, он дал понять больше и одновременно это скрыл. Этот человек – сын плотника, разочарованного «старого бойца» СА, – в конце войны был убежденным членом гитлерюгенда, командовал малолетками. Потом убежал от русской оккупации из Центральной Германии в Рурскую область, где уже в 1946 году стал руководителем молодых рабочих на своем предприятии, двумя годами позже вступил в профсоюз, а потом, когда основной его работой стала профсоюзная деятельность, стал членом СДПГ. Послевоенная переориентация привела его в лагерь левых и одновременно способствовала стремительному росту его общественного положения: на сегодняшний день он считается одним из немногих выдающихся левых деятелей среди крупных функционеров своего города. Обобществление средств производства – это для него цель, которая после войны стала прежде всего содержанием его новой жизни; но, глядя из сегодняшнего дня, он идентифицирует ее с тогдашним временем, и при таком дистанцировании она выглядит уже не такой актуальной. От темпорального понятия («тогда») он отделяет пространственное («здесь»): очевидно, тогда же где-то в другом месте время для обобществления уже пришло, но это было в той самой советской зоне оккупации, откуда он сбежал. Из этой искаженной картины общеполитических условий, биографии и приобретенной позднее, ставшей с тех пор не актуальной, но все же сохраненной целевой ориентации возникает процитированная трудная фраза, которая поначалу недоступна для коммуникации, потому что ради сохранения идентичности громоздкие связи с действительностью камуфлируются формулами-пустышками. Но эти формулы-пустышки представляют собой усеченный код и содержат в себе одновременно коммуникативное предложение собеседнику: достичь согласия в рамках просвечивающего общепринятого (для левых) паттерна рационализации.
Этот пример показывает, что интервью с политиками полны подводных камней, особенно в обществах, где политические векторы в недавнем прошлом несколько раз резко менялись. Даже – или особенно – там, где предмет воспоминания не слишком эфемерен для долговременной памяти, а в силу своей личной значимости хорошо в ней сохранился, в интервью лишь в редких случаях рассказываются сырые воспоминания о ценностно нагруженных политических сюжетах. Это превращает их – тем более, что политический процесс, как правило, порождает также другие источники информации, – в богатый фонд данных для изучения индивидуальных и общественных факторов, которые при формировании и переформировании опыта сплетаются друг с другом; но для исторической реконструкции возникающий в результате источник использовать трудно. Впрочем, эта проблематика не столь сильно проявляется в работе со вторым типом экспертного интервью, применяемого для реконструкции сфер современной истории, слабо обеспеченных источниками: я имею в виду реконструкцию условий повседневной жизни.
Значительная часть повседневности, в которой группы и индивиды трудятся, состоят в социальных отношениях, формируют толкования своей жизни или перенимают унаследованные, сама по себе не продуцирует текстовых (а зачастую и вовсе никаких) источников. Хотя именно в этой сфере общественные структуры и политические процессы соприкасаются с жизнью индивида, т. е. история как бы охватывает и пронизывает человека, документирована эта сфера чрезвычайно скудно, и это многих удивляет, ведь повседневность представляется чем-то настолько близким, что кажется, будто источники по ее истории находятся повсюду, а каждый человек – эксперт по собственной недавней истории. На самом же деле история повседневности особенно трудна для изучения и зачастую в большей мере, чем политическая или интеллектуальная история, нуждается в теоретической базе {81}.
Связано это прежде всего с тем обстоятельством, что большинство рутинных действий в повседневной жизни совершается неосознанно: это привычные и едва приметно меняющиеся впечатления и действия, заученные в период социализации. Человеку становится изнутри видна их особость только тогда, когда они перестают быть автоматическими. Неосознанное представляет собой «забытую историю» {82}. Тот факт, что его содержание составляют вещи, когда-то возникшие, не присутствует ни в сознании, ни в воспоминании до тех пор, покуда эти вещи сохраняют свою действенность. Они проявляются на поверхности сознания лишь постольку, поскольку их приходится не совершать машинально, а вспоминать, или если их наблюдает кто-то со стороны.
Поэтому не удивительно, что попытки исторического изучения жизненной практики субъектов сталкиваются с особыми эвристическими проблемами. Остатки прежней повседневной жизни весьма фрагментарны, поскольку в большинстве будничных отношений и процессов господствует устная коммуникация, а отложения материальной культуры, если они вообще собираются и хранятся, не заключают своего смысла сами в себе: они всего лишь технологические элементы и инструменты исчезнувшей жизни. Историческая интерпретация в таких условиях, как правило, вынуждена опираться на сохраненный преданием исключительный случай, который документирует нарушение повседневной практики или преследование отклоняющегося поведения, или же на другие свидетельства внешних наблюдателей. Но адекватно ли отражают такие внешние свидетельства тот «собственный смысл», который заложен в описываемых жизненных условиях, а если нет, то как они его преломляют, – можно проконтролировать только по свидетельствам «изнутри» {83}. По этой причине подавляющее большинство проектов по устной истории сегодня посвящено исследованию таких социальных групп или фаз в истории еще живущих поколений, которые не породили никаких или почти никаких субъективных свидетельств, источников, и цель этих проектов в том, чтобы через интервью-воспоминания сделать эту недавно минувшую повседневность частью истории.
Но и к этой цели нет прямых путей. Если субъектные связи повседневности открываются преимущественно стороннему наблюдателю или воспоминанию, то и интерактивная индукция пассажей в интервью-воспоминании, посвященных истории повседневности, порождает только такие источники, которые полностью раскрывают себя лишь при взаимном контроле обоих измерений. Ведь о повседневности здесь говорится только по двум причинам: либо потому, что об этом спросил интервьюер, – и тогда смысл конституируется спрашивающим, потому что его просьба поточнее описать повседневную практику всегда приводит к тому, что из латентной памяти извлекаются лишь свидетельства, освещающие предмет под одним определенным углом; либо потому, что респонденту захотелось вспомнить не существующую более жизнь, – и тогда преодолеть барьер предполагаемой им тривиальности предмета рассказа он может только за счет чувства сожаления или облегчения по поводу того, что теперь повседневная жизнь в этом и/или других отношениях стала иной. Это чувство (у многих старых людей это ностальгия) {84} – а вовсе не тогдашний смысл воспоминаемой жизненной практики – мотивирует активную память и структурирует смысл сообщения, выдаваемого ею. Но обе перспективы могут дополнять и контролировать друг друга.
Если интервьюер терпелив и уже настолько детально знаком с условиями жизни своего собеседника, что может задавать конкретные вопросы, то респондент, как правило, точно и подробно описывает рутинные повседневные действия {85}, по крайней мере такие, которые относились к основной сфере его деятельности, навыки, владение которыми было ему важно и являлось составной частью его я-концепции. Вопрос о том, почему такие рутинные повседневные операции удается извлечь из памяти, до сих пор, насколько мне известно, наукой не изучен. Но две причины кажутся мне очевидными. Во-первых, важность этих действий для трудовой и прочей жизни субъекта вела к тому, что они в точности запоминались, а длительная практика способствовала тому, что они входили, как говорится, в плоть и кровь. Во-вторых, это в большинстве своем «невинные» знания и умения, которые не приходилось в последующей жизни истолковывать или перетолковывать в отличие, например, от ценностных ориентаций или проблематичного опыта {86}. Точность воспоминания связана не в последнюю очередь с тем, что респондент не может разглядеть связь вопроса со смыслом истории своей жизни. Такой связи, как правило, и нет; смысл вопроса устанавливается аналитически и касается условий жизни некоторой группы. Но косвенно такая связь может возникать при анализе текста интервью, потому что у исследователя есть возможность проверять опыт и оценки респондента на соответствие его же рассказам о повседневной жизни. Если такого человека просят дать сведения о повседневной жизни некоей группы, объединенной какой-то общей практикой, то его наивное воспоминание будет обладать потенциалом плотного описания {87}. В сочетании с воспоминаниями о сравнимых ситуациях это описание можно контролировать и доводить либо до насыщенного и освобожденного от индивидуальных особенностей описания структуры, либо до характеристики некоего габитуса, социального структурирования диспозиций для практики индивида {88}.
Но получать такую информацию посредством бесед – в полевой социологии их называют экспертными интервью – бывает порой трудно. От интервьюера требуется глубоко «входить» в материал, чтобы, с одной стороны, он сам понимал значение своих вопросов для своего исследования и обладал достаточным терпением, чтобы выслушивать подобные описательные воспоминания, а с другой стороны, мог на основе своих познаний задавать достаточно точные дополнительные вопросы, поддерживая процесс воспоминания о рутинных повседневных действиях (какие трудовые операции осуществлялись на том или ином рабочем месте, как проходил среднестатистический день и т. д.), и производить на респондента впечатление человека, которому стоит рассказывать подобные вещи. Для интервьюируемого же трудность заключается часто в том, что он не может понять смысл вопроса (например, такого: как были обставлены те три квартиры, в которых он последовательно жил в детские годы?), или что его раздражает тривиальность предмета, или он предполагает, что интервьюер обладает некими познаниями вообще либо по данной конкретной теме («Ну, девочка моя, вы же знаете, что в хозяйстве делать приходится»), в то время как это может быть не так. Но работа по воспоминанию подробных описаний повседневности предполагает преодоление таких коммуникативных барьеров с обеих сторон.
Субъективность опыта повседневности и паттерны собственного смысла, заложенного в повседневности, невозможно реконструировать из комбинаций воспоминаний таким же образом, потому что они, как правило, подвержены воздействию позднейших или поступающих извне (фактически или на взгляд респондента) толкований, так что сведения, сообщаемые в интервью-воспоминании, варьируют в соответствии не столько с мерой и характером участия респондента в этих повседневных делах, сколько с тем, что он прожил и передумал с тех пор. Но поскольку аспекты повседневности не только являются элементами специфических групповых структур, но и описывают зону практики индивида, то субъективное восприятие их измерений и внутренней структуры имеет особое историческое значение {89}: какого рода проблемы с какими партнерами можно решать в этих рамках? Для чего необходимы организационные или институциональные решения? Является ли восприятие смысла совместимым со структурами повседневности или компенсирующим их? Как приватный мир человека соединяется с более крупными жизненными структурами, которые создаются средствами массовой информации, рынками или центрами политической власти? Поэтому необходимо пытаться скорректировать искажения, вызванные «эффектом ностальгии», когда память реконструирует структуры значения повседневности для субъекта. Для этого существуют главным образом две возможности: по крайней мере постольку, поскольку сообщаемые респондентом толкования отклоняются от тех, что господствуют (фактически или на взгляд респондента) ныне, можно подозревать, что они «правильные», оригинальные. Но кроме этого можно проверять и совпадение между описанием деталей и истолкованием целого: организуют ли они материал, рассказанный человеком в воспоминании о его рутинных повседневных делах? Совместимы ли они с фактами, сообщаемыми в других сохранившихся свидетельствах?
Хороший пример этому мы находим в работах Франца-Йозефа Брюггемайера о культуре шахтеров в эпоху бурного роста горнодобывающей промышленности Рурской области на рубеже XIX-ХХ веков {90}. В беседах со старыми горняками Брюггемайер обратил внимание на то, что в свое нынешнее истолкование тогдашних условий жизни и труда они все время вносили элементы самостоятельности, свободы, трезвого расчета и кооперации. Это противоречило всему, что ученый прежде знал из источников той эпохи, где поведение этих рабочих описывалось как нестабильное и неадаптивное: исследователи интерпретировали его как нецелесообразный пережиток аграрных ценностей и как паттерн поведения, характерный для мигрантов, столкнувшихся с дисциплинарными требованиями индустриального образа жизни. Среднему наблюдателю самоинтерпретация шахтеров во время интервью кажется ностальгическим искажением действительности, потому что он рассматривает условия их жизни и труда как крайне убогие и неустойчивые, в то время как предпосылками для самостоятельности, свободы и т. п. он привык считать материальное благосостояние и уверенность в завтрашнем дне. Однако, точно реконструировав условия повседневной жизни и работы этих людей, исследователь обнаружил, что противоречия вовсе не было, потому что в специфических условиях принятой тогда групповой работы в забое, в условиях вынужденного общежития, в условиях высокой мобильности при большой потребности отрасли в рабочей силе, справляться с бытовыми тяготами можно было только развив в себе повышенную способность к кооперации и самостоятельно управляя собою.
Итак, опыт исследовательских проектов в жанре устной истории учит, что интервью-воспоминание в самом деле позволяет реконструировать повседневные рутинные действия и условия жизни, которые иначе – в отсутствие других источников – пришлось бы считать навсегда утраченными для истории. Кроме того, оно дает возможность получить их осмысление и истолкование из уст самих участников этой жизни. Но этот же опыт позволяет увидеть и границы возможностей такого подхода. Мои заключения на сей счет основаны на единичных наблюдениях и не подкреплены эмпирически, поэтому вполне возможно, что при дальнейшем эвристическом развитии дисциплины удастся преодолеть те ограничения, о которых я говорю.
По моим наблюдениям, повседневная рутина вспоминается и описывается тем лучше, чем она была предметнее и пластичнее, чем больше в ней находили применение практические навыки (в противоположность базовым теоретическим знаниям) и чем в большей мере ее смысл раскрывался в непосредственно проживаемых событиях – таких, как, например, употребление некоего продукта. Работник ремесленной специальности или домохозяйка, ведущая подсобное сельское хозяйство, мне кажется, гораздо лучше могут описать и истолковать свою работу в ходе интервью-воспоминания, чем, например, рабочий, стоящий у конвейера, или конторская делопроизводительница. Когда будни состоят в основном из тривиальных действий, эффект которых абстрактен, а ответственность распылена и смысл производимой работы можно оценить только в контекстах такого масштаба, который недоступен восприятию работника, так что он осмысляет свой труд в основном исходя из его оплаты и социального статуса, в таких обстоятельствах попытки человека во время интервью-воспоминания описать свою работу зачастую оказываются беспомощными, а его рассказ – о социальных отношениях, например, внутри административного учреждения – смешивается до полной неразличимости с показными утверждениями, направленными на поддержание чувства собственного достоинства {91}. Это, впрочем, относится не только к управленческой деятельности, но к большому и все увеличивающемуся сегменту трудовой жизни, организованной по современным стандартам.
Далее, в воспоминании – или в рассказе, адресованном более молодому и незнакомому человеку, каким является интервьюер, – отличия описываются более подробно, нежели сходства. Больше всего стимулируют память и просятся в рассказ именно те феномены повседневной культуры, которые не отвечают нынешним обычаям и ожиданиям, а порой и вовсе уже не встречаются более. А то, что тогда было примерно так же, как сейчас, расплывается в общей картине «обычной жизни», так что менее яркие отличия скрадываются. Четкие контуры достигаются лишь при сильной дифференциации, и в устно рассказанных историях специфику оттенков зафиксировать очень трудно. Опыт – и не только в нашем проекте – показал {92}, что воспоминания и спонтанность интервьюируемого ослабевают, когда рассказ доходит до 1950-х годов и отличия от сегодняшнего дня уже не радикальны, а скорее являют собой лишь количественные градации одних и тех же вещей. Возможно, это – специфика возрастной группы тех, кого сегодня чаще всего опрашивают (т. е. людей старше шестидесяти) {93}, но все же свидетельствует и о том, что в принципе континуитет мешает вспоминать, топя чуть более выпуклые и кажущиеся достойными упоминания вещи в море привычной повседневности.
В более общем плане можно сказать так: реконструкции повседневной жизни с помощью интервью-воспоминаний более успешны применительно к тем явлениям, которые еще имели место в жизни современников, но теперь уже в таком виде более не существуют, нежели к тем, которые возникли на их памяти и продолжают существовать ныне. Это может показаться историку банальностью; важная ограничивающая функция этого положения становится видна только если учесть, что оно относится к специфическому методу изучения современной истории. Потому что если современная история вообще чем-то отличается от прочей, то именно тем, что она изучает события и структуры, с которыми ныне живущие люди еще связаны непосредственными узами опыта и власти.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?