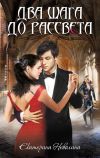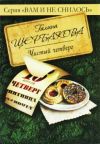Текст книги "Лань"

Автор книги: Магда Сабо
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Магда Сабо
Лань
1
Я хотела прийти к тебе раньше, да пришлось дожидаться Дюрицу, ты ведь знаешь, он вечно опаздывает. Сказал, будет к девяти, да где там: одиннадцать минуло, когда он появился наконец в воротах. Дюрицу все принимают за агитатора или уполномоченного по подписке, даже докторский саквояж в руках не помогает. Он остановился посреди двора и, щурясь, стал искать глазами 39-ю квартиру, куда мы его вызвали; женщины на галереях попрятались в комнаты и закрыли двери. Добравшись к нам, он долго не мог отдышаться, вытирал потный лоб, потом попросил у Гизики стакан воды. Про ногу мою сказал: нужен покой и холодные примочки, а так ничего страшного. До завтра опухоль все равно не спадет, так что с дерева мне не прыгать. «Их поведу я там и сям. Меня боятся здесь и там, по городам и по полям. Веди их, дух, то здесь, то там».[1]1
Слова Пэка, маленького эльфа, из пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь» (в переводе Т. Щепкипой-Куперник). (Героиня вспоминает отрывок из своей роли. Эта роль имеется в виду и в предыдущей фразе: Пэк – озорной и стремительный эльф, в последнем действии пьесы он прыгает с дерева.)
[Закрыть] О тебе Дюрица не говорил. Не потому, что неуместно: просто говорить было уже нечего. В самом деле, что тут скажешь? Он все глазел на Гизику, которая, положив руки на колени, сидела неподвижно у круглого столика как настоящая хозяйка, а когда Дюрица поднялся, плеснула воды в таз и подала приготовленное чистое полотенце.
Кровать мы застелили уже, но мои перчатки и сумка брошенные валялись там; трудно было не заметить, что я здесь ночевала. Палка Йожи, синтетический его плащ с капюшоном висели на вешалке: на полочке над умывальником остались его кисточка для бритья и мыльная палочка. Я сидела в цветастом Халате, который дала мне Гизика; сама она уже успела надеть черное платье и как раз гладила передник и наколку, когда пришел Дюрица. Пока он ощупывал мою ногу, с галереи в комнату вбежала большая трехцветная кошка, любимица Гизики, и стала тереться о брюки Дюрицы, оставляя на них клочья линяющей шерсти. Гизика так тщательно мыла таз после Дюрицы, словно заразы боялась.
Я собиралась сначала ночевать на Острове.[2]2
Имеется в виду остров Маргит в Будапеште.
[Закрыть] Вечером дома никого не было, Юли ушла ко всенощной. Я написала ей записку, что еду в Гранд-отель, взяла вещи и вызвала такси. Доехала до летного кинотеатра, отпустила машину. Из Гранд-отеля доносилась музыка, я уже хотела было войти, но тут как раз начали поднимать синие парусиновые навесы над столами: солнце село. Служитель крутил какую-то рукоятку, и синяя парусина медленно, нехотя съеживалась – по мере того как складывался металлический каркас, на который натянута была ткань. На мгновение я увидела на парусине заплату – помнишь, ее на наших глазах посадил обивщик – и даже ощутила запах той бури, и передо мной возникла стеклянная стена ресторана, из-за которой мы смотрели на плеск дождя и хлесткие молнии.
Я повернулась и отправилась обратно в город. Поднялась по лестнице к своей квартире – и тут увидела Гизику: аккуратно расправив на коленях платье, она сидела на верхней ступеньке и ждала. У нее был свободный день, и она пришла позвать меня на ночь к себе. Мы не разговаривали, не объясняли ничего друг другу. Дом, где она живет, – один из тех безобразных многоквартирных домов, каких много в столице; окна квартир выходят на висячие галереи; квартира Гизики 39-я, но есть там и 60-й номер, возле лестницы на чердак. На галерее почти возле каждой двери висела на крюке птичья клетка, внизу, во дворе, визжали дети, из окон несло запахами обеда; дверь общей уборной распахнута была настежь.
Входя к Гизике, я споткнулась о мусорное ведро, и через полчаса нога в щиколотке распухла. Я поужинала в постели; Гизика испекла оладьи со сметаной. В комнате было две кровати, Гизика постелила только одну, в ней мы и спали с ней; над нами висел свадебный портрет Юсти – совсем юная невеста с потупленным взором, в руке крохотный миртовый букетик. Не знаю, куда Гизика отослала Йожи; спрашивать мне не хотелось.
Ночью мы не спали почти: у меня болела нога, Гизика то и дело вскакивала поменять компресс. Утром она побежала в продовольственный магазин – позвонить врачу; дальше ты знаешь. Когда Дюрица ушел, она вызвала такси, доехала со мной до площади – «Лебедь» там всего в сотне метров, – а я поехала сюда. У ворот сидели цветочницы, они стали было предлагать мне цветы, но потом оставили в покое. Я купила в киоске дюжину шпилек: опять растеряла свои шпильки. Хотела было войти в ворота – и тут увидела цветущие ветви, свисающие из-за ограды, и не вошла. Вчера я не заметила их или не разглядела как следует и лишь теперь увидела, что это текома, сверху донизу осыпанная кроваво-красными продолговатыми граммофончиками.
Ты знаешь вообще-то, что это за растение, текома?
Отец бы сказал и латинское его название; я тоже когда-то его знала, – потом, может, вспомню. Если бы тебе привелось побывать на Мощеной улице, ты бы знал, что это за растение, какие у него кривые, упрямые, цепкие ветки-стволы; а цветы – будто маленькие горны. Когда я в первый раз пришла к Ангеле, она стояла у изгороди, держась одной рукой за решетку, высматривала, иду ли я наконец, а в губах держала красный раструб цветка текомы.
Словом, я так и не свернула в ворота, прошла дальше, н часовне. На мне были туфли Гизики: у нее размер больше моего, – но все равно распухшей ноге было тесно, она горела, наливалась пульсирующей болью. В часовне я сразу же сняла туфли, сунула ноги под скамью; каменный пол холодил пылающие ступни. В часовне, кроме меня, был только один старик, он стоял на коленях перед святым Анталом, губы у него шевелились, а руки были сложены, как у Пипи в «Святой Иоанне»; он молился истово, со вкусом. Окончив молиться, бросил в церковную кружку старую, потемневшую монету в двадцать филлеров. Едва он ушел, я принялась плакать.
Ваню, например, в восторг приводит мой мелодичный, трогательный плач. Слышал бы он в тот момент, как я скулила и захлебывалась, глотая слезы. Сама не знаю, отчего я плакала; я думаю, этому не ты был причиной, а полумрак и тишина, царящие в часовне. Не помню, когда я в последний раз была в церкви. В прохладной полутьме светила негасимая лампада, на алтаре девы Марии лежали розы, пышные желтые розы. Невыносимо хорошо было в церкви, несказанно хорошо. Если бы я верила в какого-нибудь бога, если бы вообще во что-нибудь верила, мне едва ли было бы так хорошо. Я бы тут же стала надоедать небесам с какой-нибудь просьбой, жаловалась бы, умоляла, даже обещала бы что-нибудь взамен. А так я просто выплакалась; я знала, что никто мне не поможет, и не просила помощи; даже если бы и умела просить, все равно в этом не было смысла, так что незачем было лгать, чтобы потом с облегченной душой и покрасневшим распухшим носом уйти, переложив на плечи святых и бога все, что меня гнетет. Нет, вся моя тяжесть осталась со мной: я немного расслабилась наконец – и потому мне стало еще тяжелее, гораздо тяжелее. Не могу объяснить, почему же все-таки мне было так хорошо.
Собравшись уходить, я едва втиснула больную ногу в туфлю Гизики; шнурок завязать не сумела, но распухшая нога так плотно заполнила туфлю, до самых перепонок, что можно было не бояться, что она свалится. Я обошла главные ворота стороной – не хотелось снова увидеть текому – и вошла через боковую калитку. Надеюсь, никто из знакомых здесь не попадется. Я снова сняла туфли, и вот сижу на земле, босая. Слабый ветерок овевает меня – такой слабый, что еле шевелит листья на ветках. По земле бежит какой-то жучок, вот он обогнул мои пальцы – такой красивый, изящный жучок с синими надкрыльями. Отец, наверное, сказал бы, что это Calosoma Sicophanta, и убрал бы с его пути косточку абрикоса, и серьезно сказал бы вдогонку: «Ступай с миром, путник!»
Я думаю, отец бы тебе понравился. Я не рассказала тебе о нем – ведь я вообще почти никому ни о чем не рассказывала, ни тебе, пи другим. В детстве я столько лет молчала, что не научилась говорить и после; я умею лишь лгать или молчать. То, что я пишу в своей автобиографии, – это ложь. То, что говорят обо мне люди, – тоже ложь. Я так искусно умею лгать, что ложью могла бы зарабатывать себе на жизнь. Знаешь, когда я окончательно поняла, что у меня не может быть никаких иллюзий относительно себя? Когда увидела, что даже тебе не могу сказать правды.
Но это, например, правда: что отец сейчас сказал бы жуку: «Ступай с миром, путник!» И присел бы возле него. Интересно: когда я думаю о нем, я всегда вижу его присевшим, вижу, как редкие светлые волосы его в беспорядке падают на удивительно выпуклый, красивый лоб, как он смотрит из-под очков на какой-нибудь цветок или на жука. Лоб его видится мне как бы покрытым росой: он всегда был немножко потным; не неприятно мокрым от пота, а чуть запотевшим, словно кто-то дохнул на стекло и пар от дыхания так и остался на нем навсегда. Когда отец умер, этот росный налет застыл у него на лице, я стерла его ладонью, потому что платки, постиранные мной накануне, еще не высохли; была зима, мокрое белье висело, хрустящее, на чердаке. Самыми тонкими были платки тети Ирмы, я сушила их под утюгом, чтобы матушке было во что плакать. О тете Ирме я тебе тоже ничего не рассказывала: а ведь в ее туфлях я ходила целых два года.
Ты не замечал, что когда я на пляже выхожу из воды, то сразу надеваю сандалии? И на мостки обязательно ступаю левой ногой, а правую, едва вынув из воды, сразу стараюсь сунуть в обувь. В Сольноке, когда мы поднялись к себе в номера и ты пришел ко мне, я сидела в постели, не вытянув ноги, а поджав их под себя. На рассвете, когда ты, уходя, включил свет и стал искать свои часы и бумажник, я натянула на себя одеяло и даже подоткнула его себе под ноги, а ты смеялся, удивляясь моей стыдливости.
Пипи мог бы многое рассказать обо мне, и ты бы увидел, что вовсе не в стыдливости тут дело. Когда жарко, я охотней всего ходила бы нагишом. Но тот же Пипи знает, что на правой ноге у меня две костные мозоли, которые болят всегда, во всякой обуви, даже сшитой на заказ. Как ты злился, когда я не разрешила тебе пойти со мной мерить туфли к Сурдусу, те красные туфли с ремешком. Я не хотела, чтобы ты видел мою правую ногу. Я не хотела тебе рассказывать о тете Ирме.
Вчера у меня распухла как раз правая нога, и я, показывая ее Дюрице, так и не сняла домашних тапочек. Сейчас правая нога у меня болит так же сильно, как в детстве, когда я носила туфли, подаренные тетей Ирмой. У тети Ирмы ноги были крошечные, будто у ребенка, и она гордилась ими тоже как ребенок. Я уже училась в первом классе гимназии; сандалии мои за лето пришли в ужасающий вид, и однажды вечером я отправилась к Амбрушу, сапожнику, попросить у него дратвы, зашить туфли. Амбруш дратву дал, но шить мне все же не позволил, починил туфли сам. «Что за это?» – спросила я; Амбруш велел покормить свиней, и я потащила ушат с помоями двум жирным орущим бестиям и чуть не надорвалась, поднимая ушат над загородкой, потому что, если б я решилась войти к ним, они бы меня сбили с ног, так что пришлось выливать помои через изгородь. Потом еще нужно было посадить заплату на синие штаны Амбруша, в которых он по воскресеньям работал в саду – и на этом мы с ним расквитались. Мне, во всяком случае, показалось, что я с лихвой отработала ту несчастную дратву. Отец сидел в саду, когда я пришла домой, босиком, держа сандалии в руках. «Туфли бы тебе нужны», – сказал отец, и матушка вздохнула: «Нужны…» Я же пошла в кухню, посмотреть, есть ли у нас что-нибудь на ужин. «Туфли нужны»… Конечно, нужны. Как-нибудь протяну зиму. Нету туфель.
В тот вечер к нам пришла тетя Ирма. Отец уже лег, и матушка достала вишневый ликер, который отцу пить нельзя было; сама она тоже не пила, только делала вид, будто пьет, а когда гость уходил, нетронутый свой стакан осторожно, по капле переливала обратно в ликерный графинчик в серебряной сетке. Тетя Ирма очень любила меня: усаживала на колени, гладила, угощала конфетами, я же терпела ее ласки, словно малолетняя шлюха, и с вожделением смотрела на нее, гадая, даст ли она денег. Деньги она давала очень редко, можно сказать, никогда; но почти каждый раз приносила что-нибудь в подарок. На сей раз это была нитка красных коралловых бус – ведь я уже вон какая взрослая девица, гимназистка; она тут же надела их мне на шею и долго меня целовала. А я глядела и чуть не ревела с досады. Ведь если продать бусы ювелиру, он, того гляди, поместит их в витрину, а тетя Ирма, конечно, узнает их. Господи, настоящие кораллы! В то время как у меня нет приличной юбки. Я слезла с ее колен, чувствуя, что сегодня не в состоянии выносить ее ласки.
Я осталась возле стола; на фартуке у меня, внизу, расплылось пятно от помоев, босые ноги в пыли, а на шее красуются кораллы. Тетя Ирма оглядела меня и спросила, в чем я собираюсь идти на торжественный утренник первого сентября. Матушка вздохнула: в гимназии требовалось иметь три форменных платья, а у меня пока не было ни одного. Так она и не ответила тете Ирме, лишь что-то пробормотала уклончиво. Маленькие глазки тети Ирмы вдруг озарились радостью. Явно наслаждаясь ситуацией, она вытянула одну ногу, поставила ее рядом с моей босой, потом под прикрытием скатерти с кистями сняла свои туфли и примерила мои сандалии. И несказанно была горда и счастлива, что сандалии оказались ей даже чуть-чуть велики. И тут же заявила матушке, дескать, пусть это не будет понято как-нибудь не так, все-таки мы родственники, и притом близкие: все же матушка ей двоюродная сестра, а меня она любит как родную; так что, уж если выпал такой необычный случай, что ноги у нас одинаковы, то она пришлет мне к первому сентября какие-нибудь свои туфли, – ей они все равно быстро надоедают и она постоянно заказывает себе новые, а старые так и валяются без применения. Я взглянула на ее ноги: на ней были желтые туфли из мягкой кожи, со средней высоты каблуком, маленькие и красивые, словно игрушечные. Матушка опустила глаза.
На следующий день я получила пару черных туфель с пуговицами сбоку и с серого цвета вставкой из антилоповой кожи. На утренник я пришла в белом платье, хотя погода в это сентябрьское утро была ветреной, хмурой, собирался дождь, весь класс оделся в темно-синюю, как предписывали правила, форму, и все равно некоторые, продрогнув, надели сверху еще и пальто. Мне, закаленной, холод был не страшен, как какому-нибудь лесному зверьку; насупившись, шла я в строю в церковь, спотыкаясь в проклятых туфлях с пуговицами. Классная дама, отозвав меня в сторону, велела передать родителям, чтобы они купили мне нормальную обувь, на девочку, а не такие взрослые туфли, бросающиеся в глаза. Я поинтересовалась, даст ли гимназия вместо этих туфель другие; она спросила мою фамилию, а услышав ее, покраснела и больше никогда не напоминала мне про обувь. Гимназия основана была моим прадедом и до сих пор носила его имя, называлась: Гимназия имени Мозеша Энчи. Мне там полагалось место как правнучке основателя, и я ходила туда в туфлях с пуговицами.
Спустя год выяснилось, что правая нога у тети Ирмы на размер меньше левой. Сначала мне просто было больно, потом я стала хромать, а вскоре совсем не могла ходить. Матушка плакала, когда вечером я мыла ноги и она видела мои распухшие, стертые в кровь пальцы. К тому времени у меня уже было четыре пары тетушкиных туфель, одна красивей другой. Когда тетя Ирма умерла, первым моим чувством было облегчение: больше она не будет дарить мне туфли. Матушка всегда лелеяла мечту, что тетя Ирма завещает мне все свое достояние; все – то есть дом, платья и мебель; но завещания после нее не осталось, все вещи собрал и увез брат тети Ирмы.
Я пошла к Амбрушу и попросила отрезать у туфель носы. В то время безносая обувь не вошла еще в моду, Отец побледнел, когда я пришла домой в изуродованных туфлях, с торчащими наружу пальцами в заштопанных чулках. Некоторое время я и в школу так ходила, пока классная дама не купила из какой-то церковной субсидии пару туфель и не вручила их мне однажды после мессы. Я поцеловала ей руку и спросила, что нужно за это делать, С того времени я стала ходить в интернат, помогать учить уроки третьеклассникам.
Вчера, кстати, занятие па Посудном заводе так и не состоялось. Впрочем, хоть бы и состоялось – мне было все равно. Так что все быстро кончилось, я пошла домой пешком, Пипи проводил меня до театра. Я была абсолютно спокойна, рассматривала витрины, на Кольце съела мороженое. Юли не было, когда я пришла; вначале я вообще не собиралась домой; я взяла книгу. Даже прилегла, но тут же поднялась, сварить кофе. Стала молоть его, запах ударил в нос – и я уже не хотела никакого кофе, потому что вдруг увидела тебя рядом, на кухонной табуретке, ты молол кофе, смеялся, и мне вспомнилась зима, когда я два дня играла в Пече, потом, уже вернувшись в Будапешт, на вокзале, в какой-то апатии брела через сугробы к стоянке такси. Я не видела тебя с самого рассвета; терпеть не могу играть, если тебя нет где-нибудь поблизости. Подойдя к стоянке, я увидела возле такси тебя, ты ел булочку, потом сел со мной в машину и сказал, что, собственно, хорошо бы выпить кофе…
Я ушла из кухни, села за письменный стол, – писать автобиографию. В девятый раз – с тех пор как я в театре. Я написала свое имя, а потом водила пером по бумаге, рисовала рыб и гусей. Подошла к платяному шкафу за платком: высморкаться. Достала сразу три носовых платка, потом открыла аптечку: опять расцарапала палец о заедающий замок в дверце шкафа. И там, за баночками и пузырьками, за бинтом обнаружила коробку вишен в шоколаде: понятия не имею, когда ты ее туда спрятал. На коробке было написано твоим почерком: Аспирин. И тут я оделась и отправилась на Остров.
Автобиографию нужно было принести сегодня: на сегодня меня вызвал новый начальник отдела кадров. За это время, он, конечно, опросил всех, кого только можно, и знает обо мне все без автобиографии. Но тоже начнет задавать вопросы. «Деже Энчи… – скажет он. – Ага, значит, ваш отец был адвокатом». И попробуй объясни ему, что, собственно говоря, в истинном смысле слова отец никогда адвокатом не был! Он просто решил бы, что я изворачиваюсь. Ведь отец действительно был адвокатом, а матушка целый день сидела за роялем, перелистывая ноты. Музыка у нас звучала с утра до вечера, а под окнами отцовского кабинета цвели экзотические растения, и отец в задумчивости смотрел на пурпурные чаши Epiphillum'a. Девичья фамилия матушки, происходившей из рода Мартонов, включала целых три дворянских прозвания: Эрчикская, Папская и Сентмартонская. В центре нотной подставки на рояле блестела круглая миниатюра на фарфоре: мальчик Моцарт, в крошечном парике и небесно-синем костюмчике. Однажды я украла несколько яиц у крестьянки.
В дом, где мы жили, во время войны попала бомба. Мне всегда хотелось тебе показать – конечно, так, чтобы ты не узнал об этом – вот здесь я когда-то жила. Я хотела видеть твое лицо, слышать, что ты скажешь, когда, свернув с Греческой площади, выйдешь к камышовым зарослям. У нашей улицы и названия-то настоящего не было; ее просто звали: Дамба. На окраине города, в пойме реки, бродили резальщики камыша, неся на плечах камышовые связки. После знаменитого наводнения 1803 года городские власти навезли на самое уязвимое место огромные, неуклюжие глыбы, сложили из них высокую дамбу и утрамбовали сверху землей. С течением времени дамбу облепили, как птичьи гнезда, мещанские домики. Одни, вскарабкавшись к самому верху, выглядывали оттуда на реку, на камышовые заросли, другие сидели в углублениях между глыбами, словно шею втянув в плечи. Где совсем ничего нельзя было выстроить, лез из камней бурьян, цвели какие-то буйные цветы с мясистыми, как губы, лепестками. Наш домик пристроился в изгибе дамбы, так что крутой каменистый откос ее служил естественной оградой двора, я выглядывала из-за нее, как из-за каменного бруствера. Дом достался отцу в наследство, это было до моего рождения, а когда нам пришлось съехать с Церковносадской улицы, отец привез матушку и меня в этот дом.
Двор у нас был треугольной формы; окна в доме смотрели на улицу, а кроны деревьев, что росли во дворе, образуя маленький сад, выглядывали через дамбу на камышовые просторы поймы. В дом входили из сада. Прямо с порога была кухня, из нее вели двери: влево – в нашу комнату и вправо – в кабинет отца. В кухне матушка протянула веревочку и повесила на нее лиловую ситцевую занавеску, которая закрывала ушат для умывания и плиту; когда мы разжигали огонь в плите, из-под лиловой занавески, сбоку, сверху, валил дым. У нас было три яблони, под откосом дамбы росли карликовые японские кустики, жасмин, сирень; на клумбах цвели тюльпаны темных оттенков и много других цветов, среди них – несколько старых розовых кустов. С весны и до осени, особенно по вечерам и ранним утром, аромат цветов висел в воздухе плотным тяжелым облаком.
Слева нашим соседом был Амбруш, сапожник, справа – тетка Карасиха, которая устроила у себя что-то вроде кондитерской или маленького кафе, выровняв в своем саду землю и поставив маленькие беседки-загончики и столики под пестрыми зонтиками. Наш двор не просматривался оттуда, загороженный густой растительностью. Вечерами я взбиралась на изгородь, разделявшую наши участки, и сидела там, уцепившись за толстый, как дерево, ствол старого-престарого жасминового куста, глядя, как в беседках тетки Карасихи целуются влюбленные парочки. На наших воротах висел шнурок колокольчика, на стене дома прикреплена была табличка: «Д-р Деже Энчи, адвокат». Когда я последний раз была на Дамбе, в мастерской Амбруша жила незнакомая семья, в саду ресторана, построенного на месте кондитерской тетки Карасихи, ревело радио, люди Нили пиво, вино с содовой; в меню был гуляш из свиных ножек, больше мясных блюд там не значилось. Наш бывший участок расчищен был от обломков, изгородь тоже исчезла, от клумб и следа не осталось; о саде нашем напоминала лишь одна яблоня да несколько карликовых кустов; с улицы участок отгорожен был дощатым забором, выкрашенным зеленой краской. Ни одного знакомого лица не встретилось мне. Я съела яичницу, выпила стакан пива и ушла.
Гизика ночью спросила, не знаю ли я что-нибудь про Эмиля. Она долго не решалась задать мне этот вопрос, ворочалась, прокашливалась. В комнате было темно, окно на галерею мы оставили открытым, дом спал, лишь на улице погромыхивал время от времени трамвай. Я не посмела спросить, куда она отослала Йожи; было б лучше, если бы он сопел где-нибудь поблизости: мне куда спокойней было бы с Йожи, чем дома с Юли. Я подумала тогда, что ты, ведь и Эмиля совсем не знал, и мне вспомнилась одна его детская фотография, где он был снят с барабаном; вспомнился мотоцикл, на котором Эмиль проносился по улицам, и угольно-черная его шевелюра над бледным лицом.
А я ведь и не догадывалась никогда, что Гизика любит Эмиля. Когда я сказала, что с ним случилось, она отвернулась и заплакала; я ощущала сквозь тонкую ткань ночной рубашки ее спину: на узкой постели можно было лежать, только прижавшись друг к другу. Поплакав, она встала, взяла свои четки. Я курила в постели и старалась представить, как Гизика выходит замуж за Эмиля, а тетя Илу прижимает ладони к вискам, по своей всегдашней привычке, и негодующе вскрикивает, дядя Доми же бросается к телефону и спрашивает у Йожи, сколько тот возьмет, чтобы убрать Гизику из их дома. Гизика долго молилась, потом сменила компресс у меня на ноге, легла и взяла меня за руку. Пальцы ее были холодными от воды. Гизика верит, что Эмиль живет где-то, в каких-то заоблачных высях, где разносятся песнопения удостоившихся блаженства счастливцев; она верит, что когда-нибудь они там встретятся, чтобы никогда уже не расставаться. До сих пор я не понимала, почему Гизика не вышла замуж.
К автобиографии дали огромную простыню-анкету и велели ответить на бог знает сколько вопросов. Например, есть ли у меня родственники за границей, в лагерях для интернированных, в тюрьме. Тут мне, собственно, нужна была бы дополнительная анкета: Дюрка Паллаи схвачен на границе, Эви Долхаи, пытаясь перейти границу, наступила на мину и ей оторвало обе ноги, дядю Белу сбросили с лестницы в его собственном доме, Александра уже много лет в тюрьме. Остальные родственники, когда-то влиятельные, полновластные хозяева разных городов и комитатов, все выселены в деревни, на хутора между Кёваром и Куташи. Одной лишь Юдитке, можно сказать, повезло: она живет в Америке. Написать все это – а потом можно подписаться: Эстер Энчи-Сентпалская, актриса театра имени Лендваи, лауреат премии Кошута. Вчера вдруг вспомнилась еще тетя Веронка; надо бы сказать завкадрами, пусть доложит куда следует, чтобы ее лишили пенсии, которую она все еще получает и при этом разгуливает себе целыми днями со своей черной палкой да с собакой, а у самой муж был председателем судебной палаты. Впрочем, завкадрами ни на секунду бы мне не поверил, решил бы, что я лгу и таким примитивным способом пытаюсь добиться для себя каких-то выгод. А я ненавижу всех своих родственников.
«Тебя, наверное, аист принес», – сказал ты, когда мы впервые пили кофе в Крепости. «Ну да, – ответила я мрачно, – черный аист». Я рассматривала в витрине на стене расшитые бисером кисеты, старинные пистолеты, домашние шапочки, веера. Дома у нас в таком вот расшитом кисете, отдающем бидермейером, держали шерсть для вязания. Отец постоянно зяб, и мы вязали ему душегрейки и теплое белье. Я ужасно любила своего отца.
Родилась я еще на Проспекте, в самом аристократическом квартале города, и когда появилась на свет, матушка оповестила семью о радостном событии, разослав прикрепленную к визиткам родителей, украшенным фамильными гербами, крохотную визитную карточку. О днях, проведенных в постели, с младенцем у груди, матушка вспоминала как о самой счастливой поре своей жизни. В кружевном пеньюаре, сияющая, цветущая, лежала она во всей юной прелести своих девятнадцати лет, а рядом с ней, в колыбельке, благовоспитанно и мирно посапывала я. В то время мы держали горничную и кухарку, в кабинете отца стояла новенькая мебель. Тогда к нам, впервые после матушкиного замужества, пришла бабушка; отцу она лишь сухо кивнула, словно он не имел никакого отношения пи к ее дочери, ни к внучке, а меня взяла на руки, расцеловала и повесила мне на крохотную шейку какое-то старинное, колючее украшение, оно оцарапало мне грудь, и я громко заплакала.
Бабушка ненавидела отца, так никогда и не сумев простить ему, что он не захотел служить ни в городских, ни в комитатских ведомствах, а выбрал частную адвокатскую практику, будто какой-нибудь еврей; не простила она ему и того, что матушка, несмотря на все мольбы и угрозы, все же вышла за него замуж, да еще и любила его, любила такой слепой и страстной любовью, на которую бабушка никогда не была способна и которую потому считала непонятной и даже безнравственной.
Позже, после смерти отца, когда мы с матушкой сидели рядом бесконечно длинными и какими-то пустыми, бессмысленными вечерами – она с шитьем, а я – устав от уроков и отодвинув в сторону книги, – мы много разговаривали о нашей родне и об отце. Пока он был жив, часто незаметно было, что он в доме – так тихо ходил он и так мало двигался; чаще всего он лежал с книгой или сидел на корточках возле своих цветов и острой щепочкой рыхлил землю между рядками ровных, как шеренга крошечных солдат, растений. Когда отца не стало, именно тишина всегда вызывала в памяти его образ; он не умел быть шумным, я никогда не слышала, чтобы он повысил голос. Матушка долго, отчаянными усилиями пыталась сохранить посаженные им растения – а когда все они высохли, заболели, увяли, словно осознав, что за ними ухаживают чужие руки, и без отца тоже потеряв всякий вкус к жизни, – матушка горько рыдала, оплакивая гибнущие цветы.
Дом наш был уничтожен во время войны, когда бомбили город. Мы как раз были на лесопилке, где пережидали налет, а тетушка Гаман сидела со своей семьей в кино; после получасовой бомбежки мы брели домой среди трупов и развалин. Дом наш в изгибе дамбы исчез, будто никогда и не стоял здесь, между участками Амбруша и Карасихи. На его месте зияла глубокая яма, вокруг валялись обломки мебели, щенки, осколки кирпича; даже в камыше за дамбой находили потом паши кастрюли. Матушка не плакала; она даже не побледнела в тот момент. Ночью, в актовом зале школы, вместе с другими бездомными, мы спали спокойным, беззаботным сном. Я чувствовала себя любимицей чуть ли не всей страны: каждый считал своим долгом заботиться о нас, город разделил со мной ответственность за семью, мы были лишены всего, и не нужно было думать со страхом, что будет, если случится налет. Не стало нашего рояля, и этим словно бы окончательно была поставлена точка на том, что и так уже завершилось давным-давно, когда умер отец.
Отец мой рано осиротел: дедушкина земля, которой распоряжался теперь опекун, отданная в аренду, приносила немного доходов; но их, во всяком случае, хватало на заграничные поездки, хватало на университет. Женившись, отец продал землю, обставил новой мебелью дом, сшил на заказ полдюжины новых костюмов; матушка не принесла с собой никакого приданого, даже в церковь ее не проводил никто из многочисленной семьи Мартонов – одна только тетя Ирма. Родители матушки в то время как раз уехали из города обратно в родовую усадьбу. Пока матушка училась в школе, росла, ходила на балы, они жили в городском доме, лишь на лето уезжая в Мартон. Как-то на дороге между Ловашкутом и Мартоном мы меняли колесо. Ты возился с шофером у машины, а я легла на траву недалеко от дороги, намазав лицо кремом для загара. Ты показал мне на господский дом, стоящий невдалеке; какой прекрасный образец венгерского барокко. Я хмыкнула в ответ, глядя на герб с серпом и молотом под шпилем для флага; возле каменной лестницы с балюстрадой кишели корейские детишки. «Что с тобой?» – обернулся ты, когда я вдруг расхохоталась. Словом, это был дом, где родилась матушка; здесь мужики сбросили с лестницы дядю Белу.
Отец был умным, тонким, обаятельным человеком; редкая образованность сочеталась в нем с какой-то трогательной, тихой красотой. Он был светловолос, голубоглаз, с изящным рисунком губ и носа; матушка со своей жгучей, броской красотой рядом с ним была как настоящий пожар. Не могу понять, как могла я родиться такой невзрачной от столь красивых родителей. У меня, собственно, нет своего лица, нет определенных черт, все у меня нечетко, размыто – пока я не накрашусь; у меня вместо лица – много масок. Утром я иная, чем днем, вечером иная, чем ночью. Вчера ночью, когда Гизика встала и включила свет, я случайно увидела себя в зеркале. Мне показалось, оттуда на меня глянул призрак.
Яйца я украла, когда мы однажды до того обеднели, что нам нечего было дать на ужин отцу. Во всем доме был только сухой горох да фасоль, желудок отца не принимал такую пищу. Как-то к вечеру к нам забрела женщина-крестьянка. Именно забрела: клиенты обращались к нам разве что случайно, по незнанию. Пока она разговаривала с отцом, корзина яиц, с помощью которой она рассчитывала придать большую весомость своей правоте, осталась на кухне, и я потихоньку вынула из нее полдесятка яиц. Отец, конечно, вести дело отказался, и женщина ушла. Вечером я рассказала матушке про яйца. Она расплакалась, но яйца взяла и приготовила яичницу. Мы до самозабвения обожали отца.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?