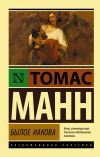Текст книги "Секреты обманчивых чудес. Беседы о литературе"

Автор книги: Меир Шалев
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Беседа третья
Гоголевская нимфа
Сегодня я хотел бы поговорить о некоторых секретах сочинительства. Вокруг предмета, именуемого «книгой», теснится множество людей: редакторы и издатели, корректоры и печатники, переплетчики и распространители, книготорговцы и критики, учителя и ученики, библиотекари и коллекционеры. Но только двое находятся в самом центре, в самом сердце литературы. Это читатель и писатель. Без этих двух книга как таковая вообще не существует, в полном смысле этого слова.
Хотя можно сказать, что писательство мыслимо и без чтения, тогда как чтение немыслимо без писательства, но это упрощенный взгляд. Дело обстоит сложнее. Даже если пишущий идет во главе, а читатель следует за ним, книга создается ими обоими. Сюжет, идеи, образы, герои – все это не успокаивается на достигнутом по завершении процесса написания книги. Книга воссоздается снова и снова с каждым ее читателем, и тысяча лиц и толкований, которые каждая новая тысяча читателей находит в ней, – убедительное тому доказательство.
Пользуясь терминами оптики, можно сказать, что книга, излучаемая памятью, душой и воображением писателя, преломляется в призме, которой является читатель. Одна память пробуждает другую, образ порождает ощущение, фраза переводится в картину, один жизненный опыт поверяется другим.
Книга, как правило, действует в той сфере жизненного опыта, которая является общей для всех читателей и одновременно разделяет их. Все мы, как известно, слепки нашего детского опыта, но, когда писатель описывает свое детство, это описание пробуждает у тысяч читателей воспоминания о тысячах иных детств. И точно так же все мы, в большинстве своем, знаем, что такое любовь (даже если затрудняемся дать ей определение), но та придуманная или реальная любовь, которую писатель пытается облечь в слова, читается в свете тысяч немых Любовей, в которых он не имеет ни доли, ни понимания.
К этому надо еще добавить, что читатель, подобно писателю, тоже существо крайне эгоцентричное. Он выбирает в книге то, что его трогает, что является хоть и чужим, но одновременно знакомым для него. С этой точки зрения, читатель похож на женщину, которая увлекается мужчинами, похожими на ее мужа. Он любит новое, которое напоминает ему старое, иное, что волнует сходством со знакомым, и знакомое, которое удивляет его новизной. Что-то такое, что известно многим другим, но только он, на свой лад, понимает.
Пишущий обязан принимать это во внимание. Он должен быть щедрым и терпеливым. Я помню отзывы некоторых читателей на мои первые книги. В свое время эти отзывы показались мне очень странными. Намеки, которые я рассеивал, как следы на дороге, эти люди даже не заметили, и хуже того – вещи, которые казались мне простыми и обыденными, они восприняли как многозначительные и глубокомысленные.
К счастью, я прочел много больше книг, чем написал, так что позиция читателя знакома мне лучше, чем позиция писателя. После некоторого периода мучительного привыкания я научился должным образом принимать эти отзывы и заодно извлекать из них конструктивные уроки.
Здесь я хочу вспомнить одного из моих наставников в этом деле – английского писателя Генри Филдинга. В своей книге «История Тома Джонса, найденыша» он много раз обращается к читателю и уже в одном из первых таких обращений говорит:
Читатель, нам невозможно знать, что ты за человек: может быть, ты сведущ в человеческой природе, как сам Шекспир, а может быть, не умнее некоторых редакторов его сочинений. Опасаясь сего последнего, мы считаем нужным, прежде чем идти с тобой далее, преподать тебе несколько спасительных наставлений, дабы ты не исказил и не оклеветал нас так грубо, как иные из названных редакторов исказили и оклеветали великого писателя[178]178
Здесь и далее цитаты из «Истории Тома Джонса, найденыша» Г. Филдинга даны в переводе А. Франковского.
[Закрыть].
В этом корень проблемы: писатель не знает своих читателей. Они неизвестны, они многочисленны, они непохожи друг на друга, они – те чужие, кому он посылает свою книгу. Но, в отличие от почтового отправления, на котором написаны имя, адрес и индекс, книгу он кладет к корзинку из тростника и посылает по течению, не зная, к кому она прибудет[179]179
Намек на историю Моисея (Исх. 2, 3-4).
[Закрыть]. Многие писатели просто кладут корзинку в воду и возвращаются домой. Они не хотят знакомиться с читателем или обращаться к нему. Но иногда нам встречается дружественный писатель, чтобы не сказать – писатель озабоченный: иногда он стоит в камышах, подобно Мириам, сестре Моисея, и издали смотрит, что произойдет, а иногда ведет себя, как Сибилла из «Избранника» Томаса Манна, которая положила в бочонок со своим сыном Григорсом записку, письмо неизвестному, который найдет его.
Такое письмо – не просто образ. Нередко писатель действительно посылает своим читателям послание прямо со страниц книги, и зачастую эти послания очень интересны и приоткрывают нам ход его мыслей. Они могут быть дружескими и существенными, или трогательными, или информативными. Порой это послания кокетливо-заискивающие, а в большинстве случаев они свидетельствуют о том, что писатель не вполне уверен в способности своей книги плыть самой или в доброжелательности тех, кто вытащит ее из воды.
Все мы с этим сталкивались. Иногда такое обращение находится прямо в тексте рассказа, иногда – особенно в детских книгах – это официальное обращение, именуемое «предисловием». Эрих Кестнер, один из величайших предпосылателей предисловий, увенчал предисловие к своей книге «Когда я был маленьким», утверждением: «Нет книги без предисловия» и далее сказал следующее:
Дорогие дети и не дети!
Друзья давно уже посмеиваются над тем, что ни одна моя книга, мол, не выходит в свет без предисловия. Мало того, были книги, к которым я ухитрялся писать по два и даже по три предисловия! Тут я, прямо сказать, неутомим. Пусть даже это дурная привычка – меня от нее не отучить. Во-первых, от дурных привычек всего труднее отучаешься, а во-вторых, я вовсе не считаю это дурной привычкой.
Предисловие для книги все равно что палисадник перед домом: оно одно из главных ее украшений. Конечно, существуют дома и без палисадников и книги без предисловиев… простите, без предисловий. Но книги с палисадником… тьфу, с предисловием мне куда милей. Я совсем не желаю, чтобы посетители с бухты-барахты вваливались ко мне в дом. Ничего хорошего в том нет ни для посетителей, ни для дома.
Этот подход Кестнер воплощал во все своих книгах – к своему собственному удовольствию и к удовольствию всех тех, кто любит предисловия. Что же касается меня, я бы предпочел предисловия менее развлекательные, такие, которые ограничиваются сообщением фактических деталей, необходимых для понимания книги.
Такое предисловие есть у Нахума Гутмана в книге «Тропа апельсиновых корок». Это предисловие имеет особую структуру: его первая часть содержит несколько справок и разъяснений по поводу первых дней Тель-Авива. Потом, под заглавием «Предисловие», Гутман в одной фразе определяет время действия (Первая мировая война) и говорит, что его книга представляет собой «правдивый рассказ о событиях, как они произошли». После этого, под заголовком «Второе предисловие», описывается сюжетный фон: изгнание евреев Тель-Авива турецкими властями и облава на молодежь, которая скрывается от мобилизации. И затем, как будто со вздохом облегчения, Гутман пишет: «Я покончил с предисловиями» – и сообщает: «Теперь мы можем перейти к первой главе».
Свою «Беатриче» он тоже предваряет необычным предисловием. Правда, он называет эти первые страницы «Вступлением», но они представляют собой не что иное, как первую часть, начало книги. Эта глава заканчивается словами: «До сих пор – вступление», и Гутман продолжает свой рассказ с той же точки. Если бы не заглавие и не заключительные слова, мы бы и не знали, что прочли вступление.
Вступление может приобрести и более личный характер. Шолом-Алейхем предваряет свою автобиографию «С ярмарки» объяснением причин ее написания:
Друзья мои не раз упрекали меня за то, что я не беру на себя труда ознакомить публику с историей своей жизни. Пора, говорили они, это было бы весьма интересно. Я послушался добрых друзей и неоднократно принимался за работу, но всякий раз откладывал перо, пока… пока не настало время. Мне не исполнилось еще и пятидесяти лет, когда я удостоился встретиться лицом к лицу с его величеством ангелом смерти.
Каждый раз, читая эти строки, я снова вспоминаю, что и я встречал этого ангела. Поскольку в данном случае это был не мой ангел, а ангел Шолом-Алейхема, моя встреча с ним была менее драматичной, чем его встреча. И тем не менее я испытал одно из самых горьких мгновений в своей читательской биографии, когда мне стало ясно, что «С ярмарки», как и «Мальчик Мотл» остались неоконченными из-за смерти автора и я никогда не узнаю их конец. Я хорошо помню ту последнюю одинокую букву в «Мальчике Мотле» – первую букву той новой главы, которая никогда не будет написана, а за ней – несколько рядом черточек, которые выглядели, как беззубый рот, и объяснение переводчика, что Шолом-Алейхем умер, не завершив эту книгу.
Я был тогда мальчиком девяти-десяти лет и почувствовал, что меня обманули. Я сердился, что меня не предупредили заранее. Из читательского эгоцентризма я больше жалел себя, чем Шолом-Алейхема. Позже, в молодости, я сталкивался и с другими неоконченными книгами: «Приключения авантюриста Феликса Круля» Томаса Манна, «Бравый солдат Швейк» Гашека и «Мертвые души» Гоголя. В прошлой беседе я уже говорил, что и тогда я испытал разочарование и огорчение, но уже не настолько остро. Я уже был старше и опытней.
Так или иначе, но в предисловии к своей автобиографии Шолом-Алейхем говорит читателю, что написать историю своей жизни его подвигло ощущение приближающегося конца:
Я сказал себе: «Вот теперь пришло время! Принимайся за дело и пиши, ибо никто не знает, что готовит тебе завтрашний день. Ты помрешь, а там придут люди, которые думают, что знают тебя насквозь, и начнут сочинять о тебе всякие небылицы. Зачем это тебе нужно? Возьмись за дело сам – ведь ты лучше всех себя знаешь – и расскажи, кто ты таков, напиши автобиографию!»
В данном случае эти слова, как уже было сказано, составляют часть вступления к автобиографии, но и там, где речь идет о романе или детской книге, предисловие призвано дать читателю намек на авторский замысел. В предисловии к «Эмилю и сыщикам» Эрих Кестнер рассказывает, что собирался написать о приключениях в Тихом океане, но официант в ресторане сказал ему: «Писать можно о том, что хорошо знаешь, что видел собственными глазами».
А во вступлении к «Кнопке и Антону» есть фраза, из-за одной которой стоит прочесть это вступление полностью: «Было это на самом деле или не было, какая разница? Главное, что история-то подлинная». Эти слова напоминают утверждение Нахума Гутмана в «Тропе апельсиновых корок», что его книга – это «правдивый рассказ о событиях, как они произошли». Но Кестнер, зная, что история никогда не рассказывает так, как оно было, определяет литературную правду более сложным и интересным образом: «Подлинной история считается в том случае, если события, в ней изложенные, могли происходить в действительности. Понятно? Если вы это поняли, значит, вы постигли важнейший закон искусства».
Несмотря на смешливую интонацию и на то, что автор обращается к детям, это определение очень серьезно. Правда и обман – главные опоры литературного искусства. Они куда важнее, чем пресловутые «реализм» и «фантазия», которые стали широко обсуждаемыми понятиями, но в действительности суть не что иное, как производные от свободы писателя сочинять и выдумывать. И поскольку читатель позволяет писателю делать с ним то, чего никогда не позволил бы никому другому: рассказывать ему истории, которых не было, или, проще говоря, дурить его, – этому читателю стоит уже в детстве прочесть объяснение Кестнера и понять этот принцип, один из важнейших в искусстве.
И вот ведь, тот же Гутман в другой своей книге «Между песками и синевой неба» отступает от своего обещания «правдиво рассказывать все, как оно произошло» и пишет: «Я не думаю, что правда, основанная на фактах, важна при написании рассказа… У рассказа есть свои запросы, хотя я должен отметить, что большая часть содержания моих книг основана на том, что было в действительности».
А Бялик в «Самосее» указывает на другой аспект той же проблемы:
Деревня, та деревня, которую я вижу в своем воображении, никогда не существовала. Ни она, ни лес, ни гномы, ни птички, ничто. Это все не что иное, как сказки и фантазии. […] Пусть будет так! Моя полная вера в абсолютное существование этих выдуманных персонажей не уменьшается от этого ни на йоту. Какая разница, были они или не были? Они существуют в моей душе, они моя родная плоть… Если фантазии таковы, то нет ничего правдивей их правды и нет ничего реальней их реальности.
А в «Тристраме Шенди», который предшествовал всем этим книгам, Лоренс Стерн формулирует короткое и прекрасное правило: «Мы избираем меньшее зло, считая более извинительным погрешить против истины, чем против красоты»[180]180
Здесь и далее цитаты из романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» Л. Стерна даны в переводе А. Франковского.
[Закрыть].
Казалось бы, Стерн говорит здесь, что он не фотограф, а художник. Но дело обстоит сложнее: он говорит, что он не платный портретист, обязанный приукрашать своих клиентов. Он заинтересован в красоте книги как целого, а не в красивости описываемых в ней людей. К этому надо добавить, что литературные правда и ложь, в отличие от своих юридических, а тем более научных братьев, не обязательно противоречат друг другу и не обязательно опровергают друг друга. Нередко они сотрудничают в деле создания рассказа и, как две хорошие соседки, ссужающие друг другу молоко или соль, находятся в приятельских отношениях.
Таким образом, когда Шолом-Алейхем говорит, что он намерен рассказать правду, в отличие от других, которые «начнут сочинять о нем всякие небылицы», читателю остается лишь снисходительно улыбнуться. Любой «куррикулум витэ», начиная с того, который мы пишем при поступлении на работу, и кончая художественной автобиографией, есть плод творческой памяти, и к нему нельзя относиться как к юридическому документу.
На тему правды и выдумки – этой квинтэссенции литературного творчества – можно говорить еще много. Вернемся к нашему разговору. Я хотел бы сказать кое-что по поводу побочного аспекта этой темы, а именно – правды, касающейся самого писателя. Я имею в виду не его вызывающую сомнение автобиографическую надежность, а желание читателя найти и узнать писателя через его книги.
Многие читатели хотят знать, присутствуют ли реальные биографические приметы писателя в том его романе, который они прочли, думает ли писатель так же, как его герои, и имеет ли он тот же, что они, жизненный опыт. Они сердятся на него, когда один из героев высказывает мнение, с которым они резко не согласны. Они испытывают странную радость, обнаружив в жизни писателя событие или персонаж, которые повторились в его книге.
Со мной, как с читателем, это тоже случается, но, вообще говоря, я не большой любитель писательских биографий. Одну биографию я прочел с удовольствием – биографию Льва Толстого, написанную Анри Труайя. Но она не уменьшила мою любовь к толстовской «Крейцеровой сонате» и не подвигла меня попробовать, наконец, преодолеть «Войну и мир», которую мне никогда не удавалось закончить.
Я предпочитаю такие автобиографии, как у Шолом-Алейхема или Эриха Кестнера, такие, как «Легенда о Сан-Микеле» Акселя Мунте и «Память, говори» Набокова, – потому что в них – так же, как в романах, – за автором сохраняется право на выдумку. Это, возможно, одна из причин, по которым я пишу свои романы от первого лица. Такие романы представляют собой не что иное, как автобиографии людей, которые никогда не существовали.
Тем не менее многие читатели хотят узнать, выглядит ли писатель так же, как его герой, думает ли он так же, имеет ли сходный с ним жизненный опыт. Так вот – Джек Лондон испытал многие из тех приключений, о которых писал; Жюль Берн – ни одного. Марк Твен вырос на берегах Миссисипи, но у него не было отца-пьяницы, который над ним издевался, а мать Эриха Кестнера была женской парикмахершей, как мать его героя Эмиля, но не была вдовой, как та.
Я вспоминаю по этому поводу, что в дни моего детства к нам в дом иногда приходил писатель Пинхас Садэ, ныне уже покойный. В те дни в газете «Наша страна» публиковались детские рассказы, которые он подписывал псевдонимом «Ш. Пинхас». Это были грустные диккенсовские рассказы о несчастных сиротах и жестоких директорах детских приютов. Я очень любил эти рассказы, но не осмеливался спросить его, пережил ли он такое же детство.
Однажды мой отец сказал ему: «Пинхас, у тебя уже слишком большой живот, чтобы писать такие аскетические рассказы». С тех пор Садэ перестал приходить к нам, но и спустя несколько лет, когда я уже был молодым человеком и читал его взрослые книги, я все еще не мог забыть тот живот. Он стоял между мною и его словами и мешал мне при чтении.
Отношение моего отца к животу Пинхаса Садэ имело свои основания. Отец очень гордился своей худобой, но и он на известном этапе своей жизни растолстел, и это помешало одной из читательниц его стихов. Я помню тот день, важный в жизни нашей семьи, когда отец вернулся потрясенный из магазина и рассказал, что слышал там разговор двух девушек, говоривших о нем.
Одна из них сказала: «Видишь этого человека с синей сумкой? Это поэт Ицхак Шалев». Вторая посмотрела на моего отца и заметила: «Пишет стихи о любви, а сам толстый, как свинья».
Мой отец отличался силой воли и большой внутренней дисциплиной. В тот же день он объявил пост, который продолжался три недели. Все это время он питался только водой и лимонным соком и сбросил двадцать килограммов. Сразу же после этого он начал заниматься йогой, стал вегетарианцем и сводил с ума всю семью.
В сущности, эта девушка из магазина изменила всю нашу жизнь, потому что отец, как все неофиты, ощутил в себе миссионерский пыл и захотел всех нас обратить в вегетарианство. По сей день я помню вечера, когда он читал нам избранные места из книги некого доктора Джексона «Всегда здоров» с ее лозунгами: «Вычищать яды из организма», «Не смешивать белки с углеводами», «Куриный бульон – это мочевина падали» и другие истины того же рода.
На определенном этапе отец установил тесные отношения с врачом-натуропатом, страстным противником антибиотиков, который лечил любую болезнь виноградным соком и компрессами из салатных листьев. Мы никогда не встречались с этим человеком, но в доме постоянно чувствовалось его присутствие.
Однажды, вернувшись домой, я нашел мать очень веселой.
– Ты помнишь папиного врача-натуропата? – спросила она.
– Да.
Она улыбнулась и после короткой паузы торжественно объявила:
– Он умер от воспаления легких!
Как мы помним, все это началось с противоречия между объемистым животом поэта и его лирическим героем. Ничего не поделаешь – это тоже одна их сторон взаимоотношений между писателем и читателем. Девушка, которая любила стихи моего отца, хотела, чтобы их автор выглядел так, как должен выглядеть настоящий лирический поэт: тонкий, романтичный, с мечтательными глазами. Но что делать, не все поэты выглядят так, как Лорка, Байрон или Александр Пэн. Некоторые из них выглядят, как Хаим-Нахман Бялик.
Меня тоже поразила однажды правда, открывшаяся мне в отношении любимого писателя. Это произошло во время моей первой поездки в Соединенные Штаты. Маршрут не был разработан во всех деталях, но одно желание так и горело во мне: посетить озеро Уолден в Новой Англии. В лесу над этим озером много лет назад жил Генри Дэвид Торо и там он написал свою замечательную книгу «Уолден, или Жизнь в лесу».
Эту книгу я читал в возрасте шестнадцати или семнадцати лет. Стоическое мировоззрение Торо, его спокойная и независимая жизнь в лесу, «вдали от бушующей толпы» покорили тогда мое сердце. Торо, аскетичный и скромный отшельник, который живет в маленькой деревянной избушке, рубит дрова для своей печи, прислушивается к птичьему пению и качает воду для своей грядки, где растет фасоль и кукуруза, стал для меня образцом для подражания.
И вот, спустя десять лет, я подъехал к хижине Торо, точнее – к кирпичной трубе, которая от нее сохранилась. Я был так взволнован, что тотчас бросился в озеро и тут же был вытащен оттуда разъяренным сторожем, который кричал мне, что в резервуаре для питьевой воды запрещается плавать.
Оттуда я отправился в Бостон и там оказался втянутым в разговор с молодым американским ученым, который растер меня и Торо в порошок. Он рассказал мне, что мой «скромный мыслитель» каждую субботу собирал свои грязные вещи и шагал в соседний городок, где жила его старая мать. Торо подкреплялся там сытным обедом, оставлял стирку, брал чистую одежду и яблочный пирог и возвращался в свою хижину к своей монашеской кукурузной грядке.
Я вспомнил тогда слова римского стоика Сенеки, которого противники упрекали в гедонизме, противоречившим его собственным идеям. Сенека отвечал им, что его неспособность реализовать свое учение не является доказательством ошибочности самого учения. Справедливы или нет его слова, меня они не утешили. Кстати, со временем я открыл еще один интересный факт: Торо, которого бросили в тюрьму за демонстративный отказ от уплаты налогов (он возражал против рабства и написал об этом в статье «О долге гражданского неповиновения»), освободили оттуда уже через несколько часов, потому что его тетка уплатила за него все налоги.
Из Новой Англии я поехал в Калифорнию, и там мне стало известно, что Уильям Сароян был антисемитом. Хватит с меня их автобиографий.
Вернемся к предисловиям. Я уже говорил о вступлении Генри Филдинга к «Истории Тома Джонса». Это самое подробное и поучительное вступление из всех, мне известных. Филдинг дает ему интересное заглавие: «Введение в роман, или Список блюд на пиршестве» – и говорит:
Писатель должен смотреть на себя не как на барина, устраивающего званый обед или даровое угощение, а как на содержателя харчевни, где всякого потчуют за деньги. В первом случае хозяин, как известно, угощает чем ему угодно, и хотя бы стол был не особенно вкусен или даже совсем не по вкусу гостям, они не должны находить в нем недостатки: напротив, благовоспитанность требует от них на словах одобрять и хвалить все, что им ни подадут. Совсем иначе дело обстоит с содержателем харчевни. Посетители, платящие за еду, хотят непременно получить что-нибудь по своему вкусу, как бы они ни были избалованы и разборчивы; и если какое-нибудь блюдо им не понравится, они без стеснения воспользуются своим правом критиковать, бранить и посылать стряпню к черту.
Уговор ясен. Писатель и читатель уподобляются содержателю харчевни и посетителю, и тот, кто платит за свою еду, вправе критиковать ее качество. Здесь уместно заметить, что Лоренс Стерн, современник Филдинга, был менее формален. В своем «Тристраме Шенди» он говорит: «Писание книг, когда оно делается умело (а я не сомневаюсь, что в моем случае дело обстоит именно так), равносильно беседе».
Что касается Филдинга, то, сравнив писателя с ресторатором, он рассматривает предисловие как меню:
Чтобы избавить своих посетителей от столь неприятного разочарования, честные и благомыслящие хозяева ввели в употребление карту кушаний, которую каждый вошедший в заведение может немедленно прочесть и, ознакомившись таким образом с ожидающим его угощением, или остаться и ублажать себя тем, что для него приготовлено, или идти в другую столовую, более сообразную с его вкусами.
И поскольку Филдинг, будучи писателем честным и доброжелательным, не хочет обидеть своих читателей, он, подобно ресторатору, тоже предлагает им свое меню:
Заготовленная нами провизия является не чем иным, как человеческой природой. И я не думаю, чтобы рассудительный читатель, хотя бы и с самым избалованным вкусом, стал ворчать, придираться или выражать недовольство тем, что я назвал только один предмет. Черепаха – как это известно из долгого опыта […] – помимо отменных спинки и брюшка, содержит еще много разных съедобных частей; а просвещенный читатель не может не знать чудесного разнообразия человеческой природы, хотя она и обозначена здесь одним общим названием: скорее повар переберет все на свете сорта животной и растительной пищи, чем писатель исчерпает столь обширную тему. Люди утонченные, боюсь, возразят, пожалуй, что это блюдо слишком простое и обыкновенное; ибо что же иное составляет предмет всех этих романов, повестей, пьес и поэм, которыми завалены прилавки?
Это утверждение – что все рассказы уже написаны и все темы обсуждены – отнюдь не ново. Уже четыре тысячи лет назад неизвестный шумерский поэт писал на своей глиняной табличке: «О чем я напишу, что еще не написано?» Это ставит Филдинга, написавшего своего «Тома Джонса» двести пятьдесят лет назад, – а тем более нас, пишущих и читающих сегодня, – в еще более трудное положение. Любовь, месть, смерть, судьба, семейные отношения, красота, память, измена, путешествие – все это уже было сварено, подано и съедено. «Природа человека», таким образом, – это литературное блюдо, которое подается к читательскому столу уже тысячи лет. Что остается – это искусство писателя:
В чем же тогда разница между пищей барина и привратника, которые едят одного и того же быка или теленка, как не в приправе, приготовлении, гарнире и сервировке? Вот почему одно блюдо возбуждает и разжигает самый вялый аппетит, а другое отталкивает и притупляет самый острый и сильный. […] Высокие достоинства умственного угощения зависят не столько от темы, сколько от искусства писателя выгодно подать ее.
Это высказывание очень дорого моему сердцу, потому что оно подчеркивает важность писательского профессионализма и мастерства – изощренность, отделку и стиль его кухни.
Все вышесказанное Филдинг говорит в предисловии к «Тому Джонсу». Он продолжает обращаться к своим читателям и внутри самого рассказа, но, поскольку он уже сказал: «Читатель, нам невозможно знать, что ты за человек», – не исключено, что эти обращения – просто выстрелы в темноту. Читатели отличаются друг от друга по возрасту, жизненному опыту, полу, своим предпочтениям, чувству юмора, а главное – по запасу памяти. Читатели отличаются также по интеллекту и образованности, и это, как мы сейчас увидим, представляется Филдингу предметом, заслуживающим особого внимания.
Вспомните, что Филдинг уже раздумывал, то ли его читатель «сведущ в человеческой природе, как сам Шекспир», то ли нет. И поскольку немногие читатели скажут о себе, что они такие же знатоки человеческой природы, как Шекспир, а Филдинг, сам большой знаток человеческой природы, знает это, можно полагать, что эти его раздумья не что иное, как насмешка и цель их – поставить читателя на должное место. И это не последнее такое высказывание в книге. В дальнейшем Филдинг будет снова и снова колоть читателей в эту же точку.
Например, о способности характеризовать персонажей он говорит: «Если этот последний дар встречается у очень немногих писателей, то уменье по-настоящему его распознавать столь же редко встречается у читателей». То есть в той же мере, что читатель (едок) имеет право требовать таланта от своего писателя (повара), так и наоборот. Не только писатель, но и читатель должен быть талантлив, хотя его талант или отсутствие такового не обнаруживаются так публично, как у писателя.
Иногда Филдинг обращается к человеку, которого он именует «просвещенный читатель». Это звучит, как комплимент, но это и намек на то, что есть также читатели «непросвещенные». И к одному из своих замечаний относительно человеческой природы он добавляет следующие насмешливые слова:
Это одно из тех глубоких замечаний, которые едва ли кто из читателей способен сделать самостоятельно, и потому я счел своим долгом прийти им на помощь; но на такую любезность не следует особенно рассчитывать в этом произведении. Не часто буду я настолько снисходителен к читателю; разве вот в таких случаях, как настоящий, когда столь замечательное открытие может быть сделано не иначе как с помощью вдохновения, свойственного только нам, писателям.
Аналогичное замечание делает он и по поводу понимания читателем поведения героев. Мы, читатели, имеем обыкновение требовать от литературных героев определенной меры разумности и логики, которых мы не всегда требуем от реальных людей. Эта «разумность» – понятие довольно туманное. Суды часто говорят о «здравомыслящем человеке», но в книгах, к нашему счастью, этот таинственный персонаж – не столь частый гость. Измаил у Мелвилла, дядюшка Рингельхут из «Тридцать пятого мая» Эриха Кестнера, мистер Вильямс из «Лубенгулу, короля Зулу» Нахума Гутмана или Гумберт Гумберт из «Лолиты» Набокова – не те люди, которых можно назвать «здравомыслящими». Мальчика Мотла, который говорит: «Мне хорошо, я сирота», и Гекльберри Финна, с нетерпением ждущего смерти своего отца, никак нельзя назвать «здравомыслящими» мальчиками. А с другой стороны, д'Амичис и Луиза Мэй Олкотт щедро одаряют нас здравомыслящими мужчинами, здравомыслящими детьми и здравомыслящими маленькими женщинами.
Филдинг не пользуется выражением «здравомыслящий человек», но его мнение по этому поводу весьма решительно. Описывая странное поведение одного из своих героев, сквайра Вестерна, он говорит:
Некоторые из читателей выразят, может быть, удивление, почему же сквайр не возненавидел дочери, как он возненавидел ее мать. На это я должен сказать им, что ненависть не является следствием любви, даже сопровождаемой ревностью. Ревнивец вполне способен убить предмет своей ревности, но ненавидеть его он не может. Этой заковыристой штучкой, похожей на парадокс, мы и закончим настоящую главу, предоставляя читателю поломать над ней голову.
Не обязательно соглашаться с мнением Филдинга, но стоит обратить внимание на две вещи: во-первых, он отрицает здесь то, что считается здравым поведением; и во-вторых, насмешливо относясь к читателю-тугодуму, он замедляет ход рассказа, чтобы дать ему возможность «поломать над ним голову» (обидное определение процесса понимания) в темпе, соответствующем его, читателя, способностям.
Филдинг находит и другие предлоги, чтобы боднуть своих читателей. Обычно он делает это дружелюбно, но иногда и достаточно воинственно. Читателю, с ним не согласному, он бросает: «Смею вас уверить, что вы уже сейчас прочли больше, чем можете понять; и вам было бы разумнее заняться вашим делом или предаться удовольствиям (каковы бы они ни были), чем терять время на чтение книги, которой вы неспособны ни насладиться, ни оценить».
Уколы здесь сменяются резкой насмешливостью:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?