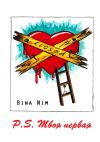Текст книги "Пойди туда – не знаю куда. Повесть о первой любви. Память так устроена… Эссе, воспоминания"
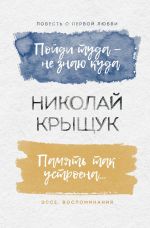
Автор книги: Николай Крыщук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Даже и собственная жизнь в эмпирическом плане – не первостепенный или, во всяком случае, недостаточный материал. Иначе, как объяснить, что война не нашла никакого отражения в пьесах и сценариях фронтовика? Только внутренний опыт, только избранное из внутреннего опыта. Биографы зря стараются.
* * *
Встретились мы вновь через много лет, когда у меня уже вышла первая книга, а Володин переселился в театральный дом на Пушкарской. Соседом его был мой друг Саня Григорьев, читавший литературные лекции в Ленконцерте. Александр Моисеевич часто заходил к нему за книгами, так и завязались отношения, а потом и дружба.
Однажды он позвонил, когда мы с Саней были вместе. «Выпиваете? Я сейчас буду». Пришел с бутылкой. Я напомнил ему наше знакомство в коммуне. «О! Помню, все очень хорошо помню. Фаина Яковлевна».
В тот день он пришел тоже с внутренним заданием. Его интересовало, как делаются переводы? А если языка не знаешь? Подстрочник? Это что? Но разве можно по подстрочнику верно перевести? А еще ведь рифмы, рифмы!
Доставали книжки, читали, сравнивали. Про себя подсмеивались над его простодушием и дилетантством. В значительной степени, наигранными. Ему нужен был именно горячий мусор филологических разглагольствований. И он его получил. Писался сценарий «Осеннего марафона».
О сценарии не было, конечно, помину, как и об истории, ему предшествовавшей. Но именно в эту пору я часто наблюдал «осенние марафоны» Володина из окна квартиры моих родителей на Белградской 16, где жила мать его второго сына. Он шел немолодой уже походкой, с отвлеченным лицом и целеустремленностью незрячего. Мимо людей.
Мы стали встречаться чаще. В квартире не только Григорьева, но и Володина, в Комарово, на писательских и театральных тусовках. В нем как-то сочетались азарт и меланхолия, вспыльчивая рефлексия, приязнь и отстраненность. Однажды он дал нам прочитать пьесы «Две стрелы» и «Мать Иисуса». Это был жест доверия – о появлении их на сцене театра не могло быть и речи.
Нередко о своих фильмах и режиссерах Володин говорил с неприязнью. Даже о тех фильмах, которые считались, да и являются, вероятно, шедеврами. Из «Осеннего марафона» Данелия хотел сделать непременно комедию, придумал эпизод с оторванным рукавом куртки. Митта – детский режиссер, снял фильм про трубу, про зовущий горн, хотя у меня написано про первую любовь девочки. В фильме «Дочки-матери» Герасимов вообще перевернул все с ног на голову. Я писал про то, как провинциальная девчонка разрушила мир интеллигентной семьи, а в фильме она, оказывается, научила их подлинной жизни. И так далее.
Володин был текуч, динамичен. В определенной мере, человек настроения. Да еще и самоед при этом. Острое чувство своего несовершенства (то есть, острое чувство совершенства), но не только. Он боялся попасть в футляр собственного образа.
Стыдился, например, первой книжки рассказов. Я как-то сказал, что перечитал ее и книга, на мой взгляд, хорошая. Не жалеет ли он, что прервал эту линию неавтобиографической прозы? Он ответил: «Я не жалею, потому что… Это мне говорил еще мой друг Яша Рохлин: „Ты отовсюду бежишь“. Пьесы, пьесы, пьесы – и хватит этого… Все равно их запрещают. Ну, кино попробуем. Кино, кино, кино – и хватит, и не хочу больше этим заниматься. Записки, записки, записки, записки – хватит! То есть это еще не хватит. Стихи, стихи, стихи – хватит. А записки – еще не хватит. Вот их я пишу с удовольствием. Когда хватит – тогда я пропал».
В этом, вероятно, кроется и противоречивость оценок. Живой человек. Вспоминается эпизод из очерка Горького о Толстом. Толстой говорил о зяблике: «– На всю жизнь одна песня, а – ревнив. У человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность – справедливо ли это?…Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с „Крейцеровой сонатой“, он распустил по всей своей бороде сияние улыбки и ответил: – Я не зяблик».
Известно, что после премьеры «Назначения» в постановке Ефремова Володин сказал: «Я не писал этой пошлости». Зинаида Шарко рассказывает, как Володин читал актерам «Пять вечеров». Каждую минуту прерывал чтение и говорил: «Извините, там очень бездарно написано. Я вот это исправлю и это исправлю. Ой, как это плохо!» В конце девяностых мы с Леонидом Дубшаном брали у Володина интервью. Он в который раз говорил о том, что многого и многого стыдится. Дальше по тексту: «Один раз меня спросили: „Александр Моисеевич, а есть хоть что-нибудь, чего вам не было бы стыдно?“ Я стал вспоминать: думаю, вот „Назначение“, „Пять вечеров“, что-то еще… и замолк на этом». Аргументы, вероятно, не нужны.
* * *
Об интервью. Их было несколько. Повода для первого я не помню, напечатано в газете «Невское время». По поводу второго Володин сам позвонил мне. Был его юбилей. В «Литературной газете» был заказан материал какому-то маститому критику. Но Александр Моисеевич просил, чтобы его написал я, поскольку предыдущая беседа ему очень понравилась. Если я соглашусь, то он с газетой договорится. Я согласился.
Потом в девяностые годы мы сделали беседу вместе с Леонидом Дубшаном. Вероятно, для радио. Но беседа не пошла, плохая запись. Недавно Леня напечатал фрагменты из нее в «Новой газете».
А вот потом было интервью, про которое вспоминать стыдно. Хотя в самом процессе я его совсем не стыдился. Делал по заданию «Звезды», где оно и вышло через несколько месяцев после смерти Володина. А было так.
Мы беседовали, конечно, по обоюдному согласию. Но Александр Моисеевич был не всегда в форме. Забыл однажды фамилию Окуджавы. Мне бы притормозить. Но – задание. И он, вроде бы, хотел. Да вот, как потом выяснилось, не очень-то хотел.
Мне, вообще говоря, именно в беседах с Володиным стало понятно, что у человека есть всего две-три истории. Не больше. У Володина это была встреча с Фридой, армия, война, а дальше, как говорится, по мелочи.
Бутылка, даже и утром, была на подоконнике. Я как-то спросил: «О самоубийстве не думаете?» Он ответил: «Тоже знаешь?» И тогда же сказал: «У меня вчера Фрида отняла последнюю загадку и интригу. Я ночью крадусь за бутылкой, а она из-за стенки говорит: Шура, бутылка в холодильнике. А я так таинственно ползал».
Мгновенность его реакции была замечательна. Как-то я заговорил о своей маме. И сказал: «Я люблю ее маленькие глазки». Он тут же подхватил: «Как ты это хорошо сказал!»
АМ был очень правдив, несмотря на режиссерскую повадку. Даже так верно сказать: он был очень непосредственным человеком. Например, звонил: «Это Володин». «Здравствуйте, Александр Моисеевич!» «Значит так, Коля. Зови меня Шура и на „ты“. Мы ведь коллеги. Если снова будешь обзывать, повешу трубку».
Я обещал, но никогда обещанного не выполнил.
Так все же про последнее интервью. Уже после смерти Володина я оказался в семье Гореликов. Петр Захарович – боевой офицер, друг Самойлова, Кульчицкого, Слуцкого. Его жена, Ирина Павловна, чудесная, обаятельная женщина, которой Володин звонил едва ли не каждый вечер, утоляя тоску по собеседнику. Так вот, она сказала мне, любовно, впрочем: «А вы знаете, что Саша очень обижался на вас? Он, правда, говорил во множественном числе: неужели они не понимают, что я уже ничего не могу, Ира? А они все спрашивают, и спрашивают».
Возможно, это относилось и к Лене Дубшану. Не уверен. Скорее, по ошибке к Наташе Громовой, с которой я пришел к нему в последний раз. Наташа – талантливый прозаик, а в то время еще и драматург. С подачи Володина у нее была поставлена в Ленинграде пьеса. И вот она приехала, а я Володину должен был показать окончательный вариант беседы. Он просил, чтобы мы пришли вместе.
Мариам, которая помогала Фриде и Александру Моисеевичу по дому, был организован роскошный стол. Я, зная неопределенные разговоры после выпивки, предложил сначала сверить текст беседы. АМ сказал: сначала выпьем. Выпили по две-три рюмки. Тогда он сказал: давай. Я ему: вот текст, посмотрите. Он: нет, читай сам. Тоскливо мне стало.
И вот тут совершилось чудо. Я читал, Александр Моисеевич устно правил. Но как! Смысловых накладок, естественно, не было. Он правил длину фразы, рубил эпитеты, возвращал свою интонацию, заменял слова. Этобыло моцартианское действо. Здесь запятая, здесь точка – нужна пауза. Теперь форте: да, я этого не люблю! Восклик!
Похоже на прочтение оркестровой партитуры. И это он еще вчера забыл фамилию грузина, который сказал ему в электричке: «Шура, ты грустный человек. Но ты не знаешь, до чего я грустный». Артист, во всех известных нам смыслах.
* * *
Еще один эпизод, связанный с Булатом Окуджавой. Володин рассказывал, как однажды ему позвонила жена Булата Шалвовича, Ольга. В семье у них тогда был разлад, Ольга жаловалась. Среди прочего она сказала: «Шура, ты не представляешь, какой он вечерами скучный человек!»
Я не стал бы приводить здесь вполне малозначащую и к тому же интимную сцену, если бы тогда же не почувствовал: потому Володин и пересказал мне ее, что эта обидная реплика попала в него самого. Должно быть, такой упрек слышал хоть раз в жизни всякий художник.
В некоторой степени это подтверждение сюжета пушкинского стихотворения «Поэт»:
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Поэт – не остроумец и не герой скетча о гениальном человеке. Он нуждается в житейской и даже в душевной паузе. Это – естественно, а не моторное, образное воспроизводство. Естественно. Возможно, Окуджава отвечал на эти явные или скрытые упреки в стихотворении «Чаепитие на Арбате»:
Я клянусь вам, друг мой давний,
не случайны с древних лет
эти чашки, эти ставни,
полумрак и старый плед,
и счастливый час покоя,
и заварки колдовство,
и завидное такое
мирной ночи торжество;
разговор, текущий скупо,
и как будто даже скука,
но… не скука —
естество.
* * *
Несколько раз показывал Александру Моисеевичу свои тексты. Вот здесь – скала его натуры. Никогда не угодил и не соврал. Один раз сказал вещь важную: «Коля, попробуйте писать о чем-нибудь одном». Было у меня такое, да и есть: пишу симфонию. А он, правда, писал о сестре, которая, будучи талантлива, принесла себя в жертву сестре, потеряв на своей жертвенности и любви свой дар. Серьезное дело. Об этом сколько-то страниц текста, целый сюжет, потрясающая драма.
Читал ему как-то рукопись книги «Стая бабочек». Тоже молчал, согласно кивая головою. И вдруг на главе, где герою звонят друзья и любовницы, кто с раком, кто с внезапной беременностью или планами на отъезд, все под буквами, а заканчивается: «Звонили Э. Ю. Я.», АМ встрепенулся и сказал: «Это надо сейчас же напечатать». «Кому нужны эти три странички?» «Отдай мне. Во вторник будет напечатано». «Это не рассказ, а глава из повести. Не отдам». «Как знаешь».
Думаю, что-то его во мне не устраивало. Часто говорил: «Ты очень умный». Но с интонацией не то что неприязненной, но слишком уважительной. О Евстигнееве говорил совсем иначе: «Женя очень умный. Идем с ним в гости. Я заранее психую по поводу того, что будут спрашивать, расспрашивать. Знаменитости. А он: мы отработали день, да? Наложи полную тарелку, окуни в нее свою морду и ешь, ешь. Ни у кого язык не поднимется. Очень Женя умный человек».
Ну, вот, а я был какой-то другой умный, и это было не его. Он ценил ум не метафизический, не собственно ум, а поведение. Умное поведение. Здесь ему, возможно, не было равных.
Подарил ему «Стаю бабочек», а он на следующий день залетел в больницу. Позвонил мне: «Учусь читать по твоей книге». Просто комплимент. Это он тоже умел.
* * *
Сильный эпизод. Мы сидим у меня на даче в Комарове. Александр Моисеевич отдыхает в Доме творчества ВТО. Дорога не дальняя. Приехал на велосипеде. Были только Саня Григорьев и моя семья.
Жара страшная. Градусов тридцать. А собрались ведь выпивать. И шашлыки. И устройство дачи было такое, что сидим на самом пекле. Я вспоминаю, что в холодильнике у меня несколько бутылок чешского пива. «Так в чем же дело?» Ну, Александр Моисеевич, я же не мальчик. Кто пьет пиво с водкой? «Ничего не понимаешь. Ты вот бутылку неси, неси. Теперь открывай. Пробочку к носу. Ну, слышишь, пахнет мандариновой коркой. А ты говоришь, нельзя. Сейчас самое время».
Закончилось это так себе. Я вдруг стал уверять Володина, а Саня после чешского пива добавлял свои аргументы, что Пастернак – поэт для юношества. Так, мол, бывает. И Блок стал поэтом для юношества. В какую-то секунду, правда, так считал. И знал ведь, главное, что Пастернак его любимый поэт. Что повело?
Как он все это разыграл. «Что ты говоришь? Да, да. Надо проверить, подумать». Ни на секунду не отказался от своего поэта. Мы с Саней, однако, были в эйфории. Печальной была обратная поездка Володина на велосипеде.
* * *
Еще одна история, о которой АМ писал как-то иначе, чем рассказывал ее мне. Знаю, от той же журналистки. Текстов Володина не перечитываю, как и обещал. Как появились его знаменитые стихи.
Дело было в марте или апреле. Тепло, но снег еще идет, все в пальто и шубах. Заходит в троллейбус. Пар ото всех, дышать невозможно. Ехать надо, а жить нельзя. Невыносимо. Так и появилось это знаменитое стихотворение, уникальное по сочетанию извинительной интонации и внятной мизантропии. Весь Володин:
Забудьте, забудьте, забудьте меня,
И я вас забуду, и я вас забуду.
Я вам обещаю: вас помнить не буду.
Но только вы тоже забудьте меня!
2014
Стихи на папиросной бумаге
1
Я был школьником или только-только поступил в университет, когда у меня возникла дома эта толстая красная папка со стихами. Вернее, я купил ее за пять рублей. Опять же не помню, у кого и почему. Разве что в жадную память залетело несколько строк поэта, о котором я ничего, кроме имени, не знал. Стихи были напечатаны на дурной, желтой или даже папиросной бумаге. Пятый, слегка подтаявший, млечный экземпляр (последний эпитет заимствован, пожалуй, у Мандельштама, но об этой его стилевой заразности – позже).
Тогда мне казалось, что его стихи и должны являться читателю именно в таком виде и именно таким способом. В сущности, это чувство не прошло и по сей день. В своей полубезумной, как бред Карениной, «Четвертой прозе» Мандельштам писал, что все произведения литературы делит на разрешенные и написанные без разрешения: «Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух». Так пусть и появляются они из рук честного, трудолюбивого вора, и в доме и в жизни того, кто готов отдать за них пять рублей из родительского бюджета и при неблагоприятных обстоятельствах получить вызов в «большой дом». А папиросная бумага пусть зло подтверждает их реально зыбкое и реально запретное существование. В то время как кирпичные тома и золоченые буквы свидетельствуют лишь о фарисейской, скалящейся улыбке власти и о подлой, безвкусной повадке коммерции всегда присваивать не принадлежащее ей.
Теперь я уже точно знал, чем буду заниматься в университете. Но все оказалось не так просто.
2
Для рассказа о следующем эпизоде я буду без специальных оговорок пользоваться своими воспоминаниями о моем университетском учителе Дмитрии Евгеньевиче Максимове.
Сентябрь, середина шестидесятых. Солнечная аудитория, слева от главной лестницы филфака. Номер двенадцать, если не ошибаюсь. Я пригласил друзей на лекцию Дмитрия Евгеньевича Максимова, обещая, видимо, некое интеллектуальное шоу. К тому же, недавно я записался в семинар по поэзии «серебряного века», и, значит, хотел познакомить всех со своим будущим учителем, с которым сам еще не был знаком.
Д.Е. говорил о стихах так, как, по нашему мнению, и нужно было о них говорить: с личным пристрастием, восторженным удивлением, и одновременно сосредоточенно, важно, будто на наших глазах, в самом акте произнесения решались не специальные филологические проблемы, но определялись судьбы и жизни. Он ушел далеко в пути постижения смыслов и звал нас с того конца дороги. Но еще дальше по этой дороге зашел поэт; догнать его невозможно, тайна не может быть явлена, отчего путешествие представлялось увлекательной игрой, безнадежность которой могла тешить только по-настоящему сильных и молодых. Мы в ту пору были молоды.
Литературной среды у меня не было, специальных научных интересов тоже. Как и многие, я уже пробовал писать стихи и прозу, но строго оберегал эту лабораторную стадию сочинительства от посторонних. Однажды только послал стихи Арсению Тарковскому. Из его утерянного письма помню рассуждение о неточной рифме у позднего Мандельштама. Смысл рассуждения был в том, что при первых опытах такие рифмы свидетельствуют лишь о небрежности, в то время, как в зрелом мастере выдают абсолютную внутреннюю свободу.
Мое тогдашнее отношение к литературе можно назвать домашним и влюбчивым. Талантливый текст легко превращал меня в своего адепта, пересоздавал на свой лад, начисто лишая исследовательского беспристрастия. У меня был филологический слух, но это был слух читателя, а не ученого, способность узнавания, а не анализа. Я внутренне сопротивлялся профессионализму и написал несколько положенных всякому студенту работ скорее по необходимости или, во всяком случае, пережил это как очень короткое увлечение и опыт.
Этим, отчасти, объясняется мое положение чужого среди своих, что в данном случае важно для понимания истории, связанной с Мандельштамом.
Д.Е. не был «академистом», обладал живым отношением к литературе, воспринимал ее как явление сущностное, а не только специальное. В разговоре о поэзии начала века выходил за круг исторически очерченных ассоциаций, прибегая к рискованным сравнениям не только из глубокой истории, но и из современности, включая музыку и театр. Однако интонационно эти сравнения всегда брались в скобки, как некая вольность и дань устному жанру. В собственных работах он был значительно строже, обращался к аналогиям только исторически оправданным и эстетически безукоризненным, доступным проверке и свидетельствующим о действительном генетическом родстве.
К работам Владимира Альфонсова, например, о взаимовлиянии живописи и поэзии Д.Е. хоть и относился с уважением, но все же считал, что в них многовато «беллетристики», то есть больше, чем позволено в науке, типологических сближений. Мне же, напротив, такой язык и такой подход к искусству, не столько филологический, сколько культурологический, был понятнее.
С годами я оценил весомость и красоту научной точности, в то же время мне чудился в ней педантизм, лишающий мысль полета и подмораживающий фантазию. Всякого рода классификации представлялись либо праздной игрой ума, либо железной клеткой, в которую пытаются замкнуть живое существо. Ракушечная окаменелость терминологии была хороша для игры в бисер, в которой предмет становился почти не важен, во всяком случае, менее существен, чем само владение научным диалектом. Я скорее подписался бы под фразой Ф.Шлегеля: «Каждое поэтическое произведение – само по себе отдельный жанр», из чего следовало, по крайней мере, что при описании и анализе его необходимо выбирать новые слова и средства. Тот же Шлегель, впрочем, говорил, что «для духа одинаково смертельно иметь систему и не иметь ее» (Из литературных записных книжек).
Значительно позже я познакомился с высказыванием на эту тему Наума Яковлевича Берковского. «Совершенно ясно, – писал тот М.В. Алпатову, – что, когда касаешься искусства и литературы, то чем более здесь проявляют „научности“, то есть чем подход здесь более смахивает на подход к предметам совсем иного значения, тем дальше от истины, от обладания ею». Он же говорил о том, что все действительные понятия обладают известной неопределенностью, в противном случае, это ложные понятия. Речь шла о романтизме.
Всё это вопросы, однако, только во вторую очередь теоретические, на практике каждый решает их самостоятельно и стихийно, согласуясь с темпераментом и склонностями ума, приноравливает стиль к естественной способности видеть и чувствовать. Но существуют при этом и требования добровольно или, в силу обстоятельств, принятого на себя жанра, в данном случае, жанра научного исследования.
Перед выбором семинара Людмила Александровна Иезуитова спросила, чем бы я хотел заниматься? Она была как бы моим тьютором (слово и понятие мне тогда неизвестные). Вот ей-то первой я и сказал о желании заниматься Осипом Мандельштамом. Объяснить мой выбор научным интересом было бы слишком самонадеянно. О судьбе поэта, повторяю, я не знал ничего, разве что прочитал абзац, ему посвященный, в «Люди, годы, жизнь» Эренбурга. Критических работ о Мандельштаме в советской прессе не было, а в спецхран «публички» допускали только по ведомственному запросу.
Руководило мной впечатление от родственного, почти биологически родственного восприятия мира. Метафора Мандельштама рождена была не зрением, не обонянием, не осязанием, не умозрением, не прививкой биографической или культурной реалии. Смысл ее был непроницаем, так же, как и природа ее появления, при этом стихотворение казалось единственно возможной формой речи, для понимания которой нужно было совершить последнее и очень важное усилие. На вопрос, каким периодом творчества Мандельштама я хотел бы заниматься, Людмила Александровна ответа не получила. Однако именно она твердо записала меня в семинар Д.Е. Максимова, сказав, что там я буду ближе всего к Мандельштаму, хотя вряд ли мне будет позволено о нем писать.
Отказом началось и наше общение с Д.Е. Сказал, смеясь и рдея от смеха, как тренер ученику, который в первое же занятие попросил установить планку на отметке мирового рекорда: «Займитесь-ка сначала Блоком, а через год-другой, будет видно. Чем черт не шутит!»
Борьба за литературную реабилитацию Мандельштама уже давно шла, на это и была, видимо, надежда (чем черт не шутит). Хотя том стихов Мандельштама в издательстве Чехова в Нью-Йорке вышел, когда мне было восемь лет, у нас поэт был по-прежнему под запретом, то есть его как бы и не существовало. Многострадальный томик в «Библиотеке поэта» выйдет через семь лет, когда я уже вернусь из армии, и я куплю его за шестьдесят рублей у спекулянта на первый гонорар от внутренней рецензии в издательстве. Тогда же у меня было ощущение, что не столько Мандельштам на подозрении, сколько я, желающий изучать его поэзию. Будто хочу пролезть без очереди к тому, к чему все давно стремятся (вот уж чего не ожидал, что к Мандельштаму очередь; мне казалось, мой выбор уникален). Будто мне предстояло еще заслужить право заниматься Мандельштамом, причем не столько профессиональными успехами, сколько идейной безупречностью. Окончательно стало понятно потом: университет – не Касталия, а государственное идеологическое учреждение, где ценится не одно только «искательное отношение мудрости к молодости, а молодости к мудрости», и что над учителем, как и надо мной, существует незримое (вполне, конечно, зримое) начальство.
Тем не менее свою первую работу я написал о Мандельштаме. Это был анализ стихотворений «Я не знаю, с каких пор» и «Я по лесенке приставной». К тому времени уже был прочитан, конечно, весь доступный Мандельштам и прижизненные статьи о нем. Книг важного для Мандельштама философа Анри Бергсона в спецхране мне так и не выдали. О материалах, изданных за рубежом, и говорить нечего. В сущности, я должен был по-прежнему опираться только на собственную интуицию и на мысли о поэзии самого Мандельштама.
Стиль работы был по-ученически эклектичен. Я пытался то заключить в образ целое впечатление («За ритмическими изменениями ощущается канон. Похоже на гекзаметр, интерпретированный легкими ребенка»), то, словно испугавшись собственной дерзости и возможного непонимания, рапортовал о своей студенческой вменяемости: «При анализе размера обнаруживается паузный трехдольник третий, и, следовательно, ощущаемый в начале канон – анапест».
Уловки эти, однако, не помогли, текст был воспринят как пример импрессионистической критики. Дмитрий Евгеньевич улыбался и был возбужден. Ему понравилась строка про гекзаметр: «Красиво». Сказал, что в такой манере пишет Самуил Лурье, который учился у него за несколько лет до того(меня) и имя которого мне тогда ничего не говорило. Вот только вопрос, из вечных: можно ли рассуждать о поэзии языком поэзии? Ему представляется это сомнительным. Получается не то, что тавтология, но наслоение одного образного ряда на другой, что нуждается в дополнительной аналитической экспертизе. Это не плодотворно. И надо еще быть уверенным, что критик обладает собственной образной системой. Хотя примеры, конечно, есть, в том числе превосходные. У тех же символистов. И очень соблазнительно. Но для себя он этот вопрос решил отрицательно.
Работа написана хорошо, однако на слух многое осталось непонятным. Не переусложнил ли автор? На его взгляд, Мандельштам написал просто о процессе рождения стихотворения, искусства вообще, о самом акте творчества. Впрочем, работа стоит того, чтобы мы прослушали ее еще раз.
В этот момент прозвенел звонок.
Звонку предшествовало еще некоторое обсуждение, которое и поглотило время семинара. Каждому выступающему полагался оппонент. В моем случае это была Т.К., сама писавшая стихи и уже водившая дружбу с московскими знаменитостями. Ее негодованиевызвало главное для меня наблюдение о поэтике инфантилизма у Мандельштама, о том, что «уворованную связь» поэт ищет и находит в детском синкретизме («осязает слух», «зрячие пальцы», «звучащий слепок»). «В поисках „уворованной связи“, – писал я, – приходится „скрещивать органы чувств“, перелетать через разрывы синтаксиса…Детскость ощущается и в выборе объекта: комар, спичка; в эпитетах, то есть в выделении преимущественных качеств: „розовая кровь“, „сухоньких трав“; в словах с уменьшительно-ласкательными суффиксами: песенка, лесенка, сухоньких…Определяемое превосходит определяющее по масштабу и значительности: воздух – стог – шапка…Шорох и звон наделены новой модальностью: „Не по ней ли шуршит вор, Комариный звенит князь?“ „…Поэтическое сознание Мандельштама перекликается с фольклорным, мифологическим…Космос обитает в окружающих предметах. „Когда понадобилось начертать окружность времени, для которого тысячелетие меньше, чем мигание ресницы“, – писал Мандельштам в „Разговоре о Данте“, – Дант вводит в свой астрономический… словарь детскую заумь“. Так же и сам он, погружаясь в астрономические проблемы, делает это, не сходя с места, как ребенок погружается в проблему бытия и небытия, ревнуя бабушку к смерти…Стих обусловливает, обустраивает космос, кладет на руку вселенную, расставляет на стуле богов, которых „осторожною рукой позволено… переставить“ …Поэт находится в поисках эмбрионального состояния мира, „ненарушаемой связи“ всего живого, поэтому „единство света, звука и материи составляют… внутреннюю природу стихотворения“ (Разговор о Данте)».
Привожу эти фрагменты, чтобы была понятна реакция на работу и Д.Е. и моего оппонента. Приговор Т.К. был суров: говорить о поэтике инфантилизма у Мандельштама, который тяготеет к одической поэзии, к классицизму, к готической архитектуре, значит, расписаться в отсутствии поэтического слуха. Этот приговор меня не столько обидел, сколько озадачил. То, о чем я писал, мне казалось очевидным. Поэтика инфантилизма, детскости была фактом, он нуждался только в объяснении, а не в спорах о его наличии. Сегодня, по моим наблюдениям, так и есть: редко кто из исследователей творчества Мандельштама проходит мимо этой темы.
Этот спор-недоразумение Д.Е. никак не прокомментировал. Видно было, что Мандельштам не территория его научных интересов, не то, что он успел обдумать и на что мог компетентно и быстро отреагировать. Мандельштама он воспринимал, возможно, глазами Блока, с долей раздражения и равнодушия, как чужое. Блок придумал даже язвительный термин «Мандельштамье». Единственный содержательный отзыв его в «Дневнике» известен: «…виден артист. Его стихи возникают из снов – очень своеобразных, лежащих в области искусства только».
Отзыв Максимова полностью соответствовал блоковской парадигме и опирался при этом на высказывание Ю.Н. Тынянова, которое я тоже приводил в своей работе, о том, что в каждом стихотворении Мандельштама есть «уворованная связь». Тынянов писал, что современный читатель стал особенно внимательно относиться к «музыке значений в стихе», к изменению «иерархии предметов» и возникновению новой гармонии, которую Мандельштам ищет и находит в «создании особых смыслов». А стало быть, ключ к поэзии Мандельштама находится в каждом его стихотворении.
Все это, несомненно, но имеет при этом слишком общий, а потому приблизительный характер. Я это чувствовал, хотя вряд ли сумел объяснить в своем анализе. Поэтому и понять этот анализ было невозможно, не будучи вовлеченным в поток подобных размышлений, еще не до конца ясных и не облеченных в терминологию (Тынянов тоже прибегал к образам, а не к терминам, иначе, что значит его «музыка значений»?). Если бы умел я выразиться отчетливей, разговор, возможно, сложился бы по иному. То есть, дело было не исключительно в стилистическом импрессионизме.
Необходимы были новые продвижения в теории познания, показывающие, что мир состоит не из отдельных вещей, а из процессов, внутри которых находится сам наблюдающий, и познание происходит не только от частного к общему, но и от целого к частному. «Разъятая научным анализом вселенная, – пишет в статье о Мандельштаме А. Генис, – опять срастается в мир, напоминающий о древнем синкретизме, о первобытной целостности, еще не отделяющей объект от субъекта, дух от тела, материю от сознания, человека от природы». Легко убедиться, что в студенческой работе я писал именно об этом, не умея, быть может, подтвердить свои ощущения широкой аргументацией. Даже понятие «детский синкретизм», введенное, кажется, Пиаже, мне было тогда не знакомо.
3
Этот эпизод из студенческой жизни оказался для меня чреват несколькими последствиями, которые я могу описать, но не сумею, пожалуй, наградить ни отрицательным, ни положительным знаком.
Стиль моего реферата или сообщения был продиктован не юношеским капризом, не расхристанностью, претендующей на художественность, и не желанием сказать оригинально. Конечно такого рода импрессионизм (определение, понятно, вполне условное) существовал, что называется, в моей природе. Но в данном случае он был впервые не только проявлением внутренней воли и личной наклонностью, но санкционирован предметом разговора, то есть стихами и прозой самого Мандельштама. Смысл этого мне вряд ли был тогда понятен. Я не столько заражен был поэтикой Мандельштама, сколько нашел в ней инфекцию, которую искал. Так или иначе, сказалось это как в будущих моих эссе, так и в прозе.
Мандельштам говорил о биологической природе стиха, отвергал всех современных ему критиков и требовал научного подхода к поэзии. Это вряд ли можно понимать буквально. Он остро сознавал, что взгляд и подходы прежней критики устарели, ей необходимо было измениться вместе с новой поэзией, «детской и убогой». Нельзя подходить к объекту биологии со слесарными инструментами. Точно также он ругал, впрочем, и прежнюю науку, считая, что расплывчатость «научной мысли Х1Х века совершенно деморализовала научную мысль. Ум, который не есть знание и совокупность знаний, а есть хватка, прием, метод, покинул науку, благо он может существовать самостоятельно и найдет себе пищу где угодно» (О природе слова).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?