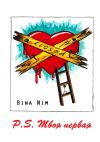Текст книги "Пойди туда – не знаю куда. Повесть о первой любви. Память так устроена… Эссе, воспоминания"
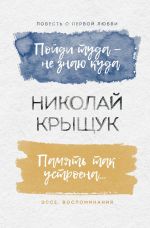
Автор книги: Николай Крыщук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Даже великий роман, который вас потряс, взволновал и так далее, если честно и глубоко подумать, оставляет в вас ту же миллисекунду, которую можно было бы, будь это в ваших личных возможностях или вообще в возможностях человека, выразить несколькими словами. Но это невозможно. Это то самое, о чем говорил Лев Толстой: я не могу сказать, про что я написал «Анну Каренину», иначе я должен был бы заново написать этот роман. Это ведь не значит, что он хотел бы заново написать все эти слова, там много случайных слов, но он должен был написать все это, чтобы выразить то единственное, что он хотел выразить.
Вот как астрофизики говорят о черных дырах: они не имеют объема. Истина тоже не имеет объема. А текст имеет объем. В этом разница между текстом и истиной. Притом, что текст (настоящий текст) всегда стремится к истине.
К «случайным» словам мы по ходу разговора еще вернемся. А сейчас один забавный эпизод в виде примечания. Несколько лет мы с С.Л. вместе работали в «Неве». Это было время «перестройки». О теории точек мне было еще не известно, но и мной тогда владело стремление к Мандельштамовской, стиховой краткости. И поскольку я вел отдел критики, то предложил следующее. У Мандельштама есть гениальная рецензия на стихотворный сборник Эренбурга. Всего семнадцать строк. Давайте попробуем делать рецензии такого же объема. Это трудно, почти невозможно, но ведь интересно. Потребуется совсем другое письмо. С Борисом Николаевичем Никольским я договорюсь, чтобы платили как за статью.
Опыт продлился, кажется, год. Участвовали четыре-пять человек, включая нас с Саней. Другие авторы журнала по дороге как-то отпали. Но и мы такой темп больше года держать не смогли.
А теперь про ответ Толстого. В нем ведь вот что интересно. Он объяснил, что сказал то, что сказал, единственным доступным ему способом. Глупо было бы предполагать, что в нем есть еще некий мыслительный аппарат, который теперь, по завершении работы, может выразить это короче и лучше. То же и с биографией. Получается, что ее не способен верно описать ни сам герой биографии, ни его биограф, потому что вся она сводится к «точке безумия».
– Абсолютная правда. Если посмотреть на биографию в нашем мыслительном пространстве, то она тоже есть некая разворачиваемая точка. Как хорошо сказано: «точка безумия». Судьба сводится к предложению. Там есть подлежащее, сказуемое, а может быть и какой-то другой состав. Но человек не сводится к слову. Приблизительно мы можем сказать, что судьба человека сводится к развитию его характера. Но это очень приблизительно. Потому что сам характер сводится к точке. И так далее.
«Точка безумия» – это, как известно, цитата из Мандельштама. «Может быть, это точка безумия, / Может быть, это совесть твоя, / Узел жизни, в котором мы узнаны / И развязаны для бытия». То есть вначале да, была точка, узел, но только после того, как он был развязан, и началось бытие, началась жизнь.
– У меня бывает подозрение, что и в каждой любовной истории по-настоящему существует какая-нибудь одна-единственная секунда. Она существует, а все остальное есть сначала подготовка к ней, потом воспоминание о ней, потом попытка ее повторить и так далее. Может быть, и не секунда. Какая разница, сколько она длится? Но, вообще говоря, одна точка.
Слово пытается совместить время и жизнь. С одной стороны, существует время как длительность, с другой стороны, существует наша жизнь, в которой длительности нет. Она состоит из точек. А речь имеет категорию времени, она вне этой категории невозможна. Отсюда и тщета литературы: она должна средствами длительности описывать вещи, которые не длятся.
К тому же ничто на свете, в том числе живой текст, не движется по прямой. Точки жизни, в которых человек меняется (если предположить, что он меняется), расположены в разных плоскостях, что дает даже не кривую, а на самом деле ломаную линию.
Речь в таком случае идет не о линейном движении через какое-¬то пространство, а о повороте, о смене орбиты, о толчке.
Тут, вообще говоря, в голову приходит квантовая теория, насколько ее способен понять гуманитарий. В ней нет различия между точкой и волной. И все же формулу жизни можно вычислить только после того, как она, жизнь, развернулась, после того, то есть, когда она уже прожита. Если бы формула предшествовала жизни, то развертывание жизни было бы просто холостым ходом.
– Ну да, ничто не может быть понято, пока не кончено. Кроме того, чтобы существовали культура, литература, живопись, музыка и так далее, нужно не одно сознание, а как минимум два. Нет зрителя, нет читателя? Зритель и читатель всегда живут в вас, и вы, значит, пишете для другой вашей половины.
Для чего и придуман язык. И вот что интересно: оказывается, что все искусства основаны на невозможности прямой передачи. Всякий раз эта передача осуществляется за счет невозможности.
Как видите, я не обладаю нужным запасом точных слов, чтобы говорить о таких вещах. И уже не приобрету, не научусь. Теперь уже поздно. Так же как, полагаю, не напишу всю жизнь обдумываемый трактат о пошлости.
Русская литература очень много работала с этой категорией. Но надо поставить ее в какой¬-то большой философский контекст. Потому что совершенно очевидно, что она связана и с религиозным, и с романтическим сознанием. О пошлости можно говорить только в том случае, если мы имеем в виду, что человек есть существо, обладающее душой. Ведь почему мы говорим: какой ужас, что люди тратят свою жизнь на шинель, на тряпки, на похоть, на мелкие выгоды? Потому что исходим из якобы аксиомы: человек – не для этого. Он, видите ли, создан для чего-то другого…
Как и стоит эта проблема у Гоголя: есть Бог, человеческая душа бессмертна, ее ожидает Страшный суд, а человек занимается черт знает чем. Неужели вы думаете, что здесь, на земле, можно быть счастливым, поедая дыни и собирая тряпки? А Спаситель – вон он там, ждет вас на Страшном суде. Вы с чем к нему явитесь? Ах, пестро! – нет? не пестро? Так вот я на вас сейчас нашлю провокатора, будь то Тарас Бульба, Хлестаков, Чичиков или сам черт, он вас разбудит.
Но тут ведь вот какое дело: в каждом человеке, в каждом писателе есть какой¬-то процент пошлости. Он непременно должен чувствовать ее в себе, если не пишет просто картинки с натуры. В лучшем случае получается Набоков, который умудрился прожить так опрятно, что ни одна пылинка пошлости, кажется, не осела на его пиджаке.
– Человек мало-мальски реального сознания, конечно, должен чувствовать ее в себе, и действительно, многим удается ее описывать именно потому, что она в них есть, а чего-то при этом в них нет. Должен быть такой выеденный край, выщербленный кусок, который все время болит. Тогда, через этот ущерб, очень понимаешь то, что в тебе есть.
Гоголь в каком-¬то пошлом смысле не был мужчиной, вот и Набоков в каком-¬то пошлом смысле не был мужчиной, до поры. А потом, когда он стал очень стареньким и сытым подростком, у него уже перестало получаться – «Ада» там и все такое. Это даже неизвестно, не сама ли это пошлость? Может быть, просто расслабленность? Самодовольство? Всякое самодовольство, начиная от гордыни и кончая физической сытостью, уже знак пошлости. Впрочем, не исключено, что мне попался скверный перевод или, проще, что это мне не по уму.
Еще не был написан «Изломанный аршин», в котором С.Л. заново увидел и оценил Герцена. И мой вопрос исходил из нашей пожизненной любви к нему. Я спросил, как он в контексте всего сказанного оценивает Герцена? Его при всем желании нельзя свести к точке. Это первое. Второе: он был человеком реальным, но и пошлости в нем, кажется, нет.
– Каждый литератор ищет в литературе то, что ему надо, как собака ищет ту именно травку, которая ей поможет. В Герцене я бессознательно искал решение проблемы темпа. Это чисто физическая проблема. Она состоит в том, что мы думаем гораздо быстрее, чем пишем, и, конечно, значительно быстрее, чем читаем.
В ХХ веке это стало уже почти невыносимым: мы пропускаем пейзажи, описания, портреты. Ради чего? Ради только действия? Нет, и действие-то мы пропускаем и на последней странице ищем разгадку. Не в этом дело. Должна быть такая интонация и темп, которые бы шли как бы с опережением, заманивая тебя в чтение. В этом смысле, мне кажется, всякий по-настоящему хороший писатель – это писатель быстрого темпа.
Темп Герцена – он очень быстрый. Это скороговорка. И темп Достоевского – это тоже скороговорка. И, как ни странно, канительно длинная, мучительная по синтаксису фраза Салтыкова – это тоже скороговорка. И Зощенко тоже напрасно уверяет нас, что он пишет короткими фразами, – такая, дескать, литература для бедных. Что значит – короткими? Зато в них нарочно вставлены якобы ненужные, якобы бессмысленные слова. Потому как для того, чтобы создать скорость, необходимы и замедлители.
Русская литература все время искала эту скорость и в каком-¬то смысле нашла ее в Бунине, которого странным образом переосмыслил Набоков и создал еще более быстрый темп. Я не читаю по-английски, но думаю, что, может быть, за что¬-то такое уважают Джойса. И я готов допустить, что по такой же причине люди, читающие по-французски, считают хорошим писателем невыносимо скучного для меня Пруста. За реализованную скорость мысли.
Идеальная проза – это когда вы не отстаете от фразы и уж тем более не оставляете ее позади, а она вас тянет за собой. В этом смысле прямой предшественник Бунина, как ни странно, – Достоевский. А Достоевский читал Герцена. Это на самом деле довольно прямая линия. Тургенев, Толстой и даже Чехов – линия другая. Они не стремятся к скорости. Это не делает их прозу менее ценной, может быть, даже наоборот. Но я искал именно этого. И тут первое имя, пожалуй, Герцен.
Мне кажется, есть русский жанр, соответствующий тому, что на Западе называется эссеистикой. Герцен, Салтыков, Писарев. Можно добавить и Достоевского. Лесков, Глеб Успенский. Это проза мышления, проза, разгоняющая мысль. Увы, вся эта проза непереводима. Даже Достоевский. Судя по людям, которые сюда приезжают, любя Достоевского, они какого-то другого Достоевского любят. Захлебывающаяся от смеха истерика вряд ли поддается переводу.
Короче говоря, я учился скорости. А научился разве что не позволять себе ненужных слов. Но это всего лишь опрятность. А скорость, она достигается не тем, что пишешь только необходимые слова. В настоящей прозе помещен на последнюю страницу некий магнит, который тащит к себе все повествование. Это как тяга в печке.
Вот теперь о «случайных» словах. У самого С.Л. ненужных слов не было, это очевидно. Поэтому, когда он говорил о случайных словах в стихах Окуджавы или в моих текстах, я воспринимал это как упрек. У меня же в уме всегда было Пастернаковское «чем случайней, тем вернее». Речь не о небрежении формой, а о точном состоянии, которое надиктовывает эти как бы случайные слова. О той самой попытке поймать мелодию, о которой говорил Саня.
Закона здесь, разумеется, нет, но проблема сложнее и существенней, чем кажется на первый взгляд. Проза, идущая от литературы, не просто к искомому совершенству, но к совершенству изначально заданному в образцах, не сразу принимает в себя случайность живой речи. Мандельштам заговорил о «железнодорожной прозе» только накануне тридцатых: «Железная дорога изменила все течение, все построение, весь такт нашей прозы. Она отдала ее во власть бессмысленному лопотанью французского мужичка из „Анны Карениной“. Железнодорожная проза, как дамская сумочка этого предсмертного мужичка, полна инструментами сцепщика, бредовыми частичками, скобяными предлогами, которым место на столе судебных улик, развязана от всякой заботы о красоте и округленности». В это время стали изменяться и его стихи, тогда-то и понадобились ему «случайные» словечки Зощенко, которому он намеревался поставить памятник.
Нечто подобное происходило и в прозе Лурье. Быть может, еще со времен публикаций в «Невском времени», и уж определенно с колонок в газете «Дело». В книгах – с «Муравейника». Похоже, это было выполнением внутреннего задания: овладеть речью разночинца, научиться столкновению разностильных слов. Возможно, как и у Мандельштама, шел поиск новой, демократической аудитории. Процесс этот требует немалого мужества. Не исключено, что и провинциальный учитель С. Гедройц появился по этой же причине.
Зашел разговор о Ходасевиче. Замечательный поэт. Вот уж у кого нет случайных слов. Но и воздуха, песни иногда не хватает. У Блока лишних и стертых слов множество, но есть проникающая интонация, есть мелодия.
Кстати вспомнили эссе Набокова о Ходасевиче, в котором тот писал: «В сравнении с приблизительными стихами (т. е. прекрасными именно своей приблизительностью – как бывают прекрасны близорукие глаза – и добивающимися ее также способом точного отбора, какой бы сошел при других, более красочных обстоятельствах стиха за „мастерство“) поэзия Ходасевича кажется иному читателю не в меру чеканной – употребляю умышленно этот неаппетитный эпитет. Но все дело в том, что ни в каком определении „формы“ его стихи не нуждаются, и это относится ко всякой подлинной поэзии».
Вообще говоря, весь пассаж двусмысленный. Что стихи Ходасевича ни в каком определении «формы» не нуждаются – слабый довод. И «приблизительность» прекрасна, или только «в более красочных обстоятельствах» (?) ее можно счесть за «мастерство»? Я как-то показал Сане свое эссе, которое ему понравилось. Там о фильме Феллини «8 ½»: «Режиссер в „8 1/2“ решает все же снимать фильм. Пусть это будет хоровод приблизительных людей, какими он их видит. Это честно. Кто отважится сказать, что знает человека? Фильм будет не о правде, а о том, как он ищет правду, которой не знает. И это тоже честно. Фильм о памяти, в которой все равны. В этом, может быть, и заключается сумасшествие художника, но это же оборачивается волшебством искусства».
Тот разговор закончился Герценом. За счет чего он достигает искомого ускорения?
– Во-первых, неожиданные соединения слов. И, во-вторых, у автора есть чувство правоты. Читателю каким-¬то образом передается это чувство. Он ощущает над собой власть автора. Это ведь и есть то, что называется – интерес.
… В сущности, большая удача – когда не для кого писать. Даже не представить этого читателя, и нет смысла к нему бессознательно подделываться. Тогда-то что-то настоящее и получается. Только нужна голова. У Вас она есть, у меня – увы. Текст продвигается со скоростью абзац в неделю, я его разлюбил, я к нему охладел и совершенно не понимаю, что находил в нем раньше. Из чистого упрямства доведу до конца. Надеюсь. Но не уверен, что пришлю Вам и Андрею. Знаете, когда профессиональный фигурист вдруг запинается и падает на лед, он выглядит более неуклюжим, чем какой-нибудь новичок. Медицинские мои дела и новости – так себе, не буду Вас грузить. А, честно говоря, стало любопытно, хотелось бы кое-что досмотреть. Если, как мнится, до конца фильма осталось немного. Но ведь сразу пойдет вторая серия, и т. д.
…Как Вам там живется – не спрашиваю. Если бы не было привычки к алкоголю и выучки – можно было бы и спиться. Час назад пришла в голову песенная строка: и вся-то наша жизнь – псу под хвост. Тем не менее, прошло всего восемь месяцев, как я начал некоторый текст, – а он уже и готов. Довольно большой и должен как бы отлежаться. Чтобы перечитать и вытравить неизбежные пятна маразма. Или не стану вытравлять, а просто, как сказал бы Тургенев, тихо положу перо. Это не важно. Я выиграл пари с самим собой: дописал до точки. В тексте – 4, 5 листа. Он меня занимал, отвлекал, развлекал, не давал думать ни о чем другом (а все другое и не стоит того, чтобы о нем думать). Что буду делать дальше – ума не приложу. Работать мне слишком трудно, курить нельзя, пить – невкусно. Лечиться и ждать. Авось зимой мы хоть ненадолго приедем (если позволят врачи и бюрократы).
Что пишете? Что читаете интересного? Нет ли хоть сплетен литературных? Сюда скоро будут Соловьев и Клепикова: разоблачать Довлатова. Расскажут о своей новой книге. Входной билет стоит столько-то. Бизнес. В молодости, да вдвоем, мы могли бы устроить скандальчик. Но, с другой стороны, они же не существуют. Я тут на полторы минуты включил телепередачу другого Соловьева – и в ужасе выключил. Адский цинизм, адская ложь.
Формула гения и разборки с кумирами. Размышления о гениальности, в противоположность сегодняшним толкам, когда понятие «гений» стало общекухонным достоянием, были еще в цене. И про Саню тоже (предмет реальный и близкий) – гений? не гений?
В нем самом мысль о природе гениальности была, видимо, постоянной, но проявлялась в рассеянном виде с редкими фокусированными вспышками. Как, допустим, мысль о сферичности вселенной или физическом определении времени. Типа, стыдная, подростковая забава. Например: процитировать несомненно гениальную строчку. Но без комментариев. То ли с победным, то ли с конфузливым молчаньем и улыбкой.
Иногда наоборот: ну, а что гений? Остроумие, скорость, количество комбинаций в секунду. Только и всего. Однако втайне, кажется, все же мечтал вывести когда-нибудь формулу гения, в чем подозревал и меня.
Формула – это ведь в некотором роде та же Точка. Средоточие всего. Универсальность. Устремление к ней, лежащее в плоскости религиозной, было воспринято нами, быть может, через символизм.
Потрясения детства и юности поражают сердце и ум. Ум по росту лет подвергает их анализу, разъятию и часто уничтожению. Из сердца они не уходят никогда. Их света, как той самой умершей звезды, хватает на всю нашу жизнь.
Как-то сказал Сане, что перечитал «Столп и утверждение истины» и нашел там много велеречивой беллетристики, особенно в страницах о любви. Во всяком случае, от того магнетического впечатления, какое было в юности, нет и следа. Он ответил, что недавно произвел тот же опыт и с тем же результатом. А в юности «Столп» был одной из самых важных книг. Кстати вспомнили, что среди уничтоженных Блоком в последний год изданий, было и это сочинение Флоренского.
Само это признание о важности Флоренского в юности от всеми уже зачисленного в штат скептика было неожиданным. Одигитрия, должно быть, улыбнулась.
Серьезно: я и тогда был уверен, как думаю и сейчас, что разочарование не могло окончательно погубить первоначального впечатления. У Блока, в том числе.
Та же история в его отношении к самому Блоку. Разбирался с той жестокостью, которая достается только кумирам. Безвкусицы едва ли не больше, чем у Есенина. Сейчас понятно, что и символизма никакого не было. Последовательное умирание, начавшееся еще в молодости. Прекрасная Дама – да, это было сильное и подлинное состояние. Потом только сухая возгонка. Насиловал воспоминания, вызволял из навсегда ушедшего веру, восторг, свет, запах, пейзажи и… бесконечно жалел себя. За то, что оставлен, отставлен, что этого больше нет. Вот мотив всех стихов. Отличное к тому же оправдание пьянства.
Но и здесь все не так просто. Как-то в часы литературной выпивки (судя по вопросу) спросил, какое у него любимое стихотворение Блока? Он без минуты раздумья стал читать:
Болотистым пустынным лугом
Летим одни.
Вон, точно карты полукругом
Расходятся огни.
Гадай, дитя, по картам ночи,
Где твой маяк…
Еще смелей нам хлынет в очи
Неотвратимый мрак.
Полет, что и говорить, безутешней и пронзительней, чем полет Булгаковской Маргариты. И жило в нем это прочно.
…страшно хотелось бы увидеться. И я все еще надеюсь (теперь уже на февраль), но есть непредсказуемый фактор, и он сжимает время (собственно, в этом и состоит его непредсказуемость). Покамест мне назначили – причем срочно и без обычной паузы – сразу два курса химии. Авось они заставят фактор отступить. Но что точно – они ослабят органон и особенно голову, а также могут сделать невозможным использование самолета. Тогда не знаю…Но не будем пока о грустном. Тем более, что никто не знает, что будет в феврале. Такое ощущение, что перемены неизбежны.
…Пишу из больницы, под капельницей, с иглой в вене,… глядя в огромное прозрачное окно: залив, за ним горы, за ними – континент Америка, за ним – Атлантический океан, за ним – Европа, – и вот – -Каким бы ни был год, будет в нем и хорошее. Желаю хорошего всем, кого люблю, и всем, кто любил меня.
Воевода дозором. Иногда казалось, что С.Л. ощущает себя неким распорядителем или дозорным на пространстве литературы. Это была не поза мнящего себя, а врожденная ответственность муниципала, острое ощущение слова как действия.
Для него естественно было начать рецензию на книгу Филиппа Рота словами: «В Нобелевский комитет Шведской королевской академии, Стокгольм». Просьба к Нобелевскому комитету осталась, увы, без ответа.
Тогда еще спорили об ударении в фамилии Василия Розанова – Ро2занов или Роза2нов? С.Л. сказал, как подписал указ: конечно, Ро2занов. В нем и так всякого было с избытком, зачем добавлять еще эту претенциозность?
Прекращая споры о каком-то тексте: здесь есть главное – автор создал вымышленный мир, в котором не стоит вопрос о вымысле.
Да, он ощущал себя имеющим право, которое осуществлял деликатно, репликой или сыгранным капризом, но без тени уязвленного самолюбия. Никита Елисеев написал в некрологе, что если будет жива литература, то «Изломанный аршин» издадут когда-нибудь в «Литературных памятниках» с толковыми и уважительными комментариями. В продолжение литературы С.Л. как будто не верил. Любовь придумала литература, говорил он, и долгое время питалась этой выдумкой. Но в эпоху промискуитета перестанет быть актуальной тема, а вместе с этим закончится и литература. Однако если не вера, то надежда на то, что литература будет жить, в нем оставалась. А значит, и на книгу в «Литературных памятниках».
Он искал, конечно, признания, но еще больше заинтересованного внимания, родного читателя. Ему важно было, как воспринимает его текст семья, друзья, далекие коллеги, учителя и даже девочки в провинции. К замечаниям прислушивался редко, но отклик ценил чрезвычайно. Из Пало-Альто написал: «Порадовали тут меня подборкой Салимона. Там оказалось (ближе к концу) стихотворение с посвящением мне. Явно навеянное „Таким способом понимать“». В стихах Владимира Салимона, опубликованных в журнале «Арион», были, в частности, такие строки:
Поэту в гроб положат розу,
что не истлеет за сто лет.
Зашел в церквушку по морозу,
где похоронен Шеншин-Фет.
Мой друг так коротко и ясно
об этом написал, что мне
вдруг стало больно жить напрасно
в холодной северной стране.
Думаю, радость Сани не в первую очередь была вызвана художественными достоинствами текста.
Дозорный-то дозорный, ответственный, показательно независимый от авторитетов, но он был, как всякий автор, зависим от мнения, высказанного по поводу его прозы. Не любить Музиля, которого Бродский называл в числе первых прозаиков ХХ века, это естественно и просто. Но радовался почти по-детски, когда ему передали отзыв Бродского на статью в его сборнике стихов: Саня, как всегда, попал почти в десятку. Цитировал и восхищенно приговаривал: если бы в отзыве не было слова «почти», это был бы не Иосиф. Потом, сколько помню, Бродский прислал ему с надписью свою книгу.
«Изломанный аршин» посылал главками по мере написания нескольким адресатам. Числом семь, если не ошибаюсь. Андрею Арьеву, Лиле Скульской, мне, двум адресатам в Германии. Других не знаю. Вряд ли правил после этого, но в откликах определенно нуждался и навигатор внутри него как-то на них реагировал. После получения первых глав я сказал почти в шутку: не задумал ли он написать своего «Медного всадника» о судьбе бедного Полевого? А одним из невольных операторов изрубившей его имперской машины будет Пушкин. Этой случайной проницательностью он был удивлен, почти восхищен, но и огорчен, кажется.
…Видите, как все ужасно. Так ужасно не бывало, наверное, никогда, не исключая самых страшных лет. Вернее, мы просто туда вернулись. Это и есть – ужасней. Ни одна страна не может выдержать такого повтора. И наша не выдержит. Жаль ее, но еще больше – нас, а больше всего – наших детей. По-видимому, ничто уже не имеет никакого значения. В частности – ни один, никакой текст.
…Как Вы живете – не представляю, т. е. представляю с ужасом. Включил российские телеканалы – ни на одном не удержался более минуты. Такого позорного единения толпы с начальством – Басилашвили прав, – не было даже при Сталине (не говоря уже – при Брежневе). Не пишу о своих перспективах, потому что сам их не представляю. С одной стороны – конец истории довольно близок. Сдругой – возможна краткая передышка этим летом, и якобы можно будет даже рискнуть на пару недель в СПб. Но все зависит от показаний разных приборов. Один сюжетик (из трех-четырех), не самый бессмысленный, про Салтыкова практически обдуман, хотелось бы успеть изложить. С этим большие трудности, думать легче, чем писать…
…нахожусь здесь, в безопасности и покое, в безвозвратном одиночестве. Посмотреть бы вместе телевизор, неистово артикулируя матерные слова.
Дон-Кихот. Все сравнения, как известно, хромают. Однажды на Дне рождения Сани я назвал его Дон-Кихотом. Сравнение было продиктовано ситуацией и жанром. Кажется, накануне он помогал нам при переселении таскать мебель. Отозвался с азартной готовностью, как на все бытовые просьбы. В общем, то еще сравнение.
Отвезти, напомнить, перетащить тяжесть, дать в долг, выступить в защиту – чем конкретнее было дело, тем охотнее он на него откликался. Долгое время и митинги были делом. А статья об Анне Политковской оказалась столь резкой и существенной, что ее с трудом удалось перепубликовать много лет спустя в его юбилейном сборнике. Жест помощи и заступничества был для него естественным, не рефлекторным, была ли в этом физическая тяжесть, бытовое неудобство или риск для репутации и карьеры.
Но в те далекие годы (было это, кажется, на пятидесятилетии) я вовсе не думал о значимости сравнения. И не подозревал, конечно, как важно оно было для С.Л… Он всю жизнь ощущал родство с этим трагическим безумцем, который сквозь действительность видел ведомую только ему реальность. Никакое изящество формы, никакая благожелательность улыбки, восторженная почтительность, благосклонность, либеральная фраза, талантливая изобретательность не способны были обмануть его проницательности реалиста. Что в литературе, что в жизни. О Дон-Кихоте он писал: «В самом деле, мы-то с вами умеем оценить эффект: над безумным потешаются безумные!
Причем с Дон Кихота взятки гладки, у него диагноз: позабыл код окружающей реальности, пытается воспользоваться ключом от совсем другой – не тут-то было. Принимает условности архаичного, примитивного жанра как законы истории либо природы или, во всяком случае, как руководство к действию, вот и не может взять в толк: существа в странных одеяниях, бормоча тарабарщину и зачем-то терзая себя до крови, тащат куда-то неподвижную женщину в трауре, – что это, если не похищение, причем с применением колдовства? Как же не воспрепятствовать? Вперед, Росинант!
А все остальные, видите ли, нормальны и благонадежны; происходящее толкуют адекватно: рутинное, но полезное мероприятие, направленное на повышение урожайности путем преодоления засухи».
В одно из его писем была вложена запись: Лурье читает стихи Федора Сологуба 20-х годов. Все о Дон-Кихоте.
Дон-Кихот путей не выбирает,
Росинант дорогу сам найдет.
Доблестного враг везде встречает,
С ним всегда сразится Дон-Кихот.
Славный круг насмешек, заблуждений,
Злых обманов, скорбных неудач,
Превращений битв и поражений
Пробежит славнейшая из кляч.
…
Подавив непрошенные слезы,
Спросит Дон-Кихот пажа: «Скажи,
Для чего загублены все розы?» —
«Весть пришла в чертоги госпожи,
Что стрелой отравленной злодея
Насмерть ранен верный Дон-Кихот.
Госпожа сказала: „Дульцинея
Дон-Кихота не переживет“.
…
И пойдет за гробом бывший рыцарь.
Что ему глумленья и хула!
Дульцинея, светлая царица
Радостного рая, умерла!»
…
А еще, какое было удовольствие посреди горячего спора о Музиле, Прилепине или Асаре Эппеле приватно перекинуться с Саней на футбол. Например, на какой-нибудь вчерашний матч «Ливерпуля». В нашей компании редко кто мог поддержать эту тему, а значит и помешать.
Любимый им «Ливерпуль» не раз творил чудеса, но с испанцами чуда не случилось. «Скаузеры» (так, кажется?) забили первыми гол, а потом сдулись. Саня улыбается: можно даже сказать «мерсисайдцы». Мы наслаждаемся испугом коллег (совсем пропащие!).
От литературы надо уметь отдыхать. Тем более, от интеллектуальных тёрок о ней.
Всё это длилось и длилось. Иногда казалось, что будет длиться вечно. Знали, конечно, о своем конце, но притворялись бессмертной медузой Turritopsisnutricula. «Наш с Вами разговор никогда не прекращается: вот уже сколько лет – практически ни на минуту». Сколько бы ни было лет тогда, когда это писалось, теперь – на год больше.
2016
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?