Текст книги "Павел I"
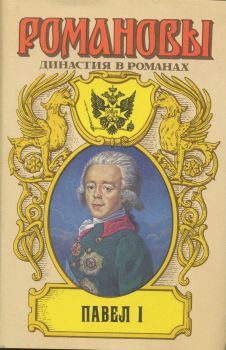
Автор книги: А. Сахаров (редактор)
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
III
ОПАЛЬНЫЙ
Почти на полпути между Москвой и Коломной, вёрст двенадцать в сторону от большого тракта, стояла небольшая помещичья усадьба, Любимка, принадлежащая отставному генерал-майору графу Илие Дмитриевичу Харитонову-Трофимьеву. Летом это был прелестный и благодатный уголок, совсем заброшенный и запрятанный среди берёзовых, ольховых и сосновых рощ, которые, окружая его со всех сторон, ревниво и тихо оберегали мир, покой и уединение всеми забытого приюта. И точно, в течение долгих годов екатерининского царствования усадьба Любимка оставалась в полном забвении. Редко кто из соседей-помещиков заедет, бывало, отдать «решпект» обывателю Любимки, да и то заезды эти по большей части делались словно бы крадучись, исподтишка, с опаской, как бы не проведали, как бы не дознались да не донесли часом в подобающее место… Полицейский пристав, которому поручено было наблюдение за образом жизни, мнениями и поведением любимковского обитателя, каждый месяц аккуратнейшим образом являлся к нему в усадьбу, причём старый дворецкий Аникеич принимал его «в барской конторе», поил чайком и наливками, снаряжал особую подводу, которую нагружали из господских кладовых и амбаров всякой живностью и припасами, вроде битых гусей и кур, свиного окорока, лукошка яиц, корца мёду, четверика муки, меры круп, масла и проч. и проч. Полицейский пристав, получив «детишкам на молочишко», угощённый по горло и ублагодушествованный, расставался приятельски со старым Аникеичем и, не видав в глаза того, за коим был приставлен, убирался восвояси, отягчённый его щедрыми дарами и мечтая, что вот, даст Бог, на будущий месяц, коли доживу, опять на 3-е число явлюсь к сиятельному милостивцу за получением «законоположенного». Так шли многие и многие годы…
Один, забытый в Петербурге, забытый и окрест себя, ничего, кроме смерти, не ожидая в будущем и ничего ни от кого не желая, кроме полного покоя, в каком-то гордом смирении, спокойно и твёрдо коротал свои старческие дни в уединённой усадьбе граф Илия Харитонов-Трофимьев… А было время, что и он играл свою видную роль и в армии, и при дворе Елизаветы, и при Петре III; но это было давно… было да сплыло, и сплыло так, что не только сверстники и завистники графа успели давно уже простить ему успехи, забыть ему его прошлое, но даже он и сам простил им их козни и интриги и успел забыть всё минувшее и сделался вполне равнодушен как к своим былым успехам, так и к былым завистникам.
В известном «перевороте» 29 июня 1762 года он не принял ни малейшего участия, открыто порицал Орловых и остался верен памяти Петра III.
– Он хотя и немец по духу, но, несомнительно, человек честный и благожелательный ко всем российским сословиям, – говорил о Петре граф Илия, споря с Григорием Орловым на другой или на третий день после «переворота». – И для того мне, – прибавил он, – как тоже честному человеку, не подобает нарочито смутьянить и играть моим верноподданством.
Граф Илия, однако же, силой вещей вынужден был подчиниться новому порядку, но принял присягу не ранее, как воочию увидев мёртвого императора, привезённого для погребения в Алексайдро-Невскую лавру.
– Не лицу присягаю, присягаю престолу российскому… C'est le principe, mon cher! c'est une autre chose![12]12
Это – принцип, мой дорогой! Это – другое дело! (фр.).
[Закрыть] – неосторожно выразился он при этом одному из своих приятелей, и слова крутого графа в тот же день были доведены до сведения кого следовало. С этой минуты его оставили в тени. Ни на одном из торжественных придворных праздников не было видно в числе приглашённых гостей статной и мужественной фигуры графа Харитонова-Трофимьева, равно как и в длинных списках наград и пожалований орденами, чинами, титулами и крестьянами тщетно кто-нибудь стал бы доискиваться его имени. И так продолжалось с ним во всё блестящее царствование Екатерины.
Наследник престола, Павел Петрович, ещё в детстве своём случайно как-то зазнал графа Илию. Однажды даже пригласил он его к столу, на свою особую половину, и граф Илия обедал с наследником, в обществе воспитателей его, графа Панина и Порошина, и в течение обеда «много утешал царственного отрока» своими занимательными и поучительными рассказами о физике, химии и о воинском устройстве многоразличных европейских армий. Но когда об этом «дошло до сведения», то граф Панин в тот же вечер деликатно «получил на замечание», и с тех пор Харитонов-Трофимьев уже не обедывал с наследником престола.
Впоследствии тому же самому наследнику, когда он уже был взрослым и женатым человеком, граф Илия имел случай оказать некоторую услугу. В один из своих приездов в Петербург (постоянно он жил у себя в усадьбе, но въезд в столицу, «по силе нужности», формально воспрещён ему не был) узнал он, что Павел Петрович временно стеснён в средствах, но не решается просить у императрицы, так как однажды встретил уже полный отказ в подобной своей просьбе.
– Доложите великому князю, – сказал граф одному из приближённых наследника, от которого случайно узнал о его затруднениях, – доложите ему, что в память его августейшей бабки и родителя, коим я был некогда облагодетельствован, всё моё достояние, когда бы и сколько бы ни потребовалось, принадлежит его высочеству.
И когда тот же приближённый, будучи послан благодарить графа за его обязательную услугу, присовокупил, что наследник ни теперь, ни впоследствии не забудет графу его одолжения и при первой возможности постарается сам отблагодарить его достойным образом, – граф Харитонов-Трофимьев, закусив губу, выпрямился во весь рост и сказал:
– Передайте от меня его высочеству, что напрасно он обо мне таковое мыслит, что я сие сделал не ради надежд на мою персональную выгоду в будущем, но единственно токмо ради моей благодарной памяти к моим благодетелям, от коих милостей я получил всё, чем пользуюсь ныне.
Этот случай был сопряжён с последним приездом графа в столицу. Сколь ни отличалась его услуга самым интимным и скромно-конфиденциальным характером, тем не менее люди, усердно следившие за Павлом изо всех щелей его гатчинской резиденции, сочли нужным «довести» о «негоции» графа Харитонова-Трофимьева. Эта «негоция» не понравилась, и вот с тех самых пор граф Илия почти уже безвыездно затворился в своей уединённой усадьбе. С тех пор в кругу соседей и у всех, кому только было ведомо имя Илии Харитонова-Трофимьева, стал он известен под прозвищем «опального графа».
Это был человек глубоко несчастный в своей жизни, и только одна фамильная гордость да прирождённая сила характера помогали ему вечно таить внутри себя все муки своего несчастия, никому никогда не жалуясь, нигде и ни в ком не ища себе сочувствия и даже не допуская мысли, чтобы кто-нибудь осмелился подумать, будто он и в самом деле может чувствовать себя несчастным. Его политическая карьера была уже давно и безвозвратно разбита; но столько же, если не более, была разбита и его жизнь семейная. Граф не был счастлив в супружестве. Жена его, которой всецело отдал он, уже будучи в опале, свою руку и сердце, не сумела ни оценить это сердце, ни понять характер графа. Капризная и своенравная дочь прожившегося боярина, воспитанная в модных парижских салонах того времени, она пленила графа Илию своей блистательной внешностью, шутя отдала ему свою руку, шутя пошла с ним к аналою, с проклятием родила ему дочь, а год спустя покинула и эту дочь, и самого графа, предпочтя своей семейной обстановке жгучую жизнь тех же самых блестящих салонов Парижа и скандалёзную репутацию открытой подруги одного из самых знаменитых тогдашних «энциклопедистов». Её скандально-блестящая слава, которой завидовали у нас не только многие великосветские жёны, но даже и мужья этих жён, втайне грызла и сосала сердце гордого графа. Насколько возможно, он старался если не забыть, то хоть несколько облегчить, утихомирить своё горе и боль уязвлённого самолюбия тишиной своего глухого сельского угла, постоянным углублением в чтение, в историю да в сельскохозяйственные работы. Впрочем, он не обвинял безусловно свою ветреную графиню. Напротив, он склонен был скорее обвинять себя, так как главную причину семейного несчастья полагал в своём собственном неосмотрительном увлечении, в том, что женился, будучи старше своей жены годами более чем вдвое. Чтобы не подать повода к каким бы то ни было упрёкам, он аккуратно высылал ей слишком достаточные средства для её заграничной жизни и никому никогда не заикался про эти щедрые подачки. Но свои собственные потребности сузил он до самых скромных пределов, и не потому, чтобы чувствовал в этом настоятельную материальную необходимость (средства его вообще были более чем прекрасны), но единственно потому только, что ему, после петербургского блеска и в особенности после разрыва с женой, стал глубоко противны вся эта пышность, и гром, и роскошь вельмож его времени. Графу Илие захотелось похорониться в тишине какого-нибудь неведомого угла, уйти внутрь самого себя, порвать со всем этим светом, чтобы и о нём никто, да и сам он ни о ком не слышал. У него под Москвой было огромное и великолепное имение, которое славилось своим каменным дворцом и обширными садами. В этом имении у графа помещались и знаменитый в своё время конский завод, и знаменитая псовая охота, и домашний оркестр, и домашний театр с трагиками, благородными отцами и первыми любовниками, с целым штатом певиц и танцовщиц из крепостных; тут же проживали у него на вечных и льготных хлебах и капельмейстер-немец, и балетмейстер-француз, и куафёр, и костюмер, и много иного, вполне теперь бесполезного ему люда. С тех пор как жена его оставила, он никогда не живал в своём подмосковном имении, но, «сократив» самого себя, даже и не подумал, чтобы хоть сколько-нибудь «сократить» весь этот праздно проживающий штат.
«Пусть их живут; надо же и им с чего ни есть кормиться!» – махнув рукою, отвечал обыкновенно граф Илия на представления управителя, который в первое время новой уединённой жизни своего патрона решался иногда докладывать ему, что не мешало бы-де распустить дармоедов.
Но зато заботы и всю любовь своего горячего и обиженного сердца сосредоточил граф на своей дочери. Как самая нежная мать и нянька, он следил за нею шаг за шагом ещё с самой колыбели этого покинутого ребёнка. И сколько мучительных дум и забот, сколько блестящих надежд и томительных сомнений о будущем своей дочери кипели и волновались в душе отца, когда он по вечерам сидел, бывало, на низеньком табурете пред её детской кроваткой в ожидании, пока заснёт его дитя под тихое, мурлыкающее бормотанье старой няньки Федосеевны, каковая взяла себе за правило «беспременно и кажинный вечер сказывать сказки своей графинюшке…»
Эту дочь, в честь своей царственной благодетельницы, граф Илия назвал Елизаветой и, нарекая ребёнка дорогим ему именем, в молитве своей призывал покойную государыню быть её ангелом-хранителем, её неземною восприёмною матерью.
Он не жалел никаких средств на воспитание и образование своей дочери. В течение всего её детства в Любимке проживали три пожилые особы: англичанка, француженка и немка, которые были обязаны заниматься с графиней Лизой языками, рукодельями и изящными искусствами, т. е. живописью, игрою на арфе да на клавесине. Но простой русский и притом крепостной человек, нянька Федосеевна, всё ж таки «даже и при трёх мадамах» постоянно занимала своего рода первенствующую роль при «графинюшке». Она, конечно, не вмешивалась в дрессировку светского её воспитания, предоставленного трём «мадамам»; но чистая и благотворная струя русского влияния, без всякой, конечно, предвзятой на этот счёт мысли, а просто себе и как бы инстинктивно, по действию самой природы вливалась в душу ребёнка благодаря всё тому же простому и непосредственному человеку – няньке Федосеевне, которая научила свою девочку лепетать и первые слова, и первые молитвы. Областью Федосеевны была спальная комната «графинюшки Лизутки», её умыванье, чесанье, одеванье и раздеванье, её каждоутренний и каждовечерний «baise main a papa»,[13]13
Целовать ручку папа (фр.).
[Закрыть] её бельё и платьица, её куклы, цветы и картинки, русская сказка и песни, русский простой разговор, подчас воркотня, а более того – тихий вздох да задушевная ласка своей «полусиротки». Три учителя для русского языка, математики, истории, географии и мифологии были выписаны графом, по рекомендации ректора, из лучших студентов Московского университета. Закон Божий и священную историю граф преподавал сам. Он был очень религиозный человек и никому, кроме себя, не решился «препоручить сего наиважнейшего предмета». Да и вообще, среди своих книг и агрономических занятий он постоянно находил время лично следить за воспитанием и образованием своей дочери, вникая во все его подробности.
Таким образом прошло всё детство и отрочество этой девочки, выросшей без матери, среди привольной жизни забытого сельского уголка, и – «графинюшка Лизутка» незаметно стала взрослой девицей. Это была совсем русская красавица: сильная, здоровая, ловкая и хорошо сложённая, с плавными и грациозными движениями, с лучистым взглядом больших и открытых серых глаз, с «соболиною» бровью и длинными ресницами, с несколько капризно-вздёрнутым носиком, густыми светло-каштановыми косами и, наконец, с обворожительной улыбкой свежих, румяных губ, и эта улыбка имела у неё свойство, словно солнце, озарять всё лицо, всё существо её, когда ей было весело или когда она хотела быть приветливой.
Со вступлением графини Елизаветы в семнадцатилетний возраст учителя её были отпущены с хорошими наградами, а три «мадамы» остались при ней по-прежнему – «для практики и для компании», но старая нянька Федосеевна и в новом положении своей воспитанницы, «по законному своему праву», всё-таки не покидала первенствующей роли, и графиня Елизавета, как и в оны дни, продолжала быть для неё всё тою же «графинюшкой Лизуткой».
IV
СОН В РУКУ
Ноябрьский сиверкий день начинал сереть. Стая ворон и галок шумливо кружилась над обнажёнными деревьями любимковских рощ, наглядывая себе в прутьях ветвей удобные места для ночлега. Граф Илия, проснувшись от послеобеденного сна, вышел по обыкновению в своём тёмно-синем бархатном халате на беличьем меху посидеть в гостиную, куда в эту пору дворецкий Аникеич, тоже по обыкновению, принёс ему с погреба большую хрустальную кружку фруктового кваса. Граф любил посидеть в этой комнате именно в тот час, когда уже начинают спускаться сумерки, и, погружаясь в глубокое, спокойное кресло да прихлёбывая из кружки ароматный квасок, послушать пение своей Лизы с аккомпанементом арфы или её игру на клавесине. Графиня Лиза сидела у окна, усердно склонившись над пяльцами; она вышивала шелками роскошный букет для диванной подушки, которую намеревалась поднести в «презент» своему отцу в день его рождения, и теперь торопилась, пока ещё не стемнело, окончить большую пунцовую розу.
– Полно-ка глазыньки томить! – заглядывая из-за плеча дочери на вышиванье и мягко проводя рукой по её волосам, заметил граф, – успеешь ещё, родная…
– Ах, пожалуй, не мешай, папушка! – тряхнув головкой, с оттенком лёгкого нетерпения, озабоченно проговорила Лиза, – ещё шестнадцать городков остаётся, и тогда конец.
– Да глаза же слепишь, говорю тебе.
– Пустое! Молодые ещё, не ослепнут… Ведь для тебя же стараюсь…
– Для меня… Ах ты, рукодельница моя прилежная! – ласково усмехнулся граф. – Для меня… А чем же я для тебя постараюсь? В Москву свозить нешто?
– Не охотница я, мне и здесь хорошо пока.
Аникеич вошёл с полной кружкой на серебряном подносе.
– Ага, и ты, старый хрен, пожаловать изволил! – с доброй усмешкой моргнул на него граф.
– Сами недалече от меня отстали… Хрен да хрен! Какой я вам хрен ещё! – как бы взаправду сердясь, проворчал старый дворецкий. – Кушайте-ка лучше, пока пенится… Вашего сиятельства на доброе здравие! – прибавил он с поклоном, когда граф взял и поднёс к губам своим кружку.
– Ну, однако же, будет! Довольно! – ласковым, но решительным тоном обратился этот последний к дочери.
– В сей час, папушка, в сей час. Уж только семь городков осталось… Вот только этот бутон… один лепесточек, и на сей день урок мой окончен.
– Да смеркается же! Будет… Пожалуй-ка, лучше сыграй мне, а я послушаю… Только нечто бы маэстозное,[14]14
Маэстозное… – то есть величественное, возвышенное (от лат. majestatis).
[Закрыть] – я в такой настройке ныне.
– Ты говоришь, настройка… маэстозная… – раздумчиво и как-то оттягивая слова, после некоторого молчания заговорила Лиза. – А знаешь ли, папушка, и я ведь тоже в совсем особливой ныне настройке.
– Ой ли, детка! Что такое?
– Да так, и сама не знаю. Всё раздумье берёт… беспричинное… будто симпатия какая.
– Да с чего же, однако, быть той симпатии?
– Сон такой привиделся.
– Со-он? Эка выдумщица!..
– Право же, сон, папушка… И вообрази, дважды кряду в эту ночь всё он один снился… Поутру я даже в «Мартын Задеке» справлялась.[15]15
Имеется в виду популярная в России книга, полное название которой: «Древний и новый всегдашний гадательный оракул, найденный после смерти одного стошестилетнего старца Мартина Задека, по которому узнавал он судьбу каждого чрез круги счастия и несчастия человеческого, с присовокуплением Волшебного зеркала, или толкования снов, также правил Физиогномии и Хиромантии, или Наук как узнавать по сложению тела и расположению руки или чертам свойства и мужеского и женского пола с приложением его же Задека предсказания любопытнейших в Европе происшествий, событием оправданное, с прибавлением Фокус-Покус и забавных загадок с отгадками». В русском переводе «Мартын Задека» вышел в 1814 году.
[Закрыть]
– Что же за знатный сон такой? Ну-ка?
– Да вот, изволишь видеть, снится мне это, будто мы с тобой вдвоём идём на высокую гору, и будто эта гора – наша Любимка. «Поди ты, что за странность, думаю. Стать ли этой нашей Любимке быть вдруг горою!.. Да ещё такою высокою, такою трудною!» И мы с тобой всё на неё взбираемся, всё карабкаемся, а из-под ног у нас всё камешки сыплются, и мы скользим, падаем и снова поднимаемся, а окрест нас такая пустыня, такая темень, мрак, хоть глаз выколи! И плачусь я, что никогда мы не дойдём до вершины и никогда нашему бедству скончания не будет… И только что я эдак-то сама в себе возроптала, гляжу – ан мы с тобой вдруг уже на самой вершине, и тут вдруг озарил нас свет… И такой это был блеск неожиданный и прекрасный, что я даже испугалась и зажмурилась. И в сей же час мы с тобой, взявшись за руки, побежали с этой вершины вниз, и так, знаешь ли, шибко, так легко несёмся, будто летим, что даже дух у меня замирает. Смотрю, а уж мы среди прекрасной и цветущей долины плывём в лодке по широкой реке, и тут я проснулась.
– Плотно, матушка, значит, покушала за ужином, – смеясь, заметил граф на рассказ своей дочери.
– Ну, вот!.. Совсем почти нисколько не ела, одну только чашку молока выпила! – возразила девушка. – И что достопримечательно: чуть лишь заснула – опять всё тот же сон… Я себе и возьми это за приметку, заглянула в «Мартын Задеку», а там знаешь, что про то писано? Писано, что на гору взбираться – означает труд, испытание и долготерпение в горести, а с горы катиться – вот что от слова до слова сказано, – я даже в самой точности запомнила: «сон сей, человече, нарочито знатную перемену в жизни твоей означает». А что до реки касается, то спокойно плыть по оной – прибыток, довольство и счастливую жизнь знаменует.
Граф на это только тихо и несколько грустно улыбнулся своей дочери.
– Всё это прекрасно, – заметил он, – а вижу я, однако, что ты, неслух эдакой, всё ещё корпишь над своей работой!
– Последний городок, папушка! ей-Богу, последний!
И настойчивая Лиза не ранее-таки встала из-за пялец, как дошив до конца весь лепесток розового бутона.
– Ну вот, теперь я права! – весело поднявшись со стула и накрывая камчатной салфеткой свою работу, сказала она с полным, облегчающим вздохом. – Что же сыграть тебе, папушка?
– Что знаешь, дружочек… Из Метастазия нечто или из Моцарта.
Девушка присела слегка за клавесин, взяла несколько аккордов и задумалась – что бы такое сыграть ей в угоду отцу. Взгляд её вдумчиво устремился куда-то, как бы в пространство, и бессознательно перешёл на стёкла окна, из которого видна была часть «переднего двора», частокол и посреди него высокие дубовые ворота, крытые русским навесом с гребешком и коньками, а там, за этими воротами, – выгон, скучно покрытый снежной пеленой, и сереющая роща со своими крикливыми галками, и под рощей той большой и густой конопляник, где ещё ребёнком так хорошо и привольно бывало ей прятаться в жаркий полдень, среди чащи сильно пахучих высоких стеблей, от докучного дозора подслеповатой и строгой «мадамы-англичанки».
– Папушка! Глянь-ко, что это такое?.. Никак, едет кто-то, – вскричала вдруг Лиза, вскакивая с табурета и кидаясь к окошку.
– Полно! Кого понесёт сюда в такую пору! – махнул граф рукою.
– Нет, папушка, и впрямь едет… Слышишь, колокольчик почтовый…
Граф прислушался из своего кресла и действительно очень ясно различил приближавшийся звон заливистого колокольчика.
– Сдаётся так, что военный будто… в шляпе, в треугольной. Право же, папушка! – глядя в окно, уверяла Лиза.
Граф ничего не ответил, и только слегка поморщился, невольно выказав этой миной признак внутренней досады и неудовольствия. В течение долгих лет своей опалы он из опыта уже убедился, что редкие приезды незнакомых лиц в военной форме, с почтовым колокольчиком под дугой знаменуют всегда нечто официальное, а всё официальное не могло доселе сулить опальному графу ничего, кроме какой-нибудь новой неприятности, нового стеснения.
Колокольчик замолк перед самым частоколом на ту минуту, пока прибежавший с дворовыми собаками казачок отворял решётчатые ворота, и вслед за тем, облетев полукругом двор, курьерская тройка остановилась у небольшого крыльца барского домика.
– Аникеич, узнай-ка, брат, кто там и за коей надобностью, – приказал граф дворецкому, позвав его обычным хлопаньем в ладоши, что служило у него сигналом призыва для домашней прислуги. – Да если это какой-нибудь новый пристав, – прибавил Харитонов-Трофимьев, – так ты, братец, внуши-ка ему, что это вовсе непорядок лезть со своими колоколами прямо под графское крыльцо, что для сего-де есть у графа сборная изба либо контора… Ну, и там выдай ему, что следывает по положению, и отправь поскорее.
Аникеич удалился, но после каких-то переговоров с незваным и неожиданным гостем вернулся опять в гостиную, видимо озадаченный и смущённый.
– Курьер… из самого Питера, – доложил он. – Сказывает, что имеет препорученность персонально до вашего сиятельства.
Граф окинул его вопросительным взглядом и недоумённо пожал плечами.
– Зови, – сказал он, – коли персонально.
Через минуту вслед за старым Аникеичем в гостиную вошёл статный и молодой гвардеец.
– Его императорского величества к вашему сиятельству именное повеление, – звучно и отчётливо проговорил он несколько официальным тоном.
– Как вы сказали, сударь? – прищурился граф, прикладывая щитком ладонь к правому уху. – Виноват, кажись, я ослышался…
– Его императорского величества… – снова начал было гвардеец.
– То есть её величества, сказать вы желаете? – перебил его граф, думая исправить, и заметил курьеру его обмолвку.
– Нет, граф, его величества, – подтвердил тот непреложно-уверенным тоном.
– Как?! Да разве… разве императрица?
– Волею Божией шестого сего ноября скончалась.
Граф неподвижно, словно бы громом поражённый, с минуту оставался в своём кресле, затем медленно перекрестился и встал с места, выпрямляясь во весь рост.
– Я слушаю повеление моего государя, – с видом благоговейной почтительности произнёс он тихо, важно и вполне спокойно.
– Государь император, – начал гвардеец, подавая графу запечатанный пакет, – высочайше соизволил дать мне препорученность, дабы как можно скорее увидеть вас вблизи своей особы. Государь просит вас изготовиться наипоспешнейше вашим отъездом, но, впрочем, принимая во внимание ваши лета и домашние обстоятельства, всемилостивейше разрешает вам четыре дня для необходимых сборов. Мне же от его величества препоручено препроводить вас до столицы и озаботиться, чтобы, находясь в пути, ваше сиятельство ни в чём не терпели никакого неудобства, ниже задержки.
Выслушав это, граф дрожащей рукой сорвал конверт и стал читать собственноручное письмо императора Павла.
– Благодарю тебя, Господи, яко не до конца оставил мя еси! – тихо прошептал он, перекрестясь ещё раз на образ, и с благоговением поцеловал строки, начертанные царственной рукой.
– Благодарю и вас, государь мой, за сие высокорадостное известие! – взволнованно и с чувством продолжал он, подавая курьеру руку. – По форме усматриваю, что вы гвардии офицер… Позвольте знать, кого имею честь принимать у себя в доме?
– Лейб-гвардии Конного полку корнет Василий Черепов, – отрекомендовался тот с учтивым поклоном.
– Папушка! Голубчик мой! А ведь сон-то в руку! – с восторгом и вся в радостных слезах кинулась на шею отцу «графинюшка Лизутка».









































