Текст книги "Наука и история"
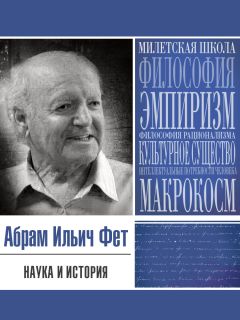
Автор книги: Абрам Фет
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Абрам Фет
Наука и история
© А.И. Фет (наследники)
© ИП Воробьёв В.А.
© ООО ИД «СОЮЗ»
* * *
Я хотел бы исследовать в этой работе роль науки в истории, понимая при этом науку в широком смысле слова, а не только в смысле достоверного, проверенного на опыте научного знания. Это узкое понимание науки возникло, в сущности, лишь в Новое время. В более широком смысле наука тождественна с человеческим мышлением; мышление человека, несомненно, входит в его практическое знание мира, намного более важное для выживания нашего вида, чем результаты формальной науки, в так называемые гуманитарные науки, содержащие отнюдь не только достоверное знание, и даже в религию, которую иногда называют “первобытной наукой”. Бо́льшая часть такого “недостоверного” мышления безлична, то есть коренится в общественной традиции, но не связывается с именем мыслителя, предложившего ту или иную мысль. Можно сказать, что такое безличное знание составляет фон всякого личного творчества. Так как я хочу изучить влияние науки на историю, этот фон составляет скорее часть истории, на которую наука влияет. Чтобы выделить субъективную, сознательно новаторскую часть человеческого знания, я называю наукой всё знание, какое можно отнести к личному творчеству отдельных людей. Таким образом, религия не включается в понятие науки, так как мы обычно не знаем основателей религии, но философия входит в это понятие – как думали в древности и в Средние века. Философию можно рассматривать как предварительную стадию науки, или как критическое рассмотрение науки. В этом последнем качестве она может даже претендовать на более высокое положение, чем наука, а в первом – должна довольствоваться более низким, но я не буду заниматься такими оценками.
Таким образом, на протяжении всей древней истории и средневековья философия считается частью науки – как её и рассматривали тогда, – и речь идёт о влиянии науки на историю. Может показаться, что в те отдалённые времена такое влияние было незначительно, но я надеюсь показать, что это не так. Конечно, история зависит и от более очевидных причин: от инстинктов человека и от материальных условий его культуры, действующих на его подсознание и сознание с самого рождения и в значительной степени определяющих интеллектуальный климат эпохи, но эти факторы, как и религия, не входят в мою задачу. Я буду заниматься прямым влиянием на общество научных и философских теорий. Подчеркну, что мой предмет – роль философии в истории, а не философия истории, то есть я не претендую на объяснение истории, а только вношу некоторый вклад в такое объяснение.
Занимающий меня предмет начинается с древней Греции, где родилась наука – сначала под именем философии. До этого – то есть до начала индивидуального мышления – общественное мышление было несомненно консервативным. Это значит, что оно определялось традицией, а при решении конкретных вопросов руководствовалось частными эмпирическими соображениями. Поскольку это делалось бессознательно, а не в виде общего принципа, я не называю такую установку “эмпиризмом”: окончание “изм” имеет специальный оттенок, связывающий его с явно высказанными доктринами.
Такие доктрины впервые предложили греческие философы, явившиеся вначале в Ионии и в Южной Италии. Мы мало знаем о Милетской школе, вероятно, первой научной школе в истории, но Пифагор, живший в Апулии в шестом веке до нашей эры, сыграл уже огромную роль в истории человечества, ещё недостаточно оценённую профессиональными историками. Пифагор был, несомненно, первый великий учёный в том смысле, который мы придаём в наше время этому выражению. Вероятно, он впервые доказал теорему, носящую его имя, даже если формулировка её известна была до него; это важнейшая теорема всей геометрии. Он доказал также несоизмеримость стороны и диагонали квадрата: это было первое ограничение возможности познания, может быть, самое удивительное открытие древности.
Но историческое значение Пифагора определяется не этими открытиями, а возникшей из них эйфорией математического познания. Способность геометрии решать простейшие вопросы о строении природы “умозрительным” путём породила столь же безудержный гносеологический оптимизм, как в Новое время небесная механика Ньютона. По-видимому, уже сам Пифагор пришёл к мысли, что “миром управляют числовые соотношения”, и пытался построить математическую теорию вселенной. Его космологические построения до нас не дошли, так как сам он, скорее всего, ничего не писал; его научные открытия и философские доктрины оставались достоянием круга его учеников, составивших нечто вроде секты и даже захвативших власть в нескольких городах. Но мы знаем, что Пифагор подчёркивал строгую закономерность мироздания, связывая её с открытой им музыкальной гаммой, и предполагал, что небесные сферы вращаются, издавая неслышные звуки. Его “гармония сфер”, управляемая соотношениями целых чисел, была попыткой рационального объяснения мира. По этому пути и пошла греческая философия; такое направление философии называется рационализмом[1]1
См. H. Reichenbach, The Rise of Scientific Philosophy, Univ. of California Press, 1962, где отчётливо объясняется смысл философских систем.
[Закрыть].
Слово ratio по-латыни означает “разум”. Но умозрительный метод, введённый Пифагором, означал очень своеобразное применение разума – познание путём “чистого размышления”, когда человек находит истину, наблюдая процессы, происходящие в его собственном уме, а не во внешнем мире. Этот метод, успешно применённый к геометрии, попытались применить ко всем видам познания. Таково происхождение “рационализма”.
Возможность “умозрительного” познания, демонстрируемая математикой, несомненно связана с врождёнными, инстинктивными способностями человека. Но человек не является на свет с готовыми знаниями о природе. Его врождённая программа содержит только простейшие движения, отвечающие на внутренние и внешние стимулы; все остальное представляют лишь программы обучения. Так обстоит дело даже у высших животных: эволюция не перегружает геном информацией, которую животное может приобрести в течение жизни. По-видимому, человек получает при рождении способность научиться элементам математики и логических заключений. Это и есть то, что Кант принимал за “априорное” знание. Но эта способность, выработанная эволюцией, однозначно определяет лишь простейшие понятия, возникающие в процессе воспитания у всех людей в почти одинаковом виде. У всех возникает интуитивное понимание начал геометрии, поскольку пространственная ориентация, и притом весьма точная, нужна была нашим предкам для жизни на деревьях. Но им не нужен был, например, закон сохранения массы, который, вопреки мнению Канта, вовсе не воспринимается как нечто очевидное каждым ребёнком.
Есть все основания полагать, что представление о всемогуществе умозрительного познания особенно сильно выразил Пифагор. Это прямо относится к общему свойству великих исследователей, отмеченному Лоренцем: они склонны к неоправданному расширению области применения своего метода. Не случайно пифагорейцы пытались уже не только объяснять вселённую, но и устраивать политическую жизнь людей.
Могущество геометрического “умозрения” особенно сильно повлияло на популярного писателя четвёртого века Платона, не имевшего собственных научных открытий, но наделённого литературным даром. Платон настолько был проникнут этим настроением, что, например, советовал астрономам не смотреть на небо, а умозрительно постигать возможные движения светил. Если понимать это место буквально, то научная квалификация Платона была ниже, чем у любого кормчего греческого корабля. Если же (как несомненно скажут почитатели Платона) это лишь шутка, то лишь специалисты по Платону могут различить, что в его философии говорится всерьёз, и каждый решит по-своему.
Буквальное понимание Платона просто выводит из себя его поклонников. Поппер, знавший греческий язык, но не боявшийся верить своим глазам, буквально перевёл целый ряд мест из “Государства”[2]2
См. К. Поппер “Открытое общество и его враги”, М., 1992, том 1 “Чары Платона” – Прим. Л.П. Петровой
[Закрыть], не смягчая их смысла, как это делали “классические филологи”. То, что рекомендует платонов Сократ, оказалось очень отчётливой пропагандой тоталитарного строя и, несомненно, так воспринималось в Афинах, где проблема гражданских прав стояла уже на повестке дня. Но и после Поппера платоники не унялись. Самый усердный из них, американец Алан Блум, сочинил обширный комментарий к “Государству”[3]3
Имеется в виду книга: A. Bloom Plato’s Republic, 1968. – Прим. Л.П. Петровой
[Закрыть], доказывающий, что всё это – изящная, хотя и несколько растянутая шутка. Но в конце жизни Платон написал самую длинную из своих книг, “Законы”, где порядки идеального государства описываются, уже без ссылок на Сократа, с потрясающей ясностью, напоминающей нам не столько Спарту, сколько более развитые образцы двадцатого века. И в течение всей жизни Платон пытался осуществить на практике своё идеальное государство, соблазняя греческих тиранов испытать его советы. По-видимому, древних авторов надо судить по тем же правилам, что и всех других смертных, без уважения к их сложившейся репутации. В данном случае это особенно важно, поскольку Платон сыграл исключительную историческую роль, ещё не оценённую профессиональными историками. Кто же такой был Платон?
Он был философ греческого декаданса, вероятно, самый влиятельный философ в истории, но лишённый научной интуиции фантаст; можно сказать, что это был Гегель древней Греции, хотя и наделённый бо́льшей способностью к поэтическому изложению. Влияние Платона состояло в том, что он был вдохновитель христианского богословия и, тем самым, сильнейший противник свободного разума. Это парадоксально, потому что сам Платон лишь пожал бы плечами при виде этих средневековых книжников, платонизировавших бредни еврейских сектантов. Парадоксально, но верно.
Главное деяние Платона – это его “теория идей”, крайнее развитие философии рационализма. “Идеи” Платона – воображаемые идеальные образцы всех предметов и понятий. “Идея собаки” воплощает самым совершенным образом все свойства собаки; все обыкновенные собаки – лишь несовершенные подражания этой идее, Собаке с большой буквы. “Идея добра” наилучшим образом воплощает все возможные виды добра, лишь подражающие этой идее. Согласно Платону, эти “идеи” реально существуют – не в этом земном мире, а в ином, более высоком мире, и находятся между собой в определённых отношениях, разумеется, тоже идеальных. Как полагает Платон, логические рассуждения об этих “идеях” есть единственный надёжный путь познания воплощённых в них земных предметов и отношений, подобно тому, как логические рассуждения геометра о треугольниках и кругах – единственно надёжный путь к познанию их земных воплощений, треугольных и круглых вещей. Это сравнение объясняет происхождение платоновых “идей”, скопированных с идеальных понятий геометрии. Недаром Платон так высоко ценил эту науку.
Мир “идей” должен был служить орудием всеобщей науки, которая объяснит весь мир конкретных предметов и отношений столь же надёжно, как это делает геометрия в пределах своей области. Выводы этой науки должны были получаться абстрактно, без всякого обращения к опыту – логическими рассуждениями об “идеях”. Сделав такие выводы, философ мог применить их к обычным предметам и их отношениям: для этого он должен был только подставить в свой вывод вместо всех “идей” воплощённые в них предметы и отношения.
Можно было бы подумать, что Платон придумал в самой общей форме метод моделей, применяемый в современном естествознании, но в невероятно общей форме, где отображаемой действительностью является весь мир, и где каждой собаке соответствует Собака с большой буквы, каждому лаю соответствует Лай, и так далее. В действительности философия Платона была карикатурой на познание, срисованной с геометрии, а его рассуждения, мнимо убедительные и подтверждаемые поддакиванием мнимых оппонентов, не дают ни малейшего реального знания, прибавляя лишь к обиходным понятиям греческой жизни забавные фантазии и сказки.
Но Платон при этом очень серьёзен: для него “идеи” не просто “реальны”, но только они и реальны, а их земные аналоги представляют лишь призраки, созданные нашим воображением. Он воображает, что философ может узнать всё, что хочет, об этих призрачных вещах, рассуждая об их “идеальных” образцах; другой науки не нужно, потому что все обычные попытки познания – поиски на ощупь, достойные ремесленников и рабов. Философ никогда не пойдёт в лабораторию, не будет работать руками, даже не будет пользоваться своими органами чувств. Его занятие – интроспекция, умозрение с закрытыми глазами, в котором он вызывает “идеи” и рассматривает их сочетания.
Трудно представить себе, как можно было предполагать, что мир, полный случайных фактов и событий, можно разложить на первичные идеи наподобие геометрии, more geometrico, как выразился Спиноза через две тысячи лет – потому что соблазн всеобщей науки Платона всё ещё продолжал действовать в семнадцатом веке! Если это было предчувствие будущей теоретической науки, то столь же вредное для подлинной науки, как идеальное государство Платона – для подлинного человеческого благополучия. Его идеализм был прообразом схоластики, а его утопизм – прообразом фашизма. Если судить о человеке по его влиянию на будущее человечества, то Платон и в самом деле был великий человек, потому что его влияние было огромно – и вредно. История сложилась таким образом, что человеческое мышление впало в болезненный сон, длившийся две тысячи лет, и снотворным был философский метод Платона.
Нельзя сказать, чтобы это заблуждение не встретило в древности никакой реакции. Секст Эмпирик, живший во втором веке нашей эры, был философ-скептик: он написал “пять книг против математиков” и “пять книг против физиков”. Он вовсе не был рационалист, а, как показывает его прозвище, эмпирист. По профессии Секст был врач, ответственный за здоровье своих пациентов; он понимал, что надо сначала наблюдать происходящее, а потом уже о нем рассуждать, и вовсе не отказывался от рассуждений. Но он не доверял рассуждениям “рационалистов”, последователей Платона, полагавших, будто все вещи на свете так же однозначно просты, как треугольник или круг. Он заходил в своём скепсисе слишком далеко, отвергая не только физику своего времени (вряд ли заслуживавшую лучшей оценки), но и математику, уже в древности имевшую немалые достижения; впрочем, математики он в сущности и не знал. Такое направление мышления на философском языке называется эмпиризмом. Секст Эмпирик был предшественник Бэкона, тоже не знавшего математики. Но его незнание было не столь опасно, как всезнайство Платона.
Отдельные проявления эмпиризма не смогли преодолеть общую тенденцию греческого мышления – его безудержный рационализм. Конечно, когда приходилось действовать, греки могли быть эмпириками, но когда они принимались мыслить, они не умели сравнить свои рассуждения с действительностью. Мысль, вращавшаяся в замкнутом мире “идей”, оставалась бесплодной. После Платона образование свелось к изучению изящной словесности и произнесению речей по классическим образцам.
Но это не всё. Были ещё пионеры экспериментальной науки, например, Архимед. Римский полководец Марцелл, получивший, как и все знатные римляне, греческое образование, хотел якобы сохранить жизнь этому знаменитому мудрецу, но вряд ли понимал, в чём была его мудрость. Иначе он велел бы разыскать учеников Архимеда и выведать его военные изобретения. У него было платоническое образование, столь же бесплодное, как и платоническая любовь. Я не хочу сказать, что Платон был виновен в технологической инертности римлян, столетиями не менявших своё оружие. Но усвоение греческой культуры означало для римлян только некоторое утончение вкуса, а не развитие мышления, потому что греческая наука уже не могла им дать ничего лучшего. С нашей точки зрения, это лишь подтверждает влияние науки на историю: в древности это было главным образом отрицательное влияние, препятствовавшее историческому развитию.
Таким образом, первые же успехи науки вызвали фантастическую философию рационализма, и этой наукой, несомненно, была греческая геометрия. По-видимому, это впервые ясно осознал Рассел, правильно увидевший в Платоне отца христианского богословия. Чуть позже сочинений Платона – и независимо от них – были созданы “Начала” Евклида, первое систематическое изложение научной теории. “Начала” сопровождали в средневековом образовании богословие и её “служанку”, как тогда именовали схоластическую философию. Но отцы церкви уже не интересовались геометрией. Они усвоили только псевдонаучное искажение геометрии, и такая трагикомедия познания была содержанием их мышления. Эти первые богословы, стяжавшие себе непререкаемый авторитет на всех богословских факультетах, получали образование в школах, где учили только грамматике и риторике, то есть искусству рассуждать в стиле Платона. Другого образования в древности и не было. Они были способные люди – может быть, самые способные люди своего времени, – но их учили премудрости пятисотлетней давности. Чтобы оценить этот факт, представьте себе, что теперь студентов учили бы по книгам 1500-го года. В шестом веке Боэций не умел уже вычислить площадь треугольника: он предлагал умножить основание на половину боковой стороны. Это было время застоя, глубокого упадка культуры, когда наследие греческой науки было почти забыто. Общественная жизнь в Римской империи была подавлена. Она постепенно погружалась в хаос разрушения, как нынешний западный мир. Но духовная культура её была ещё беднее: в школах подвизались только риторы и схоласты. Отцы церкви не могли найти в своей культуре ничего лучшего, чем традиция Платона. Они обречены были заниматься своим ассортиментом легенд и принимать их всерьёз.
В средние века людей, умеющих читать, было очень мало – несколько тысяч человек во всей Европе, и почти все они были клирики. Кстати, само слово “легенда” восходит к тем временам: оно первоначально означало “рекомендуемое чтение”, то есть чтение, рекомендуемое верующим. У богословов был метод мышления, унаследованный от Платона; поэтому они не оставили свою традицию в беспорядочном виде, а принялись строить из неё систему. Так возникла теология. Это была первая теология в истории: все религии, предшествовавшие христианству, не имели наукообразного построения. Если оценить влияние христианского вероучения на историю Европы, то роль философии в этой истории проявляется достаточно отчётливо. И так как мы относим философию к науке – она только и была в то время наукой – то значение науки в истории Средних веков оказывается очень важным. Чем же была эта средневековая наука?
Основными понятиями теологии были платоновские идеи, связанные с религией, такие, как “бог” и “человек”, “грех” и “благодать”, “душа” и “тело”, “спасение” и “осуждение”, “добро” и “зло”, и тому подобные. Эти пары противопоставленных понятий очень характерны для схоластического мышления, выработанного Платоном по образцу математических рассуждений, где для каждого высказывания было ясно определённое противоположное, получаемое его отрицанием. В математике это не приводило к разногласиям: там очевидно, что́ является треугольником, и что́ нет. Но в теологии, к несчастью, не всегда ясно, что́ является грехом, и что́ благодатью, какие свойства относятся к душе, и какие к телу, и так далее. А некоторые из этих понятий очень трудно описать таким образом, чтобы не возникло разногласий: например, понятие бога всегда вызывало яростные споры, переходившие в расправы с несогласными и религиозные войны. Тем не менее, богословы рассуждали об этих предметах с такой же серьёзностью, как геометры о своих невинных предметах. Таковы были их основные понятия, игравшие в их науке такую же роль, как точки, прямые и плоскости у Евклида.
В геометрии все утверждения выводятся из аксиом, самых простых утверждений, принимаемых за истинные. Таковы, например, утверждения: “Через каждые две точки проходит одна и только одна прямая”, или “Через каждую точку вне прямой проходит одна и только одна прямая, не пересекающая данную прямую”. Аксиомы принимаются за истинные утверждения, поскольку они считаются очевидными, то есть согласными с опытом. Греческие геометры выработали правила рассуждений, или правила вывода, позволяющие выводить из аксиом другие утверждения – теоремы, или из уже доказанных теорем другие теоремы. Эти правила у Евклида ещё не были точно формулированы (а аксиомы уже были, хотя и не вполне точно), но практика геометрии показала, что её выводы оправдываются на опыте. Например, из аксиом Евклида выводится, что сумма углов треугольника равна двум прямым, и это можно проверить на опыте. Многочисленные проверки такого рода, то есть сопоставления теорем с опытными фактами, устанавливаемыми точными измерениями, убедили греков в основательности этой первой теоретической науки. Правила вывода, выработанные в геометрии, составили так называемую логику, систематически изложенную учеником Платона Аристотелем.
У богословов основные понятия задавались легендами еврейских сектантов, переделавших представления религии Моисея и пророков, но совершенно чуждых наукообразным построениям. Евангелия напоминают вовсе не Евклида, а сборник мифов и моральных поучений, апеллирующих к традиции и житейскому опыту. У богословов были уже основные понятия, но откуда они взяли свои “аксиомы”, то есть основные утверждения, связывающие эти понятия?
В качестве аксиом они приняли утверждения, выбираемые из “священных текстов”, то есть из Ветхого завета и Евангелия: а впоследствии к этим источникам религиозной истины прибавились писания “отцов церкви”. Конечно, выбор этих утверждений был произволен, и авторитет разных источников был не всегда достаточно убедителен. Наконец, “правила вывода” богословов были построены наподобие рассуждений Платона, подражавших – или пародировавших – доказательства геометров. Платон знал, откуда он заимствовал свои красноречивые рассуждения, а богословы не знали. Если они и проходили в школе Евклида (всегда остававшегося предметом обучения в Средние века), то не связывали его со своей логикой, относившейся, по их понятиям, к несравненно более важным предметам. Философия того времени не умела проследить происхождение общепринятого мышления, которым и была теология. Всё, о чём я рассказал, казалось бы, очевидно, но было напрочь забыто!
Платон не только входил в обязательный ассортимент того, что тогда считалось образованием и составляло умственную пищу отцов церкви. К нему было особое уважение, потому что у Платона было – правда, очень неясное – представление о высшем божестве, в его время уже распространённое у образованных греков. Это божество можно было отождествить с еврейским Иеговой и с богом-отцом проповедей Христа. Всё это сооружение человеческой фантазии вскоре превратилось в неоспоримую истину.
Логику богословы заимствовали тоже у Платона, и это была фантастическая логика, пародировавшая логику Евклида. То, чем занимались – и до сих пор занимаются – богословы, представляет, таким образом, причудливую пародию на систему геометрии Евклида, с основными понятиями в виде платоновых идей, “аксиомами” в виде авторитетных текстов и правилами вывода, напоминающими геометрические рассуждения. Конечно, здесь могут возразить, что теология так же построена, как и все науки, и что этот факт попросту объединяет её с геометрией, как и с другими произведениями человеческой учёности. Это верно, что все науки построены – или пытаются построиться – по образцу геометрии, как это наивно выразил Спиноза в заглавии своей “Этики”. Вопрос в том, насколько это им удаётся. Богословы не вспоминают о своих образцах и не членят свои рассуждения на аксиомы, леммы и теоремы. Но они придерживаются некой фантастической логики и проявляют немало искусства, применяя её к словам. Их логика сильно влияла на их рассуждения. Например, уже указанное “мышление в противоположных понятиях” побуждало их строить для каждой “идеи” её противоположность. Они изобрели таким образом антагониста и для господа бога, которым стал “христианский дьявол”. Троицу, по-существу, изобрёл неоплатоник Плотин, живший во втором веке н. э. Философии Платона был многим обязан блаженный Августин. Формирование богословия заслуживает беспристрастного изучения.
Схоластика была средневековой наукой. Это была игра пустыми понятиями, подражавшая приёмам математических рассуждений. Если сравнить эту игру с настоящими математическими теориями, какие мы имеем теперь, и какие, как свидетельствует Евклид, умели создавать уже греки, то абстрактность основных понятий уже не кажется главным пороком этой игры: теория современной математики сплошь и рядом работает с понятиями, далёкими от наглядной простоты предметов греческой геометрии. Различие состоит, выражаясь современным языком, в формулировке аксиом и правил вывода. Применение такой терминологии вполне законно, если мы хотим судить о достоинствах и недостатках некоторой абстрактной теории с позиций современного мышления.
Основные понятия математической теории и связывающие их аксиомы берутся из опыта, хотя и не обязательно прямым и наглядным образом; при этом опыт понимается не как повседневный человеческий опыт, а как опыт уже установившейся науки, в том числе самой математики. Способы применения теории включают определённые истолкования её основных понятий (и исключают при этом всякий произвол), а главное, аксиомы данной теории должны быть установлены раз навсегда в не допускающей произвола формулировке. Понятия богословских теорий, вроде приведённых выше, тоже могут претендовать на некоторую связь с человеческим опытом; но в богословии роль “аксиом” играют цитаты из принятых богословами непогрешимых источников – “священного писания” и сочинений “отцов церкви”. Эти цитаты сплошь и рядом противоречат друг другу, и допускают различные истолкования. Ясно, что на этой почве могла вырасти самая разнообразная учёность, за которой церковь, впрочем, тщательно следила, выпалывая ереси. Конечно, такая цензура диктовалась интересами или вкусами церковного начальства. Это и был, по словам Галилея, “шум бесполезных наук, не производящих ничего, кроме вечных споров”.
Интереснее всего были правила вывода; это были, по крайней мере в позднем средневековье, заимствованные у Аристотеля силлогизмы, составлявшие логику древних греков. В отличие от Платона, вообще не проявившего никакой научной деятельности и применявшего чужие математические результаты лишь в мистических построениях, Аристотель был, по-видимому, не только философ, но и учёный в более конкретном смысле слова. Примечательно, что он не интересовался геометрией и редко на неё ссылался; его главные интересы относились к зоологической систематике и к логике. Как зоолог Аристотель был трудолюбив и описал много видов. Мы не знаем, был ли он оригинален в этих исследованиях, поскольку вообще он известен нам как компилятор самых разнообразных предметов, а работы его предшественников до нас не дошли. Подобно Евклиду, систематизировавшему греческую геометрию, Аристотель систематизировал элементарную логику. Но о геометрии древних мы знаем больше, и никто не приписывал Евклиду создание геометрии. В отношении логики Аристотеля допускается, что он был единоличным автором всего, о чём писал. Но рассуждения греческих геометров, Евклида и Евдокса, создавшего изумительно тонкую теорию иррациональных чисел в геометрической форме, несравненно превосходили силлогизмы Аристотеля и достаточно банальные примеры их применения, несомненно вызывавшие у серьёзных мыслителей того времени впечатление претенциозной популяризации. В дальнейшем, в работах Архимеда и Аполлония из Перги, греческая математика подошла к самому порогу того, что мы называем “высшей математикой”. Однако в Средние века греческой науки уже не понимали. Когда говорят, что “Начала” Евклида были две тысячи лет основой изучения математики, то упускают из виду, что эту книгу, как правило, заучивали, опуская доказательства. Конечно, арабские учёные сохранили дух греческой математики и развили её дальше, изобрели алгебру. Но средневековые схоласты могли понять лишь силлогизмы Аристотеля и применяли их с поразительным упрямством.
Удивительным образом, учёные люди средневековой Европы, не знавшие греческого языка и чуждавшиеся византийских схизматиков, познакомились с Аристотелем в арабских переводах, в завоёванной арабами Испании. Паломничество учёных монахов в мусульманскую Испанию началось около тысячного года. Одним из первых там побывал француз Герберт, ставший впоследствии папой под именем Сильвестра II. Интерес арабов к Аристотелю нелегко объяснить: арабы не проявили философского дарования в средневековом смысле. Как я уже сказал, они изобрели алгебру, и самое название этой науки арабского происхождения. Можно сказать, что арабы опередили этим Европу на несколько столетий, поскольку в Европе в то время даже простые арифметические действия вызывали затруднения: по изречению того времени, деление было “трудным делом”, а теорема Пифагора, доступная немногим, получила прозвище “мост ослов”.
Впрочем, у арабов тоже было своё мусульманское богословие и служившая ему схоластическая философия, возникшая раньше европейской. Арабские философы особенно ценили Аристотеля, может быть, потому, что он приобрёл на Востоке особую репутацию как учитель Александра Македонского – мифического Искандера, до сих пор памятного восточному фольклору. К чему сводилась деятельность этих философов, видно из почётного звания самого знаменитого из них, Аверроэса: “Великий комментатор”. Арабские схоласты тоже не читали по-гречески и пользовались переводами Аристотеля, сделанными в Персии, лишь отчасти с греческих оригиналов, а в других случаях с сирийских переводов. Конечно, европейские учёные арабского не знали, и для них Аристотеля переводили на латынь, единственный письменный язык того времени. Это делали, главным образом, испанские евреи. Можно себе представить, в каком состоянии доходили эти тексты до жаждавших истины монахов.
Через сто лет, в двенадцатом веке, силлогизмы Аристотеля полностью подчинили себе первый центр европейской философии – Парижский университет. Парижские схоласты назывались “аверроистами” и ценили главным образом Аристотелеву логику. По их представлениям, силлогизмы были совершенным средством познания, дававшим ответы на все вопросы. В действительности они занимались построением бессмысленных тавтологий, и продолжалось это до семнадцатого века.
Надо сделать по этому поводу замечание, вряд ли известное широкой публике. Среди схоластов были способные люди, потому что способные люди рождаются во все времена, и те из них, кто наделён был спекулятивным складом ума, могли заниматься тогда только этим видом учёности – схоластической логикой. Некоторые из них сделали прибавления к этой логике, вышедшие за пределы наследия Аристотеля. Эти прибавления были замечены лишь в конце девятнадцатого века. Немецкий математик Георг Кантор, получивший в молодости богословское образование[4]4
Утверждение, что Кантор, прежде чем стать математиком, учился богословию, не подтверждается его биографиями. – Прим. А.В. Гладкого
[Закрыть], приобрёл особый вкус к абстрактным логическим построениям; не знаю, нашёл ли он их у схоластов, но он применил их к математике. Отсюда возникла теория множеств, лежащая теперь в основании всей математической науки. И только после этих работ Кантора выяснилось, что в логике схоластов были не только Аристотелевы силлогизмы, но и нетривиальные открытия!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































