Текст книги "Играй, не знай печали"
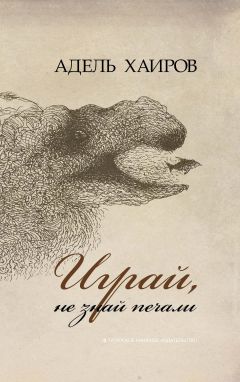
Автор книги: Адель Хаиров
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
На том свете…
Избушка в зимнем саду, как перевёрнутая лодка. Из трубы струится дым, в окне горит янтарь. Сад притихший, но время от времени остекленевшие яблони оживляют снегири. Они посвистывают и крутятся, как крымские яблоки, полные южной жизни и радости, и старый сад их терпит…
Золотой луч полусонного солнца с трудом проделал в толстом узоре окна лунку и теперь греет Сочинителю небритую щёку, она у него, как у полярника из журнала «Огонёк». Потом луч съезжает на письменный стол, покрытый порыжевшим сукном. Поговаривают, что сукно это было сдёрнуто с того самого карточного стола в Баден-Бадене, на котором проигрывался сам Достоевский! Сверху оно припорошено мелом и табачным пеплом, кое-где имеются случайные прожиги, и лишь в одном месте сигару нарочно потушили мимо хрустальной пепельницы прямо в стол – даже обуглилась верхняя пластина столешницы из карпатского тиса. Уж не метка ли это самого Фёдора Михайловича, когда он крупно проигрался?
Сочинитель был счастливым человеком и умер мгновенно, так и не дописав свой последний роман. Рука соскользнула вниз, процарапав на бумаге линию, уходящую в бесконечность. Ему исполнилось сорок девять.
Вот я читаю последние его слова: «Пустой пляж, каким он бывает в понедельник ранним утром. На ней – лишь юбочка из брызг воды…»
Когда Сочинитель принимался писать что-нибудь эротичное, то в этот момент две белые ручки с запахом земляничного мыла приобнимали его сзади и любопытными лебедиными шеями залезали к нему в седую грудь – там бренчали медальоном, внутри которого от боли ахала его законная жена.
Удивительное дело, в течение одного только загробного дня он несколько раз менялся до неузнаваемости: то это был усохший старик с печальными глазами, то вдруг крепкий молодой мужчина, легко жонглирующий пятикилограммовыми гантелями, то юнец, обнюхивающий кружева ночной рубашки школьной подружки сестры, которая приехала погостить на дачу…
Бывало, что он превращался в женщину или в ту самую подружку сестры. Тогда, облачившись в узкое девичье тело, как в летнее платье, писатель начинал чувствовать всё то, что невозможно для обычного не-пишущего мужчины. При этом он всё записывал. Придумывал разные ситуации, сталкивал героев. Обрушивал на дачу летний ливень и загонял в дом мокрого и сверкающего, как сом, рыбака в бушлате. А затем любовался, как в омуте тёмного зеркала белую плоть русалки накрывает смуглое тело… Заметим, что черты рыбака уж очень напоминали фотографии самого Сочинителя в молодости.
Потом у него родился сын, а роман, увы, не рождался. Сюжет жил в голове, но никак не ложился на бумагу. Ветер и тот можно поймать в паруса! Этот ненаписанный текст сам по себе резвился: то он блистал в пыльных квадратах солнца, пасьянсом разложенных на письменном столе, то вдруг разом осыпал все свои эпитеты, точно разжалованный генерал – эполеты. И тогда становился скучен, как канцелярский циркуляр, а ночью, когда жидкая луна заливала зелёное сукно, текст шуршал и переписывался сам…
Сочинитель выглянул в окно и увидел, как струи июньской грозы прибивают к земле пионы. Шум потоков, визги попавших под дождь. Жена жарит на примусе яичницу с укропом из деревенских яиц. Волны запахов: дождя, яичницы и свежего керосина. Жену он не видел, только слышал. Дождь оборвался, как будто наверху обрезали серебристые нити, и землю ошпарило солнце. Огурец дополз до чердачного оконца и там пожелтел.
Он одним пальцем набил на машинке: «Стоит вязкая, как мёд, духота. Маятник старинных часов завяз в сотах лета. Стрелки усов обвисли. Старик засуетился и стал открывать одну за другой дверки своих задыхающихся часов».
Сердце заныло, он прижал к нему холодную, похожую на саркофаг, пепельницу. И тут Сочинитель вспомнил два дня из своей жизни, между которыми пронеслось лет десять.
Бабушка ждала его ещё с вечера пятницы. Услышав шум омика, она выходила за калитку и смотрела на пристань. С грохотом отворялась дверца и со скрежетом по цементному полу вытягивались мостки. Начинала валить толпа. Бабушка напрягала зрение и, просеивая вереницу дачников, пыталась разглядеть родное пятно.
Сочинитель закурил, дымок затянуло под колпак лампы. Он увидел её смуглую от солнца кожу, стянутую морщинками. Её костлявую руку, сложенную козырьком над глазами. С ней здоровались, то по-русски, то по-татарски. Он, прячась за чужие спины и стараясь не дышать, прошуршал мимо неё, как тень. Пока ехал на омике, прикончил бутылку портвейна. Осмелел и познакомился с одинокой женщиной. Она жила у второго родника, это выше бабушкиной дачи. Там он и пропьянствовал две ночи подряд, и денег оставалось только на обратный билет. Бабушка и в понедельник всё ещё ждала его, стоя у калитки…
Второй день – он соединился с первым позднее. Снимали фильм о татарском поэте по сценарию Сочинителя. На татарском зирате[11]11
Зират (тат.) – кладбище.
[Закрыть] искали его камень, но за ночь навалило снегу по самые полумесяцы. День был ясный, безветренный. Искали весело, бросались снежками. С писателем пришла практикантка – в чёрной каракулевой шубке, отороченной белым мехом. Крупные глаза, большой рот. Распили бутылку вина, и он стал тискать её «на глазах» окаменевших классиков. Сочинитель дышал её духами, погружался в платок и лобызал горячую шею… Группа уходила, им кричали, девушка с хохотком потянула его за собой. Последнее, что увидел, была некрашеная калитка ограды, где лежала бабушка. Она открылась от осеннего ветра, да так её и занесло снегом. Ноги уже скользили к выходу, и только в ушах стоял знакомый голос: «Ул начар кыз! Аның белән йөрмә![12]12
Ул начар кыз! Аның белән йөрмә! (тат.) – Она плохая девчонка! Не ходи с ней!
[Закрыть]
Сочинитель выглянул в подтаявшее голубоватое окно. Синички, как маленькие альпенштоки, долбили зиму со всех сторон. Он раскрыл «Книгу Ада и Рая» и прочитал: «Однажды, прогуливаясь в райских кущах, путешественник увидел дерево, на котором сидели белые ослепшие птицы, и веяло от них печалью. «Что это за птицы?» – спросил он. «Это души грешников, – объяснили ему, – по воскресеньям им разрешено покидать Ад».
Сочинитель услышал тянущие тоскливые звуки из сада, как будто бы там плакали слепые дети, от которых сбежала собака-поводырь. В глазах потемнело…
Роскошные сны Барласа
Может быть, оттого, что сирень за окном расцвела и ночью одурманила, а может, травка какая в табак попала, только чудной сон приснился Барласу – нежный какой-то, весь в поцелуйчиках, как будто даже спрыснутый одеколоном. Читает там, во сне, Барлас газетку, на нём такая белая, как черёмуха, рубаха, а рядом, спиной к нему, женщина худенькая стоит и говорит:
– Они, наверное, уже не придут в себя…
– Кто это?
– Да розы…
Потом шёл совершеннейший бред. Два пацана, одетые в матроски, залезли к нему на колени и начали умолять рассказать про какого-то там Нансена-Амунасена. Дверь открылась, вошла школьница в белом фартуке и протянула на подносе голубую записку: «Позвоните, когда вернётесь в Рим. Обязательно купите воскресную «Униту».
Барлас курил, лёжа на топчане, и вспоминал:
– Хе! Гляди-ка, Рим… Тут до Казани доедешь – и то спасибо.
Татарская деревня Шувази, в которой жил Барлас, была обитаема только летом, когда грибы появлялись.
А зимой, кроме Барласа да старухи-гадалки, никого тут не было. Жили они на разных концах деревни и виделись только издали, – помашут друг другу рукой, мол, живы ещё пока, и всё… Но как только Барласу приснилось такое, собрался он к старухе, взял рыбки солёной – угостить – и пошёл.
– Снится мне, Муслима-апа, будто сижу я в кресле, в белой рубахе – такая белая, как черёмуха, – да, и всё газету какую-то заграничную читаю, и всё-то в ней понимаю! А тут баба одна крутится, нет, не баба, жэ-энщина, и цветочки водой брызгает.
Он налил себе мутной самогонки, зажмурился и тут вспомнил про высокую бутылку, которую та женщина во сне поставила на скатерть. Барлас мог сейчас по запотевшему окну написать по памяти это заморское словечко: Whiskey.
Муслима-апа, оборвав вечное своё нашёптывание, сказала:
– Если приснится ещё, стукни её по голове и скажи так: «Суга батсын – бака булсын»[13]13
Суга батсын – бака булсын (тат.) – пусть утонет и в жабу превратится.
[Закрыть]. Семь раз повтори!
Появился он снова через неделю.
– Вчера во сне, ну, опять напился ихней водки, – признался Барлас. – Вот ей-богу, трезвый лёг, это она меня напоила. Ну, проснулся поздно – и пьяный как-то не так. Чувствую, всё во мне гудит и поёт…
– Чего ж не стукнул-то? – удивилась гадалка.
– Забыл…
Женщину ту звали странненько – Ортанс, и была она ему законной женой. «Вот так-то, – ухмылялся Барлас, – во сне я, значит, женатый».
Муслима-апа дала ему бутылёк с настоем. Два дня попил он по глоточку её варево, помутило-помутило, и вдруг приснилась сама Муслима: будто хлещет его крапивой и шепчет: «Пэри, пэри, кит моннан!»[14]14
Пэри, пэри, кит моннан! (тат.) – дьявол, дьявол, уходи отсюда!
[Закрыть] – И так весь сон… Вылил Барлас остаток в землю.
А под утро снова пришла Ортанс, взяла его за руку, успокоила, и он проспал до обеда. Они калякали в сумерках избы по-французски. Потом долго в ушах стояло: же-же-же, лю-лю-лю…
Зимой, когда пурга замела избушку доверху и дом трещал под тяжестью снега, Барлас женился на Муслиме-апа. Не такой уж и старой оказалась гадалка, было ей тридцать пять или около того. Протоптал он к ней тропинку и, балансируя, как канатоходец, перетаскал свои нехитрые пожитки: тяжеленный баул, столярный инструмент и берданку, а ещё малиновые корешки в мешочке (горят в печи красиво).
Натопила она баньку. Сняла с себя яркие тряпки, бусы рубиновые, поддала пару, чтобы скрыть наготу, и молча исхлесталась веником. Разгладила морщины, намазала волосы жиром и поглядела на мужа своего свежо и молодо:
– Ну что, Барлас, потрёшь, что ли, спину?..
Ночью снова пришла Ортанс. Они сидели на веранде. Чёрная струйка лилась в фарфоровую полупрозрачную чашку. Тяжёлый серебряный нож снимал стружку с колобка масла. Из круассана брызнуло варенье.
– Когда ты собираешься в Рим?
– Сразу после Троицы. На обратном пути заеду в Берлин, надо разобраться с бумагами…
Так они и жили, не мешая друг другу: Ортанс – во сне, Муслима-апа – наяву. Только иногда из своих роскошных снов Барлас случайно прихватывал запахи… Так, вдруг его тело начинало благоухать духами Ортанс. Муслима-апа принюхивалась и бросала в печь пучок трав. Иногда в избе возникала и с шумом проносилась свежесть роз или обдавало лицо жаром кофейных зёрен. Барлас выходил на крыльцо, обкуривал себя едким дымком и, морщась, думал о том, что вот ему ни к чёрту не нужна ни эта корова с парным молоком, ни самогонка даже, ни Муслима со своими куриными пирогами… Да и от себя самого он теперь шарахался, как от чёрта. Сидит-смолит, поплёвывает. Подносит самокрутку к губам и с удивлением разглядывает эту чужую огрубевшую руку.
– Как ты думаешь, если я вечером выйду в этом?
– Пожалуй…
В тот день с утра он курил на веранде душистую сигаретку, а Ортанс собирала чёрную вишню. Ныряла в белом платье в глубокой зелени и возникала то здесь, то там. Махала ему рукой, что-то кричала, но он ничего не слышал из-за шума листьев. Потом вышла к нему утомлённая. Ивовая корзинка поскрипывала в руке.
Вечером, часу в седьмом, приехали гости. Дом наполнился шумом. Звон разбитого фужера, глупый смех. Ночью собрались купаться – при свете луны, а он остался, сказавшись больным. Сидел в своём дачном кабинете, пытался читать Мережковского и писать. Потянулся к графину… И вдруг дача содрогнулась от крика: «Барыня утонула! Ба-а-а…» Белые напуганные листы разлетелись по комнате, чернила впитались в сукно…
Барлас вскочил с кровати. И снова послышалось это: «Барыня утонула!» (Муслима-апа пробормотала сквозь сон: «Полстакана настойки из лопухов».) Он прильнул к окну и увидел, как медленно надвигается на дом белёсое облако. Набросив тулуп, выскочил в сад. Куст вишни задрожал, отрясая капли ночного дождя. Пугало пошевелило рукавом. Барлас озирался в поисках облака, и тут оно накрыло его тёплой волной.
– Ортанс! Jevousaime… Je…[15]15
Jevousaime… Je… (фр.) – Я люблю Вас… Я…
[Закрыть]
– N‘etes pas faites… pair vegeter ici![16]16
N‘etes pas faites… pair vegeter ici (фр.) – Вы не созданы для прозябания здесь!
[Закрыть]
Он дотронулся до неё. И пальцы, почуяв родное, близкое, нырнули в мокрые волосы, пахнущие рекой. Забрезжило утро. В камышах зашевелился сонный ветерок. Какой-то рыбак видел, как два шара бесшумно пронеслись вдаль. Покружив у Шурячьего острова, они взмыли в голубой просвет хмурого неба…
Такое весёлое кино
В Казань ташкентское лето заглядывает в июле недельки на две. Надевает на дома стёганый халат, не даёт дышать. Даже Волга по утрам не обдувает улицы – стоит болотом. Лезешь в печку красного автобуса. Рубашка липнет, железная пряжка прожигает тавро на пузе. Рядом покачивается горячее бедро студентки. Отодвигаешься.
Наконец – речной порт. Волга горит, полыхает за вениками берёз. Курится урна и душит дачников на остановке. Продавщица откатывает лоток. Надо бы взять пивка, всё-таки у меня отпуск…
Обжигаясь о поручни трапа, пробегаю наверх – на открытую палубу «Московского». Косая тень вся занята пассажирами, они сидят – сиреневые, а на солнечной полосе, на самой сковородке, тает одинокая женщина в бултыхающейся на горячем ветру шляпе. Белая шляпа растворяется в пылающем воздухе, дребезжащим от мотора. Неизвестная картина Клода Моне!
Пассажирка сидит как будто без головы, только рука – туда-сюда – машет журнальчиком. Она достаёт из корзиночки стальную фляжку, и мои ноздри щекочет коньячный ветерок. Вбулькала прямо в шею! Потом метнулся сигаретный дымок и похлестал по моим щекам.
Бриз охотился за этими запахами и быстренько сдувал их с палубы. Хотя какой на Волге бриз? Ветрюга, бьющий наотмашь. Он косматит причёски, брызгает пломбиром в лицо, ломает в пальцах газету. Хулиганит: то обдаст хвоёй, прихваченной с дальнего прибрежного лесочка вместе с дымком костерка, то сунет прямо в нос запашок сайры из распахнувшегося гальюна.
Женщина пахла хорошо: коньяком и грустным парфюмом. Её духи накрывали головы пассажиров и перелетали дальше – к матросу, провонявшему табаком. Он стоял в чёрной робе, облокотившись об ограждение причала, и не обращал на жару никакого внимания.
У его бугристого шнобеля были совсем другие, не нюхательные задачи: обозначить курс движения тучной фигуры и вычихать душу. Матрос, не нагибаясь, носком штиблета ловко поддел канат с чугунной тумбы и напоследок ещё подпинул слегка – дал пас прямо в руки с наколкой «Слава». Просипел: «Эй, молодец, – прими конец!»
Река сильно обмелела за это лето, и судно, обдирая бортами с почерневшего бетона мидии, сидело внизу. Вровень с пирсом покачивалась лишь капитанская рубка. Матросня чумазая, как черти. Даже карты у них заляпались так, что дама червей стала дамой пик.
А капитан стоит себе отрешённо на своём белом мостике в кремовой рубашке с погончиками и смотрит вдаль. Перетекает в неё. Мечтает о море. Местами Волга, особенно у Камского Устья, смахивает на море. Такая же слепящая гладь до горизонта, вот только цвет и запах – не те. Ультрамарина бы и соли!
«Московский» обогнул косу и вышел на фарватер. Мятый бакен заплясал, показывая зелёные лохмотья нижней юбки. Женщина оказалась не одна. Сделав глоток, она протянула фляжку сонному парню, прикорнувшему в тени. Когда не сумела прикурить на ветру, он встал и заслонил своим телом огонёк зажигалки. Это был татарин с большими овечьими глазами и оттопыренной губой. Он пригнулся к ней, чтобы расслышать фразу, и тут она поймала его за шею и прилепилась.
Глаза его из глупых стали дауническими. Я ему позавидовал.
Чтобы разглядеть её лицо, я пошёл на маленькую хитрость: спустился через корму на нижнюю палубу, затем, как бы прогуливаясь, поднялся, но уже со стороны капитанской рубки. Дама с картины Моне оказалась… старухой! Лисья мордочка с мелкими зубами. Злобные глазки. Постоянная готовность укусить. Нервическое тремоло коготками. Вся на взводе.
Поравнявшись с парочкой, услышал, как парень чертыхнулся вслед ускакавшей за борт зажигалке. Я протянул свою. Так и познакомились.
– Клара! – старуха сунула мне тонкие пальцы с потемневшим от табака золотым кольцом.
– Махмут, – её спутник дал потную ладонь и только потом оттёр кисть о колено.
Разница в возрасте у них была на глазок лет тридцать. Но она создавала впечатление более живой, чем он. Парень ходил варёным раком, даже кожа у него была красная. Я достал пиво. Говорить было сложно, ветер обрывал слова, мотор сильно стучал. Пили, курили, украдкой изучали друг друга. И вдруг пассажиры ожили и прижались к борту. Посередине Волги шёл молодой бурлак и тянул за собой ялик с девушкой. На голубом борту читалось: «Ars longe». Мель, по которой он ступал, была скрыта водой. На поверхности – ни травинки. Ощущение нереальности, может, даже святости. Идёт себе человек с голым торсом рядом с фарватером – цепь на плече сверкает, рыбёшка на дне лодки прыгает, беленькая девчушка ойкает, одёргивая ножки.
– Вот это кадр! – вскочила Клара. – Посмотри, какой отсюда ракурс, Махмут.
Махмут вытянул шею:
– И чего там, не вижу, на лодке написано? Арсен и Ольга?
Так я понял, что они киношники.
Через полчаса «Московский», заглушив мотор, плавно обогнул бакен и притёрся к пристани. Тут-то его и ухватили за грязные косы два подкопчённых матроса. Тельняшки драные, флаг на крыше похож на трусы, уклейка на проволоке провисла пулемётной лентой. Махновцы!
Один, самый пьяный, удерживал хлипкий трап, другой, со связкой чехони на шее, галантно подавал руку пассажиркам, при этом ногой подвигая к ним пахучий тазик с лещами. Клара отогнула пальчиком жабры одной – из рыбы вылетела зелёная муха.
Дачники сбегали на старую пристань, которая доживала свой век, ободранная, фанерками заколоченная, а ведь когда-то, в сталинские времена, такие вот двухэтажные белые терема с квадратными колоннами, аккуратно обитые реечками, покачивались у подножия всех волжских городков. На втором этаже – буфет, а то и ресторан. Во время качки, устраиваемой катерами, стаканы на подносе дрожали и тёрлись гранями. Килька на хлебных лодочках серебрилась в спасательных кругах лука, а водка в графине изнывала, бултыхая градус. Все они ждали, когда же зазвенит дверь и появится клиент в парусиновых штиблетах с мятыми червонцами в широких штанах.
Шли, нагруженные поклажей по порванным игральным картам, распинывая пивные крышки. Лица озабоченные, будто это и не дачники вовсе, а каторжники. Мы были налегке, только баночное пиво тянуло мне плечо. Старуха всё же купила две прозрачные чехони. Несла их в руке, как остроносые чувяки.
Перед подъёмом к дачам-скворечникам нашли глубокую тень в овражке и там допили тёплое пиво. Мимо шныряли дети с «окровавленными» ртами – как раз поспела владимирская вишня. Из овражка несло болотом. Вялая волна била по днищу дюралевой лодки. Капитан терпеливо ждал бегущую на пароход дачницу. Она кривыми ножками взбивала золотистую пыль. В худых руках поскрипывали огромные ивовые корзины, которые местные таскали на коромыслах. На спуске лысая дорожка была усыпана мелкой галькой. Дачница хотела спуститься с краю, где были вырезаны земляные ступеньки, да корзины не дали – утянули по прямой. Она сначала засеменила, а потом обречённо поехала на пятках стоптанных сафьяновых тапочек. Вскрикнула, осела и махом вывалила себе на живот все ягоды. Опорожнившись, корзины запрыгали дальше, а дачница, растопырив ноги, катилась с горки, давя спелую вишню задницей. Пассажиры молча переживали.
И только одна баба в малиновой панаме громко посоветовала:
– По краешку, дура, надо было идти! По краешку…
– Нет, ты видел, а? – восторгалась Клара. – Такое не сыграешь.
– Да-а, – согласился Махмут. – Ну просто нереально хлопнулась.
Они потащили меня показывать свой недавно купленный домик. Это был пятистенок без внутренних перегородок с тремя топорными столбами, подпирающими потолочные балки. Бывший сельский клуб. Весь пол посечён подковками. Наверное, когда баянист, терзая липкую от портвейна гармонь, начинал скакать на табуретке, то Ленин спрыгивал с гвоздика. Сейчас потемневший вождь выглядывал из-за ведра с веником, а на чердаке прятались его соратники. Кумачовая скатерть пошла на занавески. В амбарной тетради «Культурно-массовая работа клуба с. Нижний Услон» была лишь одна запись: «12 апреля 1989 года выступал с докладом космонавт Жанибеков, который показывал камни с Луны и жидкое стекло. По случаю встречи были организованы самовар и танцы. Пела Добренькая Валя».
В сумке у меня отыскался залитый пивом журнал с моим рассказом. Клара уткнулась в него, но, прочитав первое предложение, заявила:
– Вот именно ты нам и нужен. Махмут, подь сюда! Посмотри, человек гениальные рассказы пишет и в одной деревне с нами живёт, а мы с тобой, как придурки, ищем по всему городу сценариста.
Она ещё раз открыла журнальчик, но уже на чужом рассказе. Выудила строчку, пожевала губами и заключила:
– Татарский Шпаликов! Налей-ка ему из наших запасов!
Махмут сдвинул стол и фанеру. Выковырял гвоздиком из доски запавшее кольцо и дёрнул. Дыхнуло кладбищенскими сыроежками. Луч фонарика нырнул во тьму. Серебряный кругляшок поплясал на гнилых досках с изумрудной плесенью и отыскал коробки в углу.
– Мы тут к свадьбе готовимся. 21 августа планируем устроить большое безобразие, – пояснил Махмут.
Конечно, я был приглашён. В захмелевшем мозгу уже рисовалась эта странная свадьба. Старуха в фате, как будто с офорта Гойи, будет отплясывать, выбивая копытами искру, а её молодой жених станет светить в лица гостей фонариком, пытаясь поймать усмешку. Все перепьются. Фата будет заблёвана, галстук прожжён окурком. В завершение обязательно устроят пожар! Деревенские забулдыги станут нырять в полымя, чтобы спасти водку. Кто-то вспомнит про невесту, сгребёт мятый сугроб под ногами, но откинув фату, заорёт: «Мамочки, ведьма!» и швырнёт её в самый протуберанец! Она, проспиртованная, вспыхнет сразу – изо рта факелом выскочит вопль и…
– Слышь-ка, Шкаликов, – она больно сдавила мне коленку. – Я вот какой сюжет хочу…
Во время разговора, а это были её путанные монологи, она постоянно теребила собеседника, не позволяя ему отвлечься: то за рукав дёрнет, то за ногу ухватит.
– Сюжет такой. Наивная девушка из татарской деревни, по фамилии Кабирова, приезжает в Казань.
– Почему Кабирова, а не Маймулова, например? – перебивает невидимый в глубине сумерек Махмут.
– Ка-би-ро-ва! – Клара возбуждена, её сигарета рисует огоньком злые зигзаги. Она, чертыхнувшись, продолжает пересказывать фабулу. – И тут её в Казани совращает один Казанова. После чего девушка идёт в путаны. Через двадцать лет работы в саунах она встречает мужчину своей мечты.
– Ну конечно!.. – Махмут хохочет.
В него летит окурок, бьётся о стену над головой и осыпает брызгами. На мгновенье парень становится различим.
– Короче, он влюблён в неё по уши, – продолжает старуха. – И зовёт замуж. Она продаёт свою квартиру, прощается с подружками. Снимает деньги со сберкнижки. Полная сумка пятитысячных. Пачки перевязаны банковской лентой. На ней такая шляпка с вуалькой.
– Извините, а это какой век? – робко спрашивает Махмут, и в темноте слышно, как в него шелестит амбарная тетрадь.
– Они сидят в кафе на Набережной под Кремлём, – Клара не спускает с меня глаз, сверлит. – Ужинают. Выпив по бокалу, он её зовёт полюбоваться на кровавый закат. И, подойдя к обрыву реки, спихивает вниз. Слышь? Брезгливо так. Обрыв я тебе завтра покажу. Я буду в главной роли, а Махмут меня будет сталкивать вниз своей волосатой ногой…
– А ничего, что кафе в Казани, а обрыв здеся? Не смонтируется! – не унимается жених-убийца.
Резко схватив бутылку, она направляется к нему, и я слышу, как они целуются. На пол стекает струйка. Во дворе бегает белая курица. Потом появляется белая кофта и загоняет её в чёрный сарай.
– Можно последний вопрос? И всё-таки почему Кабирова? – изображая из себя папарацци, потешается Махмут.
– Патаму шта фильм будет называться «Ночи Кабировой»! – кричит старуха.
В эту ночь я уходил от них три раза. Но у порога она хватала меня за руку, усаживала рядом и в который раз принималась пересказывать сюжет.
– Слышь, у меня есть платок. Оренбургский пуховый…
– Это я подарил!.. – звучит из угла пьяный голос.
– Не важно, придурок. Я хочу снять один план в этом платке. Слышь, стою у окна, а на улице падает снег. Пуховый снег. И мы сливаемся с ним в одно целое.
– С кем с ним?.. – Махмута уже покачивает.
– Отвали! – старуха кутается в воображаемый платок. – И в это время – на-на-на – звучит музыка Нино Рота.
Махмут сползает на матрас и отключается.
Утром я проснулся на плече Махмута. Слава богу, не на её. Первое, что увидел: в солнечной пыли Баба-яга курит Camel, стряхивая пепел себе в приоткрытый кулачок. Бородка её светится, как паутинка на чердаке. Толстая мышь пирует остатками на столе. На журнале распотрошена селёдка. Наискосок по моему фейсу тянутся кишки. Я отпросился по нужде и тихонько смылся. Хорошо, что я им не показал, где живу, иначе припёрлись бы, а я уже истосковался по трезвости…
Я стал побаиваться случайной встречи с ними. Подходя к сельпо или пристани, осматривался. Они мне мерещились в проходящих парочках. Я как будто бы слышал их голоса за спиной. Вжимал голову в плечи и ускорял шаг. Потом подзабыл и успокоился.
И вдруг ночное небо над деревней растрескалось, как чёрное стекло. На крыши посыпались иголки фейерверков и тычки салютов выбили застарелый воздух, как ковёр. Свадьба! – вспомнил я. А утром начался пожар. Как по сценарию! Завизжала пожарная машина. Что-то хлопало и взрывалось. Шифер трещал, языки огня принялись лизать скворечник. Рядом с домом быстро краснела зелёная ещё вишня. Гостей и новобрачных в доме не оказалось. Они спали вповалку на холме, откуда в Волгу прыгали пустые бутылки.
Наконец появилась старуха в мятой фате и с кривой сигаретой в зубах. Клара, увидев меня, вцепилась в рукав и зарыдала. Дружки тащили под ручки жениха, он был в одном носке. Но пожар не остановил свадьбу. Догуливали с пожарными на пепелище. Накрыли фуршет на трёх перевёрнутых бочках. На яблоньке сушились спасённые паспорта и опалённые денежки. Меня затянуло в воронку гулянки, похожей на пирушку бомжей.
Затем отяжелевшая свадьба переместилась в Казань – в монтажную телевидения. Клара была в спортивном костюме «Адидас», но постоянно вытаскивала из сумочки фату как доказательство свадьбы. Подтянулись прежние мужья – их было трое, и все они работали на ТВ. Сидели скромненько в уголочке. Каждый принёс подарок – бутылку водки и садовый букет. Заныл магнитофон. Клара подошла к распахнутому окну и, как будто стоя у реки, стянула с себя платье, смахнула кружевное бельё. Это был танец вакханки. Махмут пытался накрыть её пиджаком, но она уворачивалась.
Через неделю раздался звонок на мобилку.
– Написал? – спросил мужик.
– Что? – не понял я.
– Сценарий… Ты же всех подводишь! – И тут я узнал голос Клары.
С этого дня началась наша совместная работа. Я получил пропуск на телевидение.
День рождения у Клары был 2 января, поэтому начинали отмечать уже 31-го. Махмут попросил меня помочь разгрузить покупки. Жили они неподалёку от телестудии. Так я оказался у них дома. В коридоре растеклась мыльная вода. Клара, не выходя из спальни, крикнула, что забыла шланг от стиральной машины вставить в унитаз. Прибегал сосед. Пособачились, потом выпили, стоя на стопках журналов «Киносценарии».
Меня стали водить по комнатам. В спальне на роскошной кровати с бархатным пологом и золотыми кистями дымились какашки. Бахрома штор впитывала мочу. Под ногами прошмыгнула радостная собачка. Дорогая мебель соседствовала с хламом. Всё было загажено. Даже зимой по залу носилась муха.
Ёлку наряжать не стали – она начала осыпаться. Просто поставили коробку с игрушками рядом. Мою отбивную стащила собачка. Я поднял тост за Клару и за наш фильм. Она требовала ещё и ещё. И тут Махмут торжественно вкатил кофейный столик.
– Кларушка моя, это тебе… Конец XIX века. Неизвестный мастер по фамилии Крюгер, – заверил он. И тут Махмут запнулся о загнувшийся край ковра и рухнул на хрупкий столик, смяв его как вафельный торт. Изящные перильца хрустнули и отлетели. Одно колёсико запрыгало в коридор.
– Блин, – сказал Махмут, отряхиваясь. – Конец XIX века. Конец!
Обломки были свалены на балкон и про столик быстро забыли. Потом был подгоревший гусь. Чёрный лебедь! И опять Клара танцевала голой под «Maybe» Janis Joplin. Я понял, что это обязательная программа. Новый год, конечно, проморгали, но потом догнали. Даже стрелки на старинных часах назад перевели. Дубль два!
После длинных праздников ещё долго не могли приступить к начатым в прошлом году съёмкам о несчастной судьбе деревенской татарки. Люди воскресали со скрипом. Последним появился бледный оператор, он украдкой припадал к пузырьку с корвалолом…
Как-то у Клары разболелась голова и она ушла пораньше, оставив Махмута в монтажной доделывать какой-то рекламный ролик. Выйдя из лифта, сунула руку в сумочку и не нашла ключи. На подоконнике вытряхнула содержимое, похлопала по карманам шубейки – пусто! Махмут во время монтажа мобильник отключал, пришлось возвращаться. Толкнула дверь в редакцию – закрыта. Собралась идти в монтажку, как вдруг услышала возню. Постучала. Там притихли. Отошла в сторонку и стала ждать. Наконец дверь приоткрылась и в коридор выскочила ассистентка Юлька. Напоролась на взгляд Клары и как будто бы даже перепрыгнула его, как препятствие. Клара вошла в редакцию. Махмут заправлял рубашку.
– Всё смонтировал?
Махмут отвёл глаза, но затем взглянул с вызовом, открыл рот и ничего не сказал. В дверь просунулась головка Юли и потребовала: «Махмут, ну скажи ей!» Клара упала в кресло и пальцами начала шелушить бычки в крышке бобины из-под киноплёнки.
– Мы любим друг друга… – промямлил Махмут.
Юля ухватила его за руку, и тогда он повторил фразу более чётко.
Задребезжал шкаф с кассетами и портретик Клары с Махмутом, поджав ножку, упал навзничь. По редакции пробежала судорога. Махмут ушёл ночевать к Юле.
В спешке забыли затворить окно, и ночью круглый аквариум с золотыми рыбками превратился в ледяной шар. Клара взяла отпуск и улетела в запой.
Сначала пила одна, затем с соседом, которого заливала. Потом вынесла бомжам всю коллекцию дорогущего виски, которое собирали несколько лет, привозя из-за границы. Кто-то видел её в белой шубейке около костра с нечёсаными типами. Она сидела, подбоченясь, как атаманша, и сплёвывала в пламя. Языки огня плясали на её страшном лице. Ей прислуживали. Клара сосредоточенно рвала фотографии и кормила клочками костёр. Потом побросала туда все семейные фотоальбомы. Те затрещали, распахиваясь. Лицо Махмута потемнело, вздулось и вспыхнуло.
Бомжи ночевали у неё несколько дней. Что не успели стянуть, она им сама подарила – ушли все вещи Махмута, от курток до трусов. Раздарила все его головные уборы из разных стран: вышитое гарусом сомбреро, пробковый шлем колонизатора, ковбойскую шляпу из кожи буйвола, турецкую феску…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































