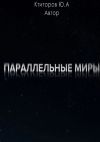Текст книги "Высокочтимые попрошайки"

Автор книги: Акоп Паронян
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
3
У нас давно ведётся, что многие из уезжающих во Францию или в Германию для продолжения образования, возвратившись на родину приезжают в нашу столицу, чтобы подыскать себе невесту. Абисогом-ага, как мы уже говорили, приехал в Константинополь именно с этой целью. Читатель помнит также, что Абисогом-ага настолько был поглощён вопросом своей женитьбы, что не заметил шедшего к нему навстречу ишака и столкнулся с ним. Нас могут спросить: а ишак, столкнувшийся с Абисогомом-агой, тоже собирался жениться, коль скоро прямо перед собой не увидел такого крупного пешехода? Те, кто более или менее знаком с историей, знают, вероятно, что ишаки, один из предков которых во времена оны лицезрел ангела, нас, смертных, решительно ни во что не ставят и хотят, чтоб мы всегда беспременно уступали им дорогу. Ежели б Абисогом-ага был сведущ в истории или хотя бы не думал в тот момент о женитьбе, он, несомненно, посторонился бы при встрече с этими существами, которые к тому же, благодаря своим ушам, имеют честь быть представителями царя Мидаса…
Расставшись с ослами, Абисогом-ага стал обращаться к встречным прохожим, осведомляясь о местонахождении улицы Цветов, – дом, где ему рекомендовал остановиться один его трабзонский приятель, находился на упомянутой улице. Этот приятель неделю назад и уведомил письмом Манука-агу, что Абисогом-ага намерен некоторое время жительствовать у него… Абисогом-ага, согласно ответам прохожих, переходил из одной улицы в другую, иногда по рассеянности забредал в тупики и, натурально, с одной стороны, сердился, а с другой – опасался, как бы носильщики не исчезли вместе с его постелью и сундуками, хотя и был наслышан об их порядочности.
Проблуждав более часа по улицам Пера, Абисогом-ага наконец всё же попал на улицу Цветов, которую, к слову сказать, не следует путать с одноимённой улицей, сгоревшей во время пожара в Пера в тысяча восемьсот семьдесят… не помню уж, каком. А называлась она улицей Цветов потому, что на ней под окнами всех домов круглый год красовались клумбы.
– Нумер 2 который? – обратился наш новоприезжий к супруге Манука-аги, ожидавшей у ворот своего дома прихода мужа.
– Этот и есть. Добро пожаловать, Абисогом-ага.
– Сундуки и постель принесли?
– Принесли, Абисогом-ага, пожалуйте в дом. Если желаете немного отдохнуть, посидите пока вот в этой комнатке, сказала хозяйка, показывая рукой на маленькую каморку в нижнем этаже.
– Устал я, там и посижу.
– Воля ваша, Абисогом-ага, наш дом – ваш дом, располагайтесь.
– Благодарствую.
Абисогом-ага вошёл в комнату в сопровождении хозяйки дома, державшей в вытянутой руке гаснущую лампу.
– Как живёте-можете, Абисогом-ага? Как ваши домашние?
– Ну и слава богу. А как детки ваши, Абисогом-ага? Небось уж в школу ходят?
– Детей не имею.
– Что супруга ваша поделывает?
– Супруги у меня нет.
– Вы неженатый, Абисогом-ага?
– Да.
– Вот и прекрасно, подыщем здесь для вас хорошенькую барышню, и сделаетесь вы, Абисогом-ага, константинопольцем.
– Я тоже подумываю… но сперва пообедал бы я, с утра ни крошки во рту не было.
– Прекрасно, прекрасно, Абисогом-ага, сейчас принесу вам поесть.
Хозяйка вышла из комнаты гостя и, открыв входную дверь, стала у порога, в надежде, что Манук-ага, который, как известно читателю, отправился искать кормилицу, вот-вот вернётся.
Оставшись один, Абисогом-ага взял в руки лежавшую на подушке толстую книгу «Щит духовный» и принялся её перелистывать, но поскольку наголодавшийся человек не в состоянии читать книгу, как не в состоянии и писать книгу, то он положил «Щит духовный» на место и начал, вздыхая и охая, ходить из угла в угол.
– Умоляю вас, Абисогом-ага, чувствуйте себя как дома, – сказала хозяйка, входя к гостю, – и ни о чём не беспокойтесь.
– Я и не беспокоюсь, только вот голоден я, пообедать хотел бы.
– Обед варится, сейчас пойду принесу, – сказала хозяйка и снова пошла и встала у порога.
– Что за женщина! – произнёс Абисогом-ага, как только та закрыла за собой дверь. – Морит меня голодом и сама же просит, мол, ни о чём не беспокойся. Но какое же спокойствие может быть у голодного человека?
– Считайте, что я будто сестра ваша или дочь ваша, – сказала шестидесятилетняя супруга Манука-аги, снова входя к гостю. – Не стесняйтесь, если хочется чего, скажите – я принесу.
– Благодарствую…
– Я делаю всё, чтобы мои гости не чувствовали в этом доме никакого стеснения.
– Понимаю, но, кроме обеда, сейчас мне ничего не нужно.
– Обед вот-вот доварится, не беспокойтесь, умоляю…
Хозяйка продолжала бы эти переговоры, но в это время входная дверь скрипнула, и она поспешно вышла, чтоб взять у супруга принесённые им покупки и наконец… сварить обед.
– Мир дому сему! – громко сказал кто-то, входя в дверь. Как и следовало ожидать, вошедший был священник: в подобных случаях выражение «мир дому сему» обычно употребляют только лица духовного звания.
– Милости просим, святой отец, – ответила хозяйка.
– Как живёте, хозяюшка, хорошо, надеюсь?
– Слава богу, святой отец.
– Манук-ага недавно встретился мне на улице, сказал, что у вас гость, я и пришёл засвидетельствовать своё искреннее почтение.
– Рада видеть вас, пожалуйте в дом, – сказала хозяйка, показывая рукой на келью, где Абисогом-ага продолжал переживать своё вынужденное голодание.
Священник вошёл.
Абисогом-ага встал.
– Добрый день, Абисогом-ага.
– Добро пожаловать, святой отец.
– Аз грешный, узнав о приезде вашего степенства, спешно явился осведомиться о вашем драгоценном здоровье. Каково поживаете, Абисогом-ага?
– Хорошо.
– Пусть вам всегда будет хорошо. Да сподобит господь усопших ваших царствия небесного, а здравствующих долголетней жизни.
– Благодарствую. А как ты, святой отец? Всё ли у тебя благополучно?
– Справляйтесь не о нашем благополучии… Спрашивайте, благоприятствует ли время?.. Да бережёт господь бог паству нашу, – когда народ живёт в довольстве, тогда и пастыри его сияют радостью.
– Правда, святой отец, – ответил Абисогом-ага, не спуская глаз с двери, другими словами, всё ещё лелея надежду отобедать.
– Время ныне плохое, душа-человек, и народу приходится трудно, и по этой причине усердие его день ото дня уменьшается.
– Правда, святой отец.
– Но что поделаешь… Можем ли мы исправить это положение? Нет, мы не в силах, и нам остаётся одно – терпеть… И священное писание нам говорит: блаженны кроткие, ибо они обретут покой.
– Воистину.
– И если устанем терпеть, то возропщем… И пророк говорит: возропщете – согрешите.
– Да, да, – подтвердил Абисогом-ага, который не улавливал слов священника и которому присутствие его было в тягость, поскольку, как мы знаем, кроме обыкновенной пищи, пока ничего не хотел.
– Ибо не хлебом единым жив человек, но и словом божьим, – произнёс нараспев священник и, вынув из-за пазухи табакерку, взял двумя пальцами щепотку нюхательного табака, втянул в ноздри, потом поднёс табакерку Абисогому-аге и сказал:
– Угощайтесь, любезнейший.
Абисогом-ага с благодарностью принял табакерку и сделал маленькую понюшку.
– Вы мало взяли, понюхайте, пожалуйста, ещё разочек, нюхательный табак вещь невредная.
Абисогом-ага нюхнул ещё раз – чтобы разговор не затянулся.
– Отчего же вы не понюхаете как следует, Абисогом-ага? – повторился гость.
– Благодарствую, святой отец, нет у меня этой привычки.
– Прошу вас, уважьте просьбу, понюхайте ещё.
«Вот прилип!» – подумал Абисогом-ага и ещё немного понюхал.
– Пророк Давид говорит: жизнь человеческая аки трава…
– Он про табак говорит?
– Нет, он про нас говорит, и мы должны стараться в быстротечной нашей жизни делать людям добро, печься о бедных и иногда молиться за души усопших.
– Ты прав.
– И быть готовыми при первом же зове покинуть сию юдоль.
– Да, да.
– Ваш покорный слуга, однако же, перед тем как уйти, осмеливается обратиться к вам с просьбой… и надеется, что вы не откажете… Я ведь знаю и много слышал о вашем усердии и благочестии.
– Раз осмеливается, то…
– Да продлит господь над подобными вам ревнителями и благодетелями свои щедроты.
– Благодарствую.
– В следующее воскресенье хочу я отслужить панихиду по усопшим вашим. Простите мне мою дерзость, но я долгом почитаю внушать, что отошедших в вечность мы должны помнить.
– Правильно делаешь, святой отец.
– Итак, коли согласны, скажите, чтобы я сделал распоряжение… Не думайте, что в большие издержки войдёте, обойдёмся и двумя золотыми… Я оповещу в церкви: так, мол, и так…
– Буду благодарен.
– За что, помилуйте, благодарить? Это наш долг.
– А деньги, святой отец, здесь и получи, – сказал Абисогом-ага, вынимая из кошелька два золотых.
– Можно и завтра… Я вас не тороплю! – воскликнул священник, протягивая руку.
– Нет, бери.
– Ну, раз настаиваете, возьму, противиться не стану… Благослови вас бог! Да благоденствует ваш дом, да не истощится ваш кошелёк, да исполнится всё, чего ни пожелаете, да венчается всякое ваше дело успехом…
Высказав все эти благие пожелания, священник распрощался с Абисогомом-агой и ушёл.
– Ох, наконец-то я избавился! – сказал сам себе Абисогом-ага. – Сколько бед обрушилось на мою голову, как только я попал в этот Константинополь! Не успел спуститься с парохода, напоролся на какого-то редактора; битый час так и сыпал словами, все жилы мне вытянул. Потом, пока я нашёл этот нумер два, опять же тысячу мук принял; когда нашёл, обрадовался, думал – вот отдохну, поем чего-нибудь, не тут-то было: хозяйка морит меня голодом, да ещё всё время заскакивает сюда и просит, чтобы я не волновался… Час от часу не легче. Потом вдруг входит ко мне этот поп, заставляет нюхать табак, заговаривает про своего пророка Давида, берёт у меня два золотых и удирает. Счастливого ему пути!.. И все эти несчастья я перенёс на голодный желудок… Но где же мой обед? Почему его не подают? Неужели придётся и спать ложиться с пустым животом? Господи, что. за наказание!
Чуть горевшая на столике лампа тут, будто нарочно, погасла, и в комнате стало совсем темно.
– Но стесняться уж нечего, – продолжал наш мученик, вышагивая в полной темноте по своей келье, – надо или уходить из этого дома, или позвать хозяйку и взгреть её. В моём городе двое моих слуг по струнке ходили передо мной, минута в минуту стол мне накрывали, каждого слова моего слушались… Зачем же человеку, который привык, чтоб ему прислуживали, терпеть всё это?!
– Неужели погасла? – спросила хозяйка, приоткрыв дверь.
– Да, потухла, – ответил Абисогом-ага, сдерживая переполнившее всё его существо отчаяние.
– Вы зря волнуетесь, многоуважаемый, это наша забота – следить, чтоб в доме был полный порядок.
– Да, но я проголодался и больше ждать не могу.
– Я же сказала, стоит ли вам беспокоиться из-за пустяков? Я обо всём позабочусь.
Через несколько минут хозяйка сбегала к соседке, вернулась с лампой и осветила келью Абисогома-аги.
4
После появления этого света не протекло и получаса, как к нашему новоприезжему явился некий молодой человек, который, сказать по совести, и на торговца не походил, и на работника не походил, и на чиновника, и на мастерового, а был, что называется, ни то ни сё. На вид ему можно было дать лет тридцать; помимо украшавших его наружность голубых глаз и рыжеватых волос, у него была длиной в два пальца борода, что в нашей столице является признаком либо траура, либо бедности. Одежда его была так стара, что любитель древностей мог бы заплатить за неё большие деньги. Однако если одеждой своей он отталкивал от себя, то личность его обладала притягательною силой.
– Рад видеть вас! – прокричал этот молодой человек, влетев в комнату и подскочив к Абисогому-аге.
– Что случилось? Чего тебе надо? – спросил Абисогом-ага испуганно.
– Услышав о вашем прибытии, я поспешил сюда, чтобы повергнуть к стопам вашим уверения в моём глубочайшем к вам почтении.
– К моим стопам? Очень хорошо! Клади их на пол… – сказал Абисогом-ага, должно быть, решив, что молодой человек принёс ему домашние туфли.
– Вы изволите шутить?. Благодарю вас, ваше степенство, – сказал гость и, сняв шляпу, вскочил на стол.
Абисогом-ага, поражённый этим зрелищем, нетерпеливо ждал, что же будет делать, стоя на столе, его экстравагантный гость, выкинувший столь удивительное колено.
Молодой человек вытащил из кармана лист бумаги и, вперив глаза в Абисогома-агу, изо всех сил выкрикнул:
– Дамы и господа!..
Испугавшись ужасного голоса трибуна, Абисогом-ага подпрыгнул на два локтя и, потеряв над собой власть, завопил:
– Кто он такой? Сумасшедший, которого нужно отправить в сумасшедший дом?.. Или он сбежал из сумасшедшего дома?
– Армянская нация, – так начал молодой человек, чуть понизив голос, – сегодня должна устроить чествование храбрейшему из наших национальных богатырей…
– Что взбрело тебе в голову, братец?
– Были времена, когда говорили: да, ныне тьма борется против света, невежество против науки, прошлое против будущего, повелительное против изъявительного, ненависть против любви, меч против пера, огонь против воды, мясо против овощей… Те времена прошли, теперь они прошлое, мы будущее, они тьма, мы свет, они меч, мы перо, они ненависть, мы любовь, они огонь, мы вода, они мясо, мы овощи, они огурцы, мы яблоки, они шипы, мы розы… Прошли те времена, когда человечество качалось в колыбели предрассудков…
– Что это ты, братец, задумал? Я ведь тебе никакого зла не сделал. Чего ты ко мне привязался? Ступай скажи все эти слова тому, кто тебя обидел.
– Да, человечество мучалось, его безжалостно угнетали, и оно не ведало, куда идти и кому жаловаться…
– Помилуй меня, господи, – сказал сам себе Абисогом-ага. Конечно, я мигом бы сбросил его со стола, но боюсь: а вдруг вытащит, разбойник, из-за пазухи револьвер – и пальнёт, слишком уж сердито он речь держит.
– И только тогда, – продолжал вития, – когда науке удалось взять верх над суеверием, а свету – над тьмой, а перу – над мечом, а любви – над злобой, а грядущему – над минувшим… только тогда, говорю я, только тогда все мы поняли, что слова «человечество», «нация», «родина» существуют не для словарей, а являются словами, которые должны быть навечно вписаны в мозг и в сердце каждого смертного…
– Умоляю тебя, братец, слезь со стола, внизу вот и расскажешь, отчего у тебя душа не на месте.
Молодой человек говорил без пауз и при этом дрожал и трясся гак, что Абисогом-ага нет-нет и замирал от страха: ну, как грохнется лампа со стола и разобьётся? И, более не желая терпеть самозванного оратора, он вскинул голову и изо всей мочи закричал:
– Спустись сейчас же!
– Умоляю вас, не гневайтесь на меня.
– Спустись, или я!..
– Ах, не делайте больно человеку, чьё сердце принадлежит нации.
– Коли хочешь сказать мне что, слезь, пожалуйста, сядь но человечески рядом, ну и толкуй своё.
– Умоляю, дозвольте мне закончить… Ах, вы не знаете, как я волнуюсь, когда произношу монологи!
– Слезь!
Оратор наконец спрыгивает со своей трибуны и садится на стул.
– Так… А теперь, признайся, пожалуйста, зачем ты пришёл? – спрашивает Абисогом-ага в раздражении.
– Умоляю, не злитесь.
– Чего ты хочешь? Ну, слушаю.
– Не обходитесь со мной так грубо, мне очень грустно, сейчас я за…заплАчу.
И действительно, оратор ударяется в слёзы.
– Почему ты плачешь, братец?
– Да потому, что ваш покорный слуга – литератор, и он страстно желает служить своей нации, а эта нация платит своим литераторам неблагодарностью.
– Но виноват же не я…
– Вы правы, не вы тому виною, но… У меня есть стихотворения, которые я посвятил родине… Прелестные куски… заветные строки, где воображение, вдохновение, страсть, огонь и пламя так и рвутся в небо.
– А что, это плохо? Ты поэтому плачешь?
– Наша нация, всемилостивейший мой, не знает цены моим стихотворениям; за ребячество, видите ли, их почитает, и потому наш брат-стихотворец обречён голодать.
– Но причём тут я?
– Умоляю, будьте со мной ласковы.
– Но чем я могу помочь тебе?
– Я хотел попросить…
– Проси скорей.
– Не кричите же на меня, ради бога, вот опять заплачу.
И стихотворец снова расплакался.
– Господи, пошли мне терпение, – взмолился Абисогом-ага.
– Я пришёл попросить… я прошу помочь… чтоб моя только что произнесённая речь была напечатана.
– Так напечатай! Кто тебя держит?
– Я прошу, ваше степенство, оплатить издание этой речи и… некоторых других моих сочинений.
– Не понимаю. Почему за твои речи должен платить я? Слыхано ли дело, чтобы один печатал ради своей выгоды книги, а деньги за это платил другой?!
– Умоляю, поймите!.. Душа моя и так уязвлена… Не наносите ей новую рану.
– Я никого не хочу ранить, оставь меня, братец, прямо беда мне с тобой.
– Знаете ли вы, как тяжело литератору слушать такие слова?!
– Не знаю. И знать не хочу.
– Сердце поэта весьма чувствительно, порой даже одно неосторожное слово может ранить его… У меня есть стихотворение, написанное на эту тему, послушайте вот…
– Некогда мне, мил-человек, слушать твои куплеты.
– Умоляю вас, не относитесь так холодно к моим стихотворениям. Творение, которое вы не хотите слушать, я создавал два месяца, и всякое невнимание к нему оскорбляет моё достоинство… Не говорите же о моём созданье ничего дурного, позвольте мне прочесть его вам…
– Я приехал сюда не для этого.
– Хорошо… тогда займёмся одной моей трагедией.
– Не хочу. Я кушать хочу, я не обедал.
– Хорошо, тогда я произнесу слово о еде.
– У меня нет времени.
– Умоляю, впредь никогда не говорите «у меня нет времени». Нет ничего более обидного для автора, возымевшего желание прочитать кому-нибудь свой собственный труд. Прошу вас, относитесь к авторам сочувственно.
– Хочешь сесть мне на шею?
– Не смейтесь надо мной. Зачем же мне на вашей шее сидеть?
– Или, может, отдать тебе свой кошелёк?
– Нет, нет, я говорю лишь о плате за издание моих речей и…
– Сколько тебе для твоего дела денег нужно?
– Всего четыре золотых, для вас это, разумеется, пара пустяков, зато вы станете, таким образом, моим меценатом, и ваше имя будет стоять на первой же странице книги.
– На первой странице?
– Да!
– А зачем на первой?
– Чтоб каждый знал, что книга напечатана за ваш счёт.
– Это хорошо, – ответил Абисогом-ага, вытащил из кошелька четыре золотых и отдал их автору.
Наговорив тысячу любезностей, молодой человек ретировался к дверям. Однако Абисогом-ага остановил его:
– А нельзя ли напечатать на первой странице также и имена моих слуг и сообщить нации, что Абисогом-ага имеет в своём родном городе столько-то коров, овец, ишаков?
– К сожалению, ваш перечень относится к идиллическому жанру.
– Не понимаю.
– Об этих вещах пишутся стихотворения, которые называются идиллическими. Если желаете, я сочиню для вас идиллию.
– На что мне она?
– Напечатаете в какой-нибудь газете.
– Напечатают?
– Ещё бы! Если же дадите ползолотого, сорок раз напечатают.
– Согласен, сочини это самое стихотворение, как бишь его…
– С превеликой радостью.
– Но чтоб хорошее вышло.
– Уж поусердствую.
– Чтоб каждому, кто прочитает, понравилось.
– Конечно.
– Завтра утром принесёшь?
– Завтра утром? Что вы! Еле за Месяц управлюсь.
– За месяц?
– Не раньше. Это читать – легко, а писать – трудно. На сочинение красивой идиллии по меньшей мере два месяца требуется.
– Да что ты!
– Но я постараюсь успеть за месяц.
– Оказывается, вон оно что.
– А вы как думали? Иной раз месяца два прождёшь, пока муза придёт; без музы, вы уж поверьте, стихотворения не напишешь.
– А ежели вдруг не придёт твоя эта муза?
– Непременно придёт.
– А нельзя ли отписать к ней: приходи, мол, скорее, дело до тебя.
– Она сама явится, дайте срок, достоуважаемый Абисогом-ага.
– А где она находится, очень далеко?
– Очень далеко, но явится.
– Посуху будет добираться или морем?
– Нет, нет, ваша милость…
– Может, и сам не знаешь, где она запропала?
– Как не знать, ваше степенство.
– А то пообещаем дать ей два-три золотых, авось тогда раньше заявится, на этой неделе, а?
– Да, конечно… Как только вы изволите дать два-три золотых, дело намного ускорится, и, уверен, муза на этой неделе и объявится, – в предвкушении двух-трёх золотых мгновенно приободрившись, бойко отрапортовал поэт без музы.
– Напиши, значит, музе: Абисогом-ага, дескать, хочет видеть тебя и кланяемся.
– Слушаю. До свидания, господин Абисогом-ага, благодарю вас… Имею честь быть вашим покорным слугою и прошу принять…
– Нет, – сказал Абисогом-ага, – слушать больше не буду, я уж, кажется, все твои речи принял… Устал я.
– Примите уверения в моём глубочайшем уважении…
– Хорошо, хватит, принимаю.
И поэт распростился со своим меценатом, обещав за два золотых немедленно доставить свою музу, которую некоторые нанимают по ещё более низкой цене. Ныне муза поэта зарабатывает меньше плотника.
Как вы, вероятно, заметили, всякий раз, когда кто-нибудь давал Абисогому-аге слово упомянуть о нём в газете или оповестить в церкви о его приезде, он забывал, что он голоден и, более того, вытаскивал кошелёк и вспомоществовал каждому, кто обязывался популяризовать его имя. Тщеславие – этот своего рода голод – многие утоляют деньгами. Тщеславное желание увидеть своё имя в газете, которое одни считают манией, а другие тщатся возвести на ступень добродетели, и которое наблюдается почти во всех кругах нашего общества, теперь владело и Абисогомом-агой, и вследствие этого с уходом поэта он начал размышлять об обещанном ему стихотворении, вместо того чтобы продолжать испытывать муки голода.
– Неужели, – спросил он себя, – в стихотворении всё так и получится, как мне хочется?.. А правда, что у этого человека, которого я сейчас облагодетельствовал, есть какая-то муза?.. И будет ли она через несколько дней здесь?..
На этом мысль Абисогома-аги прервалась, ибо хозяйка дома открыла дверь и сказала:
– Обед подан, пожалуйте к столу.
По турецкому времени было четыре часа ночи66
По турецкому времени – исходной точкой турецкого времени являлся заход солнца, который соответствовал 12 часам ночи.
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?