Текст книги "Клад"
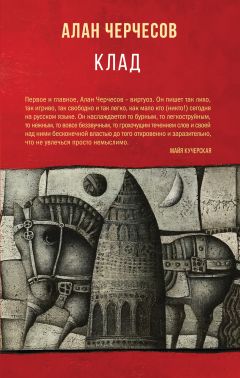
Автор книги: Алан Черчесов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Ни слова. И не посмотрела. Слишком долго он вместо лица предъявлял ей газету.
– Я в шоке.
– Забей.
– Ты меня огорошила.
– Я тебе соврала.
– Как так – соврала? На фига?
– Спроси что полегче. Не знаю. Считай, неудачная шутка. Впрочем, если поверил, довольно удачная… А теперь, сделай милость, расслабься и постарайся заснуть. Я почти уже сплю.
– У тебя на щеках блестят слезы.
– Пусть себе. Мне не мешают.
– А мне вот мешают.
– Люк свой задрай! Задолбал.
Битый час муж ворочался, жадно, свирепо зевал, потом горько вздохнул и покосился на женщину.
– Холодрыга. Насквозь пробирает. Холодно спать и не спать тоже холодно. Никогда так мне не было холодно думать.
– Тогда и не думай.
– Может, обняться?
– Во мне такой холод, что если к нему прислонится еще один холод, то станет вдвойне холодней.
– Так не бывает!
– У нас только так и бывает. Будь любезен, отлезь на свою половину.
Помолчали.
Замучились вместе не думать и снова открыли глаза.
– Кого ты сейчас переводишь?
– Да так, одного графомана.
– А тема?
– Убийство, звериная страсть, итальянская кухня и ноги.
– Ноги?
– Точеные женские ноги. Они там на каждой странице.
– Эротический триллер?
– Халтура с пальбой, юморком и дежурным развратом. Весьма хорошо продается.
– А как же нетленка?
– Работаю в стол.
– Но – работаешь?
– Периодически.
– Не хватает свободных часов?
– Не хватает свободных и искренних слов. Чем дальше, тем больше я их забываю. Какой-то подвывих сознания: вроде бы все при тебе, а самого нужного нету. Запропастилось куда-то, хоть было всегда под рукой. Понимаешь, о чем я? Эти утырки лишили нас необходимого. В истории прежде такое бывало?
– В истории и не такое бывало.
– И такие, как мы, в ней бывали?
– Имя им – легион.
– Тоже разменная мелочь эпох?
– Расходные винтики-шпунтики.
– Живодерка она.
– Живодерка.
– А ты мазохист.
– Вот те раз!
– Она тебя дрючит, и ты же ее защищаешь.
– Разве что самую малость – от профанации временем.
– То и дело долдонишь эту муру! Можно подумать, что для истории время – не кровеносные жилы, не пульс, не костяк, не опора, а так – мишура, бутафория.
– Хочешь со мной поругаться?
– Хочу.
– Тогда управляйся сама. Я тебе не помощник.
– Высокомерная сволочь.
Он снова вздохнул:
– Хорошо. Если ты так настаиваешь…
– Шел бы ты лесом, настаиваю, – передразнила она. – Тоже мне, Аристотель. Не смей меня трогать!
Завозились, подрались немного. Почти не согрелись.
Вынырнув из-под одеяла, муж положил подбородок жене на плечо и сказал:
– Все-таки я тебя очень люблю.
– А я тебя – нет. Ты трепло.
– Просто не знаю, как лучше тебе объяснить.
– А на пальцах нельзя?
– Предлагаешь прибегнуть к метафоре?
– Хоть к прозопопее!
Он подумал, что время – давно не река. И не круговорот. Не спираль, не стрела, не прямая и уж никак не судия. Время – фикция всяческой функции.
Затем вслух произнес:
– Время – это то «быстро», то «медленно».
Женщина хмыкнула:
– Метафизировал чрезвычайно доходчиво.
– Ладно, давай рассуждать философски. Возьмем, например, Большой взрыв…
– Предположим, накрыли ладошкой и взяли. Что дальше?
– Приплюсуем к нему многомиллионолетнее расширение пространства со скоростью света.
– Приплюсовали. И что?
– Какая же это история? Измеримая неизмеримость! Проницаемая мембрана между вечностью и бесконечностью. Космически-квантовый оксюморон. Абстрактно-конкретная относительность, осязаемая субъектом сквозь призму психофизических паттернов. Время – текучесть, летучесть, безумная скорость и беспрерывность случайностей, возведенных в бессчетную степень, равную сумме несметных галактик и посему когерентную нашему «медленно».
– Красиво сказал – как соврал. Притворюсь, что усвоила. Теперь перейдем-ка к истории.
– Если время – направленный хаос, то история – это сюжет. Прихотливая ломкая линия тайной идеи конечности.
– Смертоносной идеи?
– Идеи всегда смертоносны.
– А как же идея бессмертия?
– Рано ли, поздно, но жизнь на планете иссякнет, а с нею в ничто обратятся рожденные ею идеи, в том числе и бессмертные. Потому-то и хочется выяснить, ради чего ею нас одарили.
– Жизнью? Ни ради чего.
– Отсутствие умысла не означает отсутствие смысла.
– Снова врешь, как поёшь.
– Вспомни про тетю и восемь секунд. Зарезала мужа без умысла, что не помешало убийству обрести содержательный смысл.
– Да соврала я про тетю!
– Неважно.
– Мы оба заврались.
– Неважно.
– И какой мне был прок от твоих пышнословий? Сейчас ты опять защищаешь вранье.
– Знаешь, у нас в институте заведовал кафедрой некто профессор Пророков. Ага, вот такая фамилия. Я писал у него курсовую: «Защита истории от посягательств русских писателей». Правда, крутой заголовок? Претенциозный до грубиянства… Вдоль-поперек исчеркав мой трактат, вещий старец Пророков вынес премудрый вердикт: «Вы боретесь с тем, что насаждаете сами на каждой странице. В вашем опусе вас, молодой человек, слишком много. Столь же избыточно, как и нещадно громимых писателей. Покумекайте лучше над главным вопросом: может, защита истории заключается в том, чтобы спрятать ее – и себя заодно – от настоящего времени?»
– А может, себя от нее?
– Не язви.
– Давай спать. Заколебала твоя демагогия!
Через минуту супруга заснула, и он почувствовал кожей – каждой клеткой пупырчатой вымерзшей кожи, – как они отдаляются, а в темноте между ними могучими легкими дышит неодолимая бездна.
Дышит и мерно шевелится…
* * *
Батареи в ту зиму топили вполсилы, а неполадки в котельных объясняли диверсиями.
Невозможку супруги с великим трудом отстояли – при помощи вставших в копеечку масляных радиаторов.
Из-за сибирских морозов люди обрюзгли одеждой, ужались душой и озлились, чуть что лезли в драку, но на протестные акции не собирались ни разу. Стоицизм москвичей поощряли провластные медиа. Все другие могильно молчали, потому что других больше не было.
Кто-то завел идиотскую моду сеять беспочвенно панику: почти ежедневно в префектуры столицы поступали звонки о минировании, после чего специальные службы осуществляли экстренную эвакуацию.
Звонили всегда по утрам, часам к десяти, что представителям органов было, пожалуй что, на руку. Выказав должную выучку, оперативность реакций и общекомандную слаженность, они управлялись с проблемой урочно, в рамках рабочего графика.
Совпадение тайминга бомбозвонков с длиной светового дня неблагонадежных сограждан наводило на желчные выводы, но предавать подозрения огласке крамольники редко отваживались.
За две пятилетки происки внешних врагов населению поднадоели, а потому федеральные телеканалы переключились на поиски внутренних злопыхателей.
Для острастки народ собирали в шеренги и занимали упругими маршами на демонстрациях, а чтобы вякал поменьше, подсы́пали в клетки календаря патриотических праздников.
Иногда раздавались сопливые взрывы. Упражнялись все больше на свалках и на контейнерах с мусором. Слава богу, почти никого не убили. Пару раз подстрелили заезжих наймитов из Азии, но прагматичные массы сочли инциденты результатом разборок самих гастарбайтеров.
Затянув пояса на затурканных подданных, страна ковыляла ни шатко ни валко к высокой и призрачной цели. Экономика плохо ей в том помогала. Журналисты стращали терактами, без передыху горланили о саботаже и подлом, «крысином» вредительстве, но мало кто видел все это в глаза, так что верить ретивым кликушам поленивались.
Зато не ленились ходить на футбол. Правда, теперь – тоже маршем. Начиная с апреля болельщикам строго вменялось передвигаться по улицам строем. Фанаты почти не роптали: очевидно, держали в уме, что им дозволяется, как в старину, драть луженые глотки на стадионе (по меркам режимных рестрикций, немалая привилегия!).
В мае на город напали клювастые черные птицы, и тут уж всем сделалось страшно. Впечатление было такое, что прошлогодние мухи вдруг воплотились в прожорливых воронов. Твари с граем буянили в небе, яростно бились об окна и пачкали стены облезлыми смрадными перьями. Чтоб не полопались стекла, их, памятуя войну, залепили крест-накрест широкими клейкими лентами.
Из-за нашествия пернатых образовалась нехватка двукрылых, идущих на корм мухоловке. Хочешь не хочешь, пришлось обращаться к корсару.
Вернувшись из лавки, супруг сообщил:
– Пират похудел. И наколки повытравил. А невидимка-жако разболтался: вопит вместо драя «драй цайтен».
– Три времени?
– Я тут прикинул: что, если этот его Бонифаций – оракул, предвестник грядущих в Москве перемен? Подумай сама: первое время – вон там, за окном, то, что движется вспять. А второе – вот здесь, только наше, то, что не движется вовсе. Надо всего лишь дождаться нам третье и распахнуть ему двери.
– Чтобы двинуться снова вперед, прихвостившись за третьим мифическим временем? Сам-то ты в него веришь?
– Почти.
– Что ж, давай будем верить – почти…
* * *
Тем же вечером, слушая хруст насекомых доспехов:
– Все-таки странный цветок. Чересчур многоликий и разный: и моллюск, и творец, и растение, и хищник.
– То урод, то красавец.
– То дитя, то убийца.
– Одним словом, мундик.
– Другим – Невозможка.
– Прекрасное имя.
– Прям в яблочко.
* * *
Лето выдалось бурным. Сперва объявился Архипов – тот самый, что с папой из органов. Пришел не один, а с шестью «космонавтами». Те скрутили Рептилия и погрузили его в полицейский фургон.
Собрав коллектив, Архипов держался осанисто, метко клеймя перевертыша. Тогда и узнали, зачем был Рептилию лаз под землей: посредством него предприимчивый оборотень умыкал из хранилищ бесценные подлинники. Впоследствии часть документов благополучно всплывала на аукционах за рубежом.
Разоблачивши изменника, Архипов озвучил приказы: один – об отставке начальника, второй – о своем назначении.
Перед тем как уйти на покой, бывший шеф поделился в курилке, что в списке пропаж оказалось немало фантомов: «В архиве их попросту не было!»
Спустя три недели они туда были возвращены, причем триумфально: с ТВ-новостями, толпой горделивых чиновников и скромным банкетом для избранных.
– А я что тебе говорила? Сплошные подлоги, брехня! Таким же макаром ее подменяли всегда, твою клеветницу историю.
– Это неслыханно! Ты понимаешь, что это ужасно, преступно, беспрецедентно, бесчестно, безбожно, бес… бесчеловечно?!
– Очень как раз человечно. Бесчеловечно от них ожидать покаяния.
– И что же теперь, промолчать?
– Да хоть хором орите. Всей орущей гурьбой и повяжут. Лучше сиди, где сидишь, и не рыпайся. Не то они мигом тебя пересадят.
* * *
К осени жизнь покатилась своим чередом – то есть мимо. Лишь иногда поддевала с телеги багром и небрежно швыряла в ведро вместе с прочим уловом.
– Можешь поздравить: твой муж толкал речь. Просвещал наш актив.
– И о чем?
– О загнивающем Западе.
– Харэ скоморошничать.
– Архипов совсем очумел. Издал директиву помесячно делать доклады на злободневные темы. Я выбрал культуру.
– И как, сошло с рук?
– Напрасно сейчас издеваешься. Я на этой задачке буквально сломал себе голову. Чуть с ума не сошел. Но в итоге придумал.
– Готова поспорить, от этой придумки Запад скоропостижно загнил.
– А то! Представь, что тебе очень нужно правдиво нести ахинею, да еще не закашляться со смеху.
– Ты не закашлялся?
– Даже воды не глотнул. Ты послушай…
– А разве тебя не дослушали? Или актива тебе недостаточно?
– Слушай, кончай выкаблучиваться, лучше внимательно слушай.
– А слушать послушно?
– Не ерничай.
– Слушаюсь.
Ссориться муж не хотел, супруге же было до лампочки. Ей теперь часто бывало до лампочки, ссориться им или нет.
Чтобы об этом не думать, он присел перед ней на ковер и бодро заговорил:
– Я нащупал у Запада самую слабую точку. На нее и нажал. Через десять минут так заврался, что вдруг осознал, что уже и не вру, а цицероню на полном серьезе.
– И какая же это у них там болючая точка?
Он подморгнул, щелкнул пальцами и провозгласил:
– ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ДИСБАЛАНС!
– У-ти-бози-мой.
– Будь добра, обойдись без своей шепелявни навыворот.
– Йес, сё! Яволь! Си, сеньор! Уи, се сар! – Отдав мужу честь, она взгромоздилась с ногами на кресло и повторила с сарказмом: – Стало быть, дисбаланс. Стесняюсь спросить, как же их угораздило дисбалансировать свой пресловутый баланс?
Он пропустил ее реплику мимо ушей.
– Для затравки я выдвинул тезис: тоталитарная власть жаждет присвоить себе эксклюзивное право на дискурс, то бишь на все речевые стандарты и нормы. Тут зал поднапрягся, а бдительный босс наш Архипов, бледнея губами, нахмурился. Насладившись его замешательством, я с легким сердцем продолжил. Но теперь говорил лишь о Западе: геях, трансгендерах, черных, зеленых, чикано, митушницах… Сыпал перлами типа: «узколобые неофиты политкорректности», «разнуздавшиеся инсургенты», «кукловоды всемирного заговора», «подстрекатели атлантического помешательства», «оголтелые прозелиты фарисейской риторики». В общем, нехило и сам позабавился. А потом подстегнул под хулу дисбаланс. Дальше уже – как по маслу: дескать, в Европе и Штатах мы наблюдаем сегодня целый комплекс процессов, разрушающих фундаментальную базу, на которой и зиждется демократический социум, – вот-вот канет в Лету контроль большинства над меньшинствами. Бла-бла-бла… Узуальный порядок вещей, разглагольствую я, это когда меньшинство, обделенное властью и капиталами, стремится окрепнуть и стать большинством, чтобы затем с позиции силы втюхивать публике собственные приоритеты. Бла-бла, бла-бла, бла-бла… Однако сейчас ситуация перевернулась с ног на голову: коллективным сознанием Запада правят меньшинства. Не те, что влиятельны или богаты, а те, что в рецепции масс, одурманенных беспринципными пропагандистами новой реальности, отождествляются с угнетенными жертвами. Эти жертвы так неугомонно кричат, что традиционные страты демократических обществ подспудно, одна за другой, вгоняются в краску вины из-за навязанной им конъюнктурными СМИ иезуитской морали. Бла-бла-бла, бла-бла-бла… Деградация здравого смысла дошла до того, рапортую я с энтузиазмом, что жеманным страдальцам вовсю потрафляют – только б потише они верещали. Но чем охотнее им потрафляют, тем недовольнее «жертвы». А чем недовольнее «жертвы», тем недовольнее те, кто им потрафляет… Короче, дурдом. Бла-бла-бла… При этом нельзя не учесть, что изначально благие намерения угождать недовольным за счет довольных – кои автоматически сами перемещаются в стан недовольных, – оборачиваются неминуемой катастрофой, ибо раз вкусившие плод недовольства редко когда соглашаются стать хоть немного довольными. Таким образом мы получаем насквозь недовольное общество.
– Безупречная логика.
– Да и фактов – вагон. Стоило только конька оседлать, и меня понесло.
– Дай угадаю: к руинам псевдокультуры?
– Весьма кстати приплел и насилие над языком, так что спасибо за консультацию. Очень коллегам понравились все эти «они живу», «они вырождаюсь», «они голосую»…
– Ах вот оно что!
Пролистнул свой смартфон.
– «Местоимение they[3]3
They – они (англ.).
[Закрыть] как форма единственного числа для обозначения небинарного гендера[4]4
Небинарный гендер – это спектр гендерных идентичностей, которые не являются исключительно женскими или мужскими. Небинарные люди могут самоопределяться как би– или тригендеры (носители двух или трех полов), агендеры, негендеры, бесполые, или нейтроиды (не имеющие пола вовсе), и гендерфлюиды (имеющие изменяющуюся гендерную идентичность).
[Закрыть]»… У меня все записано.
– Я тебе говорила, что прецеденты в английском можно найти века эдак с четырнадцатого. Употреблением схожих конструкций грешили Шекспир и Джейн Остин, да мало ли кто! Полагаю, о них ты не упомянул?
– Некогда было вдаваться в подробности. Я скакал не рысцой, а галопом… Хорошо иногда побыть сволочью! Здорово опьяняет. В какой-то момент – даже слишком. Знаешь, пока говорил, я ведь и вправду его ненавидел.
– Кого?
– Разложившийся Запад.
Женщина расхохоталась. Упав на колени, она упоенно, жестоко смеялась, потом подскочила и бросилась в ванную.
Стараясь не слышать утробные стоны, муж сидел на ковре и рассеянно думал: «Снова стошнило. Но это не то. Было бы то, мы бы выжили. Только это не то. То не выходит по срокам. Любви у нас не было месяцев пять. Или шесть?.. Треклятая бездна!»
Он вспомнил, как по пути от метро наткнулся на околевшего ворона. Тот валялся в грязи посреди тротуара – еще цельнокройный, никем не затоптанный. Поддев башмаком бездыханное тельце, мужчина спихнул его дальше, в траву, на прибитый дождями газон.
«Где-то я видел такую же мертвую птицу – распростертую, мутную глазом, с крыльями разной длины… Должно быть, во сне примерещилась.
Но примерещилась очень давно.
Так давно, что уже все едино!»
* * *
После очередного «минирования» всех сотрудников госархива подвергли рутинному обыску и, обязав расписаться в журнале учета, отправили по домам.
Муж вернулся к себе еще засветло.
Жена была в душе.
На столе в кабинете лежали бумаги. Уронив взгляд на титульный лист, супруг прочитал заголовок: «Тетя Каренина». Строчкой ниже стояло: «Рассказ».
За вычетом мелких деталей, текст следовал строго сюжету с ножом.
– Ты что теперь, пишешь?
Она запахнула халат, а поверх головы завила в чалму полотенце.
– Дурачусь. Застряла на переводе, решила немного отвлечься.
– По-моему, очень талантливо.
– Тебя зацепило? Я рада.
– Есть еще что-нибудь?
– Ничего. Кроме одной недоношенной вещи. Там всего-то страничка.
– А сколько должно быть?
– Страничка.
– Значит, вещица закончена?
– У нее нет конца. В том и прелесть: конца у нее быть не может.
– Читай.
– Это просто набросок.
– Читай.
– Затея не слишком моя – так, привет неудачному вестерну. Посмотрела его и расстроилась. Мощный старт, а потом – дребедень. Подмывало его переделать. Получилась опять чепуха, но хотя бы с приемлемым смыслом.
– Читай!
Жена поднесла к глазам пустую ладонь и сделала вид, что читает:
– Прерия. Пять человек в экипаже: семейная пара с сынишкой и двое мурластых громил, от которых разит дрянным виски. Слово за слово, и отморозки наглеют, напропалую дерзят и, войдя в раж, подбивают клинья к супруге героя. Тот не желает проблем и вежливо просит попутчиков прекратить домогательства. На него наставляют большой револьвер. Выбив его у мерзавца из рук, муж выпрастывает из кармана миниатюрный дерринджер и велит сыну поднять с пола «кольт». Подросток встает, нагибается, и в это мгновение второй бандюган сгребает его в охапку, приставляет к горлу нож и отбирает оружие, чтобы направить на женщину. Между тем первый разбойник лезет к себе в саквояж, вынимает оттуда обрез, целится мужчине в лоб и предлагает спрыгнуть с подножки на полном ходу. Герой возражает: «Если я подчинюсь, вы зарежете сына и обесчестите леди, а с позором таким мне не жить. Уж лучше нажму на курок и поквитаюсь хотя бы с твоим недотепой-дружком. Тогда ты пристрелишь меня, затем сына, ну а потом, коль управишься с ней в одиночку, возьмешь силой жену, только в этот расклад я не верю, ибо прежде, чем спустишь штаны, она тебе выгрызет глотку. Так что лучше бы вам, недоумкам, улизнуть подобру-поздорову. У вас десять секунд». Засим, задрав ногу, каблуком сшибает с дверцы задвижку, свободной рукой выуживает из жилета луковку часов и начинает отсчет. Многоточие…
– Жесть!
– Ситуация экзистенциального выбора для всех пятерых персонажей. Куда ни кинь, всюду клин. Только тикает время и летит по степи экипаж.
– Круто! Давай-ка еще.
– Остальное пока не написано.
– Может, проверим на слух?
– Хочу написать рассказ «Иногда» – о релятивизме человеческой сущности. Иногда герой трус, иногда он смельчак, иногда – бунтовщик, иногда – конформист. Вся судьба персонажа сводится к этому «иногда». Словно Фортуна кидает игральные кости и, в соответствии с выпавшей суммой, определяет его поведение. Самое странное, что в любой из своих ипостасей – труса и смельчака, лицемера и простака, подонка и праведника – герой остается собой от макушки до пят. Каждая роль ему впору, и все они истинны. Оттого-то он сам – сплошь обман, перманентная ложь… Зря насупился, это не про тебя. Это про «я живут».
– В микромикроформате. Зачетный рассказ.
И подумал: зачетный удар. Звезданула под дых. Не нокаут еще, но нокдаун приличный. Интересно, давно ли она тренируется?
Жена поднялась, промазала пальцами мимо его напряженной руки, чуть задела ребро подлокотника, распустила чалму, по-кошачьи чихнула и босиком прошла в спальню. Там стряхнула халат на кровать, достала из тумбочки фен, распутала шнур, засунула вилку в розетку, ссутулилась, как вопросительный знак, перед зеркалом и битый час сушила волосы, пытаясь узнать себя в отражении, лишенном одежд и надежд.
* * *
Кошмар навещал ее ночи не часто, но всякий раз повергал ее в оторопь.
Сон затевался, как фильм в кинотеатре, причем зрители были еще и актерами.
…На улице ливень. Промокнув до нитки и отстояв к кассе очередь, супруги заходят в малюсенький зал, освещенный мерцающей лампой в тюремном решетчатом коконе, и по мокрой картонке, гремя кандалами, шаркают в глубь помещения. Перед экраном они замирают и понуро таращатся на пригвожденный к холстине портрет.
Прямо под ним, распластав телеса пирамидкой в окатные мякоти, примостился корсар-продавец. Пахнет дождем и заброшенным кладбищем. Цветов почти нет, а что есть – те пожухли, потухли окраской, скукожились.
Невозможки не видно. Не видно совсем – ни на квелом экране, ни в зыбкой, обманчивой комнате.
Отсутствие мухоловки незримо (не только на пленке, но и наяву, где явь – это сон, а сон – это явная явь, явь в квадрате, а может, и в кубе. Нет ничего достовернее этой апатетической яви), но более чем осязаемо. Больше, чем нарочитое и оттого ирреальное, невсамделишное присутствие нагроможденных повсюду – включая оживший мазками экран – аляповатых предметов: анатомических банок, лабораторных реторт, химических колб, чернокнижных шкафов с корешками седых фолиантов, витиеватых гирлянд из хрустальных кишок, цепастых кадил с золоченой трефовой макушкой, призрачных амфор, струистых подсвечников, алчущих кубков, объемистых урн с безымянным покомканным прахом, ряженных в женские тулова ваз, чучел плюгавых зверушек и юродивой стаи химер в целлулоидном снопе луча, искусанном роем подснеженных мошек.
Вместо поддона с горшком на прилавке стоит попугай. Его лихорадит. Откликаясь на дрожь, мелко звякает ложка в сухом побурелом стакане, что плесневеет в заволглом углу, на пристенных задворках столешницы. Докучливый звук нагоняет хандру.
На бельмастом экране – скелеты деревьев, свинцовое небо, тоска и зудящая музыка.
Внезапно тяжелую поступь саундтрека (перегуды кольчужной, воинственной готики) нарушает щелчок за спиной. Сразу следом – шаги. Лицо продавца коченеет, черты застывают, как воск, и превращаются в слепок предсмертного зоркого ужаса. Медленно тая, воск отекает на жидкие волны тельняшки.
Пока обнажается череп, шаги за спиной все идут. Идут очень быстро, но медленный воск с головы продавца почему-то стекает быстрей.
Попугай не кричит. Даже когда опадает со страху линялыми перьями. Те выстилают прилавок, крошатся, дробятся, микробятся и пресуществляются в пепел. Где-то в подкорке скоблит апатичная мысль: может, зарыться в него, приодевшись дохлятиной, рухнуть на корточки и затаиться?
Чавкая по волдырям на размокшей картонке, шаги подбираются ближе и ближе, вот-вот – и войдут в твою плоть. Убежать нету сил, да и некуда. Сил нет даже на то, чтоб о бегстве подумать.
Бесперый жако, неуклюже вспорхнув, пикирует кляксой на рыхлый экран, натыкается на вездесущий портрет, срывается в штопор и низвергается тушкой на череп хозяина. Поклевав по рябой неподатливой кости, попугай принимается злобно карябать когтями по темени.
Крупным планом – витье червячков. Они выползают из норок глазниц, расплетаются, ткут канитель и начиняют собою зарубки, вминаясь сегмент за сегментом и спайка за спайкой в кустистые борозды, после чего (треск разряда, шипение жареной слизи) расплавляются в жижу и засыхают разводом лоснистых чернил. Нацарапав тату, птица победно кудахчет, машет плешивыми крыльями и растворяется в желтом дыму, повалившем из пышущей зноем подсобки.
Едва попугай исчезает, как тут же зола на прилавке опять обращается в перья.
Объектив отплывает на локоть назад.
Шаги приближаются, чавкают. Перья на плечи еще не надеты.
Завороженно глядя на череп, супруги читают послание. Что-то очень знакомое. Похоже на эпитафию. Крупным планом – лиловая надпись: «Не взрыв, но всхлип». Пророчество Элиота, узнает цитату жена, впопыхах садится на корточки (глухо звенят кандалы), тянет мужа за плащ и, очертив мыслью круг, повторяет поэму с начала, точно магическое заклинание: «Мы полые люди, мы чучела, а не люди…»
Скучно хрустят позвонки – это шаги проторяют их с мужем согбенные спины.
Заполошно мелькает экран. Опрокинувшись конусом в матовый омут небытия, он волочит с собою в воронку свербящую гиблую музыку, пока не погаснет в своем потайном заграничье.
Хыль-хыль, колошматится пленка на голой бобине. Хыль-хыль, хы-лы-хыль, хрррр…
Вот и фильму конец!
Женщина просыпается и какое-то время слушает уханье сердца, но слышит не скачущий пульс, а смачное чавканье быстрых шагов, удивляясь тому, что лежит не в гробу, и что рядом в кровати лежит ее муж, и что оба они не на корточках…
* * *
– Прочитала намедни занятную повестушку, по-французски фривольную – с галльской перчинкой и ироничным прищуром. Главный герой, довольно давно, довольно удачно и плодовито женатый, как-то раз видит сон, а во сне том – ловушка, и, надо заметить, ловушка весьма эротичная. Написано тонко, подробно и, для особо нескромных читателей, в самых интимных и тесных местах по-аптекарски скупо спрыснуто пошлостью. В этом чувственном, сказочном сне наш герой лобызает совсем не жену, а давно позабытую и навсегда безвозвратную женщину, которую тайно когда-то любил и про которую честно не помнил лет двадцать. А тут вдруг она возьми да воскресни в его каверзном сне. Этот сон-поцелуй так первозданно прекрасен, запретно красив и неистово вкусен, что размывает фундамент его повседневности, от уюта которой теперь остаются руины. Герой потрясен, приворожен, сражен наповал. Все идет вкривь и вкось. Ничто ему больше не мило – ни дом, ни жена, ни возня карапузов. Все отныне поддельно, неправедно, глупо, будто его обокрали на сокровенное счастье. День за днем он томится желанием встречи с возлюбленной из обольстительных грез, которые чуть ли не каждую ночь повторяются. Наконец, спустя месяц-другой ему удается назначить предмету влечения рандеву. Казалось бы, вот она, благополучная кульминация. Не тут-то было! Повестушка, напомню, с прищуром… В ходе встречи воздушные замки героя один за другим рассыпаются прахом: все почти так, как и было в его сновидениях, но при этом настолько не так, что его накрывает отчаяние. Нет, девица по-прежнему очень пригожа, стройна, соблазнительна, пахнет свежо и роскошно, «как сиреневый сад под дождем», но чего-то ему не хватает. Какой-то заветной искры, от которой займется вселенский пожар. Ее-то и нет, этой громкой искры. Нету даже искринки – только снулые угли на сердце да сухость во рту, беглость собственных глаз и першение в горле. Остается одна лишь надежда – на поцелуй, пережитый во сне. Но его еще нужно проверить ущербной реальностью. С добрый час утопист набирается смелости. Наконец, застонав, в полуобмороке, заключает в объятия дамочку и впивается ей в уста. И вот тут – полный крах: уста-то ее – не уста, а обычные губы, чересчур плотоядные и как-то банально сговорчивые. Нет в них должной гордыни. Слишком покладисты для его ускользающей и – уже навсегда – несбыточной героини. Вкус поцелуя его предает и оказывается невыносимым. Воротившись домой, кавалер запирается в кабинете и безутешно рыдает, понимая, что жизнь его кончена. Что она его облапошила. С этой ночи ничто уж не сможет его убедить, что она состоялась. Единственной истинной радостью в ней оказался тот поцелуй, что настиг его ночью во сне приговором. Напоследок герой задается вопросом: возможна ли жизнь настоящая где-нибудь кроме сна?.. Такая вот повесть. Почти анекдот.
– И в чем тут мораль?
– Мораль здесь печальна: настоящая жизнь невозможна, если ты ее спутал с мечтой.
– Это если мечта не была настоящей.
– Может и так. Хочешь еще анекдот?
– Не хочу. Давай теперь чистую правду: зачем рассказала?
– Чистая правда бывает грязнее неправды.
– Я готов и запачкаться.
– Тогда начну с фактов. Длина кровеносной системы – без малого сто тысяч верст, что больше экватора в два с лишним раза. И всю эту кровь разгоняет в нас сердце одним лишь ударом. А влюбленное сердце, по статистическим выкладкам, бьется сильнее и чаще. Поди подгони под него габариты Земли!
– Как-то доселе планета справлялась.
– Вот именно – как-то! А вовсе не так, как должна. Факт в том, что на свете нельзя уместиться любви, чтоб совсем уж не скрючиться. Земля под нее приспособлена слабо.
– Венера – тем более. Дальше.
– Факт второй: вечный двигатель. Его попросту нет.
– Ну и что?
– А то, что все во Вселенной функционирует в рамках погрешности. Вот почему моторы ломаются, механизмы стираются, орбиты срываются, сердца замирают, кости дряхлеют, конечности высыхают, а бесконечности валятся в черные дыры. В каждом процессе заложена погибельная ошибка. И только одно не подвержено амортизации, не знает просчетов и промахов – смерть. От нее спасу нет. Она контролирует все и все гарантированно уничтожает. Что б мы ни делали, мы совершаем с оглядкой на смерть. Из-за нее мы трусливы, покорны, безропотны. Но при этом послушны мы хитро и скверно, эгоистически, нехорошо. Боимся не собственной низости, а за нее нам возмездия. Да еще приплетаем сюда небеса. Посмотри, как мы молимся! В каждой молитве клянчим пощады и сочиняем в уме дивиденды: дай нам, Боже, здоровья, удачи и денег. Мы поклоняемся с умыслом и полагаем, что Бог одарит нас счастливым билетом за то, что мы преклонили колени и на какой-то десяток минут отключили гордыню. Слезливость со свечкой в руке – это и есть основное Ему поднесение. Нет ничего подлее молитвы, похожей на лотерею и прописанной нам как великое таинство, священнодействие. Почему же мы просим, а не отдаем? Почему не попросим всевышнего взять от нас, а не дать? Да потому, что в нас говорит боязнь неизбежной кончины. В нас молится смерть, а не бессмертье души, в которое мы и не очень-то верим. Оттого-то нам надобен Бог-покровитель, а не Господь-грудничок, Коего каждый из нас, будь мы храбрее, был бы обязан взрастить в своем сердце и отдать Ему самые чистые и животворные соки души – отдать безвозмездно, просто за то, что позволил нам веровать. Мы ж предлагаем грошовый задаток в расчете на скорую прибыль. Ненавижу смотреть на молящихся. Ненавижу вранье. Ненавижу торгашество. Но больше всего ненавижу я смерть – ту, которая нас убивает при жизни. Все в этом мире впустую.
– И любовь – пустота?
– Нет. Любовь – ее жертва. Но жертва, опять же, впустую… И смех твой впустую. Им ты меня не проймешь. Пустоту не проймешь. Дырку в дырке не сделаешь.
– Если ты пустота, отчего же тогда тебе больно?









































