Читать книгу "Слишком поздно"
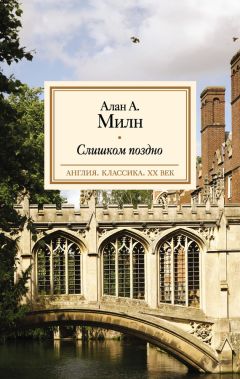
Автор книги: Алан Милн
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Папа с гордостью рассматривал свои руки, не испачканные машинным маслом. Теперь он бакалавр и церковный старшина. На что Кен слегка презрительно заметил:
– А я, когда вырасту, буду носить на груди медную табличку с надписью «магистр». Чтобы все видели.
В другой раз Кен заявил отцу, что для школьного учителя у него недостаточно важный вид.
– Ничего подобного, – отвечал отец, подбоченившись и сделав строгое лицо. – Я очень важный, важнее царя Соломона.
Кен печально покачал головой:
– Соломон был мудрец.
Много лет спустя, когда я служил в «Панче», мне не раз доводилось получать письма, которые начинались так: «Вчера мой сынок шести лет от роду сказал то-то и то-то. Мне сообщили, что это может вас заинтересовать». По правде говоря, я получаю их до сих пор.
Не уверен, что остроумные замечания Кена, признанные его родными шедеврами остроумия, стоят того, чтобы быть увековеченными, но в семейном кругу они годами передавались из уст в уста. Мой вклад в домашнюю Библию скромнее, к тому же мои остроты уступали остротам брата, что не мешало отцу носиться с ними как с писаной торбой.
«Я изнывал от скуки, когда писал «Иммигранта», – вспоминал Стивенсон, – так что будет только справедливо, если читатели будут изнывать от скуки, читая его».
Вот и я думаю, что, выслушав эти истории столько раз, имею право поведать миру, что я сказал в далеком 1884 году.
В то время Барри почти исполнилось пять – пришло время взяться за ум. Кену стукнуло три, и его ум был занят проказами. Пока гувернантка учила Барри читать, что оставалось делать Кену? Разумеется, проказничать. Чтобы отвлечь Кена от проказ, в детской установили доску. Что делал в это время малютка Алан? Мирно сосал кулачок в углу и звенел погремушками. Однажды папа решил проверить, далеко ли продвинулись юные читатели, но не успел он приступить к опросу, как малютка Алан, вертя шнурок, заявил во всеуслышание:
– Я могу.
Папа велел ему не мешать старшим.
На что Алан, завязав еще один узелок на шнурке, возразил:
– Я могу.
– Ш-ш-ш, детка… – Папа приложил палец к губам и спросил Барри и Кена, направив указку на букву: – Что это?
Барри и Кен нахмурились. Нужное слово вертелось на языке. Мышка или мошка?
– Кошка, – раздался самодовольный писк из угла.
Успех исполнителя зависит от правильной аудитории. «Я могу», – заявил двухлетний Авраам Линкольн.
Нынче, когда я отказываюсь делать то, что положено настоящему писателю – читать лекции, устраивать благотворительные распродажи, говорить речи, ехать в Голливуд, – меня называют избалованным: «Вы всегда отказываетесь делать то, что вам не по нраву».
В свое оправдание скажу, что порой я также лишен возможности делать то, что мне по нраву. По справедливости, моей первой фразой должна была стать «не буду», а не «я могу».
Так или иначе, с тех пор в семье считалось, что я начал читать в два с небольшим года и был немногим старше, когда внес свой вклад в семейную историю.
Сам я никогда не придавал значения этому эпизоду, но папа его обожал. Он не сомневался: его младшенькому уготовано великое будущее. Иными словами, Алан не круглый идиот.
Мы шли по Прайери-роуд, когда прямо перед нами остановилась тележка, запряженная лошадью, и угольщик, навьючив на плечи мешок, вошел в калитку.
– Почему оба? – спросил я.
Никто не понял, что я имел в виду, никто не знает этого и по сей день. Однако папа, хорошенько обдумав мои слова, решил, что я спросил: зачем использовать обоих? Почему лошадь не может сама разносить уголь, а угольщик – тянуть повозку?
– Ты это имел в виду, мальчик мой?
Я с легкостью согласился – слишком много новых вопросов вертелось в голове, – и папа прочел мне лекцию об экономике сотрудничества. Впоследствии он уверовал, что это не он, а я преподал ему урок, а учитывая, что мне к тому времени исполнилось только три года, для своих лет я оказался на удивление хорошим учителем.
Тем не менее фраза «почему оба» заняла в семейных анналах достойное место рядом с «я могу», окончательно убедив папу, что за будущее младшего сына можно не беспокоиться.
То лето мы проводили в Торки, и на четвертый день рождения Кену подарили его первую настоящую книжку. Когда сорок лет спустя я написал историю Винни-Пуха и увидел иллюстрацию Шепарда – на ней медвежонок Пух стоял на ветке рядом с домиком Совы, – то вспомнил, что значили для нас сказки лиса Рейнарда и дядюшки Римуса, а еще рассказы о животных в «Журнале тетушки Джуди». Надеюсь, что если не мне, то хотя бы моему соавтору передалось их волшебство; дети до сих пор без ума от этих старых историй.
Сказки дядюшки Римуса папа читал нам вслух, по главе на ночь. Однажды он был в отъезде, и мы, не чуя беды, попросили гувернантку прочесть нам положенную главу. Вероятно, тот ужас, который мы испытали, описывает выражение «не верить своим ушам». Куда делся дядюшка Римус? Куда делась возлюбленная Би? Наш идол был повержен. Спотыкаясь на диалектных словечках, Би кое-как доковыляла до конца страницы и спросила, стоит ли продолжать. Не стоит, хором ответили мы. Неинтересная книжка, подумала она. Мы подумали иначе. Может быть, почитать вам что-нибудь другое, или лучше поиграете? Спасибо, лучше поиграем.
На следующий вечер место чтеца занял папа. Всего три строчки – и дядюшка Римус был спасен. Би больше никогда не читала нам вслух. Она была лучше всех, и я любил ее с прежним пылом, но уже не роптал, что в жены мне назначена Молли.
Еще папа читал нам «Путь паломника», или, как мы привыкли его называть, «Беньянов путь паломника». Даже сейчас томик в грязной желтой обложке стоит передо мной. О, как мы ждали, как боялись этой книжки! Если бы «Путь паломника» читался нам в будни, мы наверняка относились бы к нему без священного трепета, но мы были пресвитерианами, воскресенье посвящалось религии, и папе каким-то образом удалось внушить нам, что «Путь паломника» – религиозная книга. Мы так и не сказали ему правды, лишь слушали, затаив дыхание, больше всего на свете опасаясь, что он догадается. Ибо это было единственным развлечением воскресенья, за исключением возможности по дороге из церкви обнаружить религиозно настроенную гусеницу.
Кроме того, нам дозволялось читать переплетенные тома «Колчана»[1]1
«Колчан» – ежемесячный христианский иллюстрированный журнал, издавался с 1821 до 1926 г. – Здесь и далее примеч. пер.
[Закрыть] и многочисленные сочинения, начинавшиеся «Строчкой за строчкой», продолжавшиеся «Главкой за главкой» и завершавшиеся (к тому времени автор успевал оседлать любимого конька) «Заветом за заветом».
Хочется верить, что мои сверстники тоже помнят «Журнал тетушки Джуди». Для нас с Кеном тетушка Джуди была небожителем. Мы бережно хранили переплетенные подшивки, но я не знал тогда – не знаю и теперь, – кто из его авторов до сих пор в строю. Была ли тетушкой Джуди сама миссис Эвинг?[2]2
Джулиана Горация Эвинг (1841–1885) – детская писательница, ее творчество ценилось многими видными современниками: от Теннисона до Рескина. Тетушка Джуди – семейное прозвище миссис Эвинг. «Журнал тетушки Джуди» основала ее мать, и в нем миссис Эвинг печатала свои стихотворения, волшебные сказки, повести и романы.
[Закрыть] Кто были прочие сочинители? Я готов сорвать с головы свой скромный лавровый венок и листок за листком отдать этим безымянным волшебникам. Мы штудировали каждый выпуск от корки до корки, как мой собственный сын проглатывал в детстве тома «Детской энциклопедии». Впрочем, тетушка Джуди была дамой непрактичной – очаровывая нас, она так и не объяснила нам, как смастерить трехколесный велосипед.
Хенли-Хаус был разделен на две половины. Вступив в жилую, вы попадали в маленькую прихожую, а пройдя через витражную дверь, оказывались в вестибюле ровно такого размера, чтобы служить перекрестком между лестницей и коридором. Правую стену украшали буйволиные рога, лассо и пара мексиканских шпор. И всякий раз, съезжая по перилам, вы перемещались из Килбурна в романтический мир, где правило бал воображение. Нынче не счесть шоу, где поддельные мексиканцы укрощают ненастоящих буйволов, а фантазии современного ребенка ограничены набором штампов, которые предлагает Голливуд. Мы же бродили по настоящим прериям (а до нас – до определенного возраста мы свято в это верили – по ним бродил папа), носили шпоры величиной с блюдце, заарканивали буйволов размером со слона, безжалостно давили тяжелыми каблучищами гремучих змей, а завидев краснокожих, ловко соскальзывали под лошадиное брюхо.
Позднее мы узнали, что мексиканские трофеи в благодарность за уроки алгебры отцу подарил бывший ученик. Звали ученика Нуньес. Мама тоже его помнила, но куда больше ее тревожило, что в шкуре между рогами заводится моль, а от шпор нет никакого проку, висят и ржавеют.
На столике напротив рогов стоял аквариум, битком набитый образцами фауны, которой кишел пруд Баранья Нога в Хэмпстеде. Посередине аквариума возвышался коралловый риф, вокруг него мельтешили рыбы и тритоны; иногда на риф забиралась лягушка и сидела, наполовину высунувшись из воды, а мы следили, чтобы она не выпрыгнула из аквариума, соблазнившись мухой.
Каждую неделю мы откачивали воду из аквариума при помощи сифона. Папа в присущей ему манере лектора-популяризатора объяснил нам, почему вода движется по трубкам, если втягивать воздух ртом. Если втянуть воздух слишком поспешно, рискуешь проглотить изрядное количество жижи, кишащей мальками тритонов. Стоит ли упоминать, что чаще всего не везло старине Кену?
Вероятно, тогда же папа объяснил нам закон Архимеда, и несколько дней мы бегали по дому, вопя «Эврика!» и до смерти пугая гувернантку.
Первая дверь налево вела в парадную гостиную. В гостиной стоял газовый камин – редкость в те дни. Помню, мы удивлялись, что газовых каминов нет ни у кого в Килбурне. Благодаря камину я впервые познакомился с асбестом (нельзя сказать, что впоследствии мы часто возобновляли знакомство). Папа рассказал нам о составе асбеста, правда, не слишком уверенно, ибо его знания в этом вопросе были нетверды. Однако камин пришелся гостиной впору, так как ею пользовались только для приема гостей.
Считалось, что мамина парадная гостиная – самая красивая в Килбурне. Помню, однажды я спросил гувернантку, действительно ли наша гостиная так хороша, и она ответила утвердительно. Десять лет спустя, когда школа переехала в Торки, а я учился в Кембридже, я пристал с тем же вопросом к экономке. Она повторила слова гувернантки, и мне пришлось смириться с очевидным.
Ныне при виде маминой гостиной в первом акте исторической драмы публика непременно разразилась бы аплодисментами, а художникам вроде Мотли или мистера Рекса Уистлера осталось бы признать свое поражение, ибо ее гостиная была совершенством.
Увидев в чужом доме расписанную водосточную трубу (в которую ставили камыши), резные мехи (для продувки газового камина?) и вышитые бархатные рамки (для расписанных вручную семейных групп), мама с легким презрением замечала папе:
– Я сделала бы лучше.
И это была чистейшая правда.
У меня сохранился единственный образец ее работы, из ранних. На стене кабинета, где я сижу, висит вышитая репродукция «Тайной вечери» Леонардо, три фута на два, как излагают в выставочных каталогах. На ферме в Дербишире юная Сара Мария вышивает: стежок за стежком, стежок за стежком, стежок за стежком; в снегах Крыма гибнут, гибнут, гибнут солдаты; в церквях по всей Европе Господа, которому возносит свои детские молитвы маленькая Сара Мария, просят послать больше пушек. Уцелела только вышивка Сары Марии.
Следующая дверь вела в гостиную поменьше, а через дверь напротив вы попадали в большой класс. Когда-то на месте класса было две комнаты, теперь границу между ними отмечала металлическая перекладина под потолком. С нее свисала гардина, которую никогда не задергивали. Однажды на каникулах мы нашли гардине применение: сигали на нее с ближней парты и старались раскачаться как можно сильнее. Папа узнал об этом как-то вечером, когда до его слуха долетел треск, грохот и стон. Иаков обнаружил своего Вениамина на полу, неспособного объяснить, что он не убился насмерть, а лишь временно утратил дар речи.
Меня отнесли в постель. Мама, подняв голову от швейной машинки, сказала:
– Ты бы послал за доктором Мортоном, дорогой. Пусть Хаммерстон сбегает.
Послали за доктором; я чувствовал себя принцем крови.
Позднее папа, отнесшийся к этому происшествию весьма драматически, неоднократно о нем вспоминал.
– Мы испугались за его позвоночник, – произносил он с чувством.
Еще позднее, когда мы с Кеном занялись скалолазанием и меня угораздило оцарапать голень, брат покачал головой и с надрывом промолвил… впрочем, он мог бы не повторять знаменитой папиной фразы целиком – к тому времени я научился угадывать ее с полуслова.
Но вернемся в жилую половину дома. Две комнатки в конце коридора. Одна не стоит упоминания, вторая именовалась музыкальным салоном. Время от времени туда заглядывал мистер Говард, чтобы проверить, кто из мальчиков так безбожно фальшивит. Под его руководством мы с Кевином разучивали дуэт для школьного концерта. Помню, пьеска была бравурная и романтическая, сплошные морденты и арпеджио. Разумеется, время от времени нам приходилось перекрещивать руки на клавиатуре, в то время как ноги отчаянно сражались за педаль. Впоследствии я прочел в школьном журнале, что пьеса называлась просто и безыскусно «Мелодические упражнения», а имя композитора не упоминалось вовсе. Хотя, возможно, я смешал два выступления в одно. Второе состоялось позднее, в городской ратуше, на вечере под названием «Музыкальная гостиная», который устраивала школа. Мы с Кевином бодро исполнили «Дуэт в ре-мажоре» – произведение не чета «Мелодическим упражнениям», хотя по-прежнему безымянное, подобно дешевому вину. Кроме пьесы в четыре руки мы спели «Томми и яблоки», после чего стало понятно, что мне следует оставить певческую карьеру.
Мистер Говард был французом и воевал на франко-прусской войне. Все знали, в голове у него сидит немецкая пуля, хотя, возможно, я путаю мистера Говарда с другим его соотечественником – преподавателем французского в Вестминстере, у которого, как говорили, немецкая пуля застряла в ягодице. Оба носили в себе пули, только с разных сторон, и в одном случае (ибо я не подвергаю сомнению их храбрость) пуля оказалась шальной.
Не все преподаватели-иностранцы пользовались таким уважением, как эти двое. Один учитель в Хенли-Хаус много лет потратил на изобретение устройства, которое делало крыши омнибусов водонепроницаемыми. Устройство походило на большой зонт и крепилось в центре пола, но по неведомым причинам упорно отказывалось раскрываться. Вероятно, изобретатель просто опередил свое время.
Открыв дверь направо и спустившись на несколько ступенек, мы попадали в полуподвал. Там располагалась кухня, где правили Дэвис, наша кухарка, и Хаммерстон, управляющий. Я привык думать, что они женаты, но я ошибался, у них и фамилии-то были разные. Дэвис и Хаммерстон являлись такой же неотъемлемой частью Хенли-Хаус, как буйволиные рога, а Дэвис могла поспорить с ними дряхлостью.
Когда родился мой сын, наша кухарка, допущенная посмотреть на новорожденного, радостно поделилась со мной известием, что малыш «вырастет высоким, совсем как мать». Вероятно, Дэвис, присутствовавшая при рождении всех братьев Милн, обменивалась с Хаммерстоном похожими замечаниями: «низенький, как хозяйка» или «безобразный, как чертенок». Обо мне она наверняка сказала: «Не говорите хозяину, но этот – вылитый альбинос».
За дверью кухни Дэвис хранила запасы крупы. В пять утра, перед тем как отправиться на подвиги, мы с Кеном всегда зачерпывали по пригоршне овса, чтобы продержаться до завтрака.
Дэвис варила превосходную овсянку, благодаря которой, вероятно, и задержалась у нас надолго. Папа, ближе нас к Шотландии на одно поколение, никогда не добавлял сахара, чем неизменно удивлял сыновей.
За гостиной находилась комната, которую вся школа называла детской. Там мы спали, ели, учились, играли с гувернанткой, пока не покинули миссис Бадд, но даже потом, когда мы стали частью школы, детская осталась нашим прибежищем.
Глава 3
1Несмотря на то что мы до сих пор носили кудри до плеч и одной ногой застряли на домашней половине, мы, несомненно, были частью школы. Один добрый старый джентльмен, в чьи обязанности входило председательствовать на выпускных экзаменах, случайно столкнувшись со мной в гостиной, был так очарован, что на следующий день подарил милому крохе игрушечную лавку мясника – в своем роде отличную игрушку: разделанные туши, весьма натуралистично раскрашенные, живописно свисали с крюков. Что, однако, не помешало мне вскоре получить за контрольную по алгебре, написанную под его не слишком бдительным надзором, девяносто пять баллов из ста.
– Ну, детка, он же не со зла, – утешала меня мама, а папа сказал, что я должен написать доброму старому джентльмену, и я неохотно последовал его совету, подозревая, что даже если кудри отрежут, необходимость в таких письмах не отпадет.
А всего за несколько дней до экзамена из-за внеплановой помывки волос я едва не пропустил собрание школьного дискуссионного клуба, где мы решительно высказались в поддержку иностранной политики лорда Сейлсбери. Поэтому нынче, когда женщины жалуются мне, что убивают в парикмахерских уйму времени, я только ухмыляюсь. Нашли чем удивить!
Мне лишь однажды довелось выступить на собрании клуба. Вечер был посвящен экспромтам: бумажки с именами членов клуба вытягивались из одной шляпы, темы выступления – из другой. Не находя себе места от волнения, я ждал, когда выкликнут мое имя. И дождался.
– Милн Третий.
Милн Третий с дрожащими коленками устремился навстречу судьбе – любая тема представлялась одинаково гибельной.
Шатаясь, Милн Третий вернулся к своей парте и развернул бумажку: «Гимнастика».
Я онемел, в голове звенела пустота. Сосед по парте, превратно истолковав значение слова «экспромт», прошептал мне:
– Гимнастика укрепляет мышцы.
Сглотнув, я выдавил:
– Гимнафтика укрефляет мыфсы.
И сел. Это была самая краткая из моих публичных речей и по той же причине самая успешная.
Некоторое время спустя я принял участие в гимнастических соревнованиях (в юношеском разряде), выиграл приз и (надеюсь) укрепил мышцы. Я также боксировал с другим мальчиком по фамилии Харрис – мы были единственными участниками. Не сомневаюсь, ради того, чтобы улизнуть с ринга, я бы воспользовался любым предлогом, даже нелюбимыми кудрями до плеч. Исход поединка признали ничьей. Харрис неплохо работал правой, Милн ловко уворачивался, как писали в школьной хронике. Вероятно, я просто удрал, а Харрис не сумел меня догнать.
А что все это время поделывал Кен? Ни призов, ни знаков отличий для бедного Кена. И как всегда, ни слова упрека в мой адрес. Школьная жизнь значила очень мало по сравнению с жизнью вне школы, которую мы делили на двоих, а в ней не было места соперничеству.
Нами безраздельно владели две мечты. Первая – стать моряками. Виной тому была великая книга Кингстона «Три гардемарина»[3]3
Герои романа Уильяма Генри Джайлса Кингстона (1814–1880) «Три гардемарина» поступают гардемаринами на военный корабль королевского флота. После приключений в Африке и Китае друзья получают звания лейтенантов. Дальнейшим похождениям бравой троицы посвящены романы «Три лейтенанта», «Три капитана» и «Три адмирала».
[Закрыть].
Мы трое (третьим был Барри) собирались пленять арабские шхуны, одним ударом кинжала расправляться с акулами и плыть по бурным водам с веревкой в зубах. Тщательно взвесив все за и против, мы решили поставить в известность родителей и, с гордым видом зайдя в гостиную и послушно затворив за собой дверь, объявили устами старшего:
– Мы пришли сказать, что хотим стать матросами.
Должно быть, папа слегка опешил, хотя виду не подал.
– Тогда вам нужно усердно заниматься, – только и сказал он. – В матросы без экзаменов не берут.
Это известие сломило решимость Барри посвятить себя морскому ремеслу, но мы с Кеном сдаваться не собирались, упорно готовя себя к полной опасностей жизни в море. Мы совершали долгие пешие прогулки, поскольку верили, что умение маршировать на длинные дистанции необходимо в морской службе. А еще мы тренировались жевать табак. Всем известно, жевание табака способно заглушить голодную резь в животе, а значит, может оказаться полезным для жертв кораблекрушения. Впрочем, мы заглушали голодную резь в животе без особого успеха и, наконец, решили, что если корабль налетит на коралловый риф, то мы останемся на борту с капитаном.
В то время Кен неожиданно получил стипендию для учебы в Вестминстере, и моя любовь к морю сменилась страстным желанием последовать по его стопам. Как я уже упоминал, я достиг желаемого в возрасте одиннадцати лет, а некоторое время спустя директор школы написал в моем отзыве: «Вам не приходило в голову обучить его морскому ремеслу? Мне кажется, эта профессия как раз по нему. Или вы считаете, что он слишком хорош для флота?» Разумеется, папа считал, что я слишком хорош для флота. Люблю рассказывать об этом морякам. Они посмеиваются, но сразу видно: эта история их задевает.
Вряд ли мы всерьез рассчитывали, что другой, гораздо более ранней мечте суждено сбыться. Случись такое, нам было бы негде проявить наши морские таланты. Мы мечтали в один прекрасный день проснуться и обнаружить, что, кроме нас с Кеном, в живых не осталось никого.
По сути, эта жестокая фантазия была лишь вариацией мечты о необитаемом острове, живущей в сердце каждого мальчишки. Но откуда взяться необитаемому острову в Килбурне? Чтобы добраться до острова, требовалась шхуна; как папа, имевший привычку являться на вокзал Виктория за час до отбытия поезда и раскланивающийся с каждым грузчиком, доставит нас на корабль? Одних он нас не отпустит, значит, придется бежать. Нас не ограничивали в передвижениях, но мы были послушными мальчиками, и папа знал, что может нам доверять. Поэтому шхуны отменялись, необитаемый остров оставался несбыточной мечтой.
Приходилось надеяться, что Господь, которому не впервой такое проделывать, уничтожит всех людей на планете, оставив в живых только нас. А если Он отнесется к нашей затее без энтузиазма, так бедствия случаются и помимо Его воли. Человечество может поразить чума. Папа не избежит общей участи, он умрет вместе с остальными, оставив мир дорогим Кену и мне.
Даже думать о таком было страшно, ведь мы любили папу всем сердцем. А еще мы любили маму, пусть и не с таким пылом. А еще Би и – куда более страстно – Дэвис и Хаммерстона. Кроме того, мы любили наших домашних питомцев. Мы не были черствыми подростками и надеялись, что они избегут общей участи. И все же больше всего на свете нам хотелось одиночества и свободы. На неделю, возможно, меньше, если кто-то из нас серьезно поранится. А через неделю пускай себе оживают! Проснуться утром и обнаружить, что, кроме нас с Кеном, на белом свете не осталось ни души, – вот оно, счастье!
Первым делом мы совершим набег на магазины, где торгуют сладостями. Не робко прошмыгнуть мимо витрины, а, гордо переступив через труп владельца, шагнуть внутрь – об этом можно только мечтать! Вверх по Хай-роуд, перебегая от магазина к магазину, вдоль Вест-Энд-лейн (весьма неплохие марципановые шарики), через пешеходный мост на Финчли-роуд (отменные коржики), затем по Фицджонс-авеню в Хэмпстед-хес, прямиком к маленькому магазинчику справа – а там мороженое, мороженое, мороженое! И это только начало! Лежа в кроватях, мы каждый вечер строили планы. Прицепив по мексиканской шпоре, чего-нибудь заарканить. Заглянуть в велосипедный магазин в начале Майда-Вейл. А как насчет того, чтобы порулить автобусом? С пассажирского сиденья казалось, что управлять им проще простого. Теперь мы сможем это проверить. Столько вкусной еды, столько запретных развлечений!..
Сказать по правде, мы вовсе не испытывали недостатка в свободе. Обычно мы с Кеном вставали ни свет ни заря и до пробуждения родителей делали что хотели.
В то время мы увлекались серсо – не медлительными деревяшками, которые имели обыкновение срываться с палки и падать в канаву, а стремительными железными кругами на железном штыре с крючком на конце, мешающем обручу соскользнуть. Даже сейчас меня пронзает дрожь при воспоминании об утренних набегах на Лондон! Мы катим свои железяки по безлюдным рассветным улочкам, ни разу не запнувшись, ни разу не переведя дух, завороженные высокими молчаливыми домами, катим, гадая, что за невидимые существа обитают за этими дверями, пока не выскакиваем на Бэйсуотер-роуд, спрашивая себя, удавалось ли кому-нибудь до нас пробежать от Килбурна до Бэйсуотер без передышки и что сказал бы папа, если бы узнал. Затем – обратно, предвкушая завтрак, болтая и останавливаясь, чтобы перевести дух, к овсянке Дэвис, самой божественной трапезе дня.
Однажды к нам в дом попали два бамбуковых шеста двенадцати футов длиной. У папы была кузина на Ямайке, он и сам там родился, и мы не знали, стыдиться нам этого факта или гордиться им. С одной стороны, мало кто из мальчишек мог похвастаться тем, что их отец родился на Ямайке, с другой стороны – у тех, кто мог скорее всего была кучерявая макушка. В любом случае это родство делало папу не чистокровным англичанином, а к нам заставляло относиться с подозрением. Как бы то ни было, шесты, присланные оптимистично настроенной родственницей в надежде, что кузен Джон и кузина Мария сочтут их небезынтересными, прибыли в дом. Кузина Мария, обнаружив, что шесты уже покрыты резьбой, не нуждаются в раскрашивании и в практическом смысле годятся лишь для растопки камина, быстро потеряла к ним интерес, однако кузен Джон, отчасти из чувства противоречия, отчасти из чувства долга перед Вест-Индией, решил повесить их над аквариумом, словно гребец свои весла.
На следующее утро, ровно в пять тридцать утра, мы с Кеном, съехав по перилам, влезли на стол и завладели трофеями. В отличие от родителей мы находили их невероятно интересными. И вот уже Кен – Робин Гуд, а я – Вилл Скарлет; скоро мы поменяемся ролями. В руках у нас настоящие дубинки, откладывать сражение не имеет смысла. Мы выходим во двор и приступаем.
В шесть утра из окна на верхнем этаже высовывается рассерженная физиономия. Это один из учителей, который громко и отчетливо вопрошает:
– Чем, черт возьми, вы тут занимаетесь?
Мы могли бы ответить, что Маленький Джон бьется с братом Туком, и исход поединка до сих пор неясен, но к тому времени мы устали от своей затеи не меньше рассерженного зрителя. Рассуждать о предстоящем сражении вечером, лежа в кровати, было увлекательно, однако волшебство улетучилось, а ладони саднит. Освободить от воды и вновь наполнить аквариум представляется нам сейчас куда более увлекательным занятием. Кто бы мог подумать, что идея так быстро себя исчерпает!
Задыхаясь, мы влетаем в дом и прилаживаем шесты на стену. Пользуясь тем, что Дэвис еще не спустилась, зачерпываем по пригоршне овсянки, жадно пьем воду из сифона, обегаем напоследок Мортимер-роуд и Гренвил-плейс, какое-то время гоняем камешек по двору, подпрыгивая на одной ноге (не забыть завтра встать пораньше, чтобы потренироваться), и к семи возвращаемся в дом, готовые к долгому школьному дню.






























