Текст книги "Иерусалим"
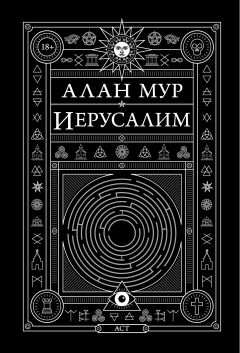
Автор книги: Алан Мур
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 108 страниц) [доступный отрывок для чтения: 26 страниц]
Не успел он сделать и пары шагов, как скривился от ужасной вони из-за горящего мусора и завертел головой, оглядывая окружающие терракотовые дымоходы, но ее источника так и не нашел. Альма однажды сказала ему, что беспричинный запах гари – один из симптомов шизофрении, добавив: «Но, в конце концов, шизики и так наверняка сами поджигают все вокруг, так что это каверзный критерий». Как ни странно, он обнаружил, что предпочел бы шизофрению и вытекающие из нее обонятельные галлюцинации, чем худшую альтернативу, пришедшую на ум. Вспомнилось, как на их встрече в прошлом году Альма заметила, что главной причиной беспокойства для него служит не то, что он свихнулся, а скорее тревожная вероятность, что нет. Зажав ноздри из-за вездесущего смрада, Мик направился к лестнице – когда он к ней приблизился, выяснилось, что за прошедшие несколько лет ее заменили более дружелюбным к инвалидам пандусом.
Сгусток черноты на гравийной дорожке впереди рассыпался на мельтешащие угольные пятна, словно предвестник мигрени, ненадолго обнажив спиральную охряную какашку с отпечатком ноги, зияющим на ее хребте и подножии, прежде чем туча мясных мух перегруппировалась и успокоилась. Зря он сюда пошел. Пышные лужайки по краям утыкались в длинные стены, которые шли параллельно центральной тропинке и окаймляющим ее полоскам травы. Стены, сложенные из того же темно-красного рябого кирпича, что и весь комплекс, разбавляли полумесяцы окон в стиле лже-баухауса, которые открывали частичный вид на широкие пустые просторы ровного бетона – дворы многоквартирников, хмурые без единой живой души, даже без птиц. Когда Мик впервые узнал про Чистилище, перед его глазами встали именно эти два двора – отвратительный край, где мертвые проводят в заточении целую вечность, сидя на гранитных ступеньках под однообразным белым небом. Полукруги в стенах недавно украсили веерами железных спиц, отчего те стали похожи на мультяшные глаза, где черные прутья образовывали лучи на радужках негативного пространства. Попарно они напоминали верхние половины ликов с острова Пасхи, вкопанных по уши в землю, но все еще живых, с умоляющими, задыхающимися взглядами. Молодые деревца на обочинах – снова современное нововведение – отбрасывали на застывшие маски глянцево-черные тени, жидкие и паучьи, словно чернильные капли, раздутые соломинкой карапуза, чтобы расползтись кляксами потекшей туши.
Несмотря на скорость, с которой его захлестнула волна удушающей депрессии, Мик не заметил ее появления и тут же поверил: то, что заклубилось токсичным паром в разуме, всегда и было его мировоззрением, а обычный оптимизм – не более чем подделка, тончайший платок, который он накидывал на неотвратимую истину. Смысла нет. Смысла нет и не было, ни в страданиях, ни в стенаниях, ни в стараниях, ни в существовании. Мик всегда знал, что стоит подвести сердцу или умереть мозгу, как мы просто перестаем думать. Всем это известно в самой темной пучине души, что бы они ни говорили. Мы перестаем быть теми, кем были, просто отключаемся и никуда после этого не деваемся – ни в рай, ни в ад, ни реинкарнируемся в виде нового, хорошего человека. После смерти нас ждет ничего – ничего, кроме ничего, и для всех и каждого с последним вздохом вселенная исчезнет без следа, будто ее никогда и не было. На самом деле он никогда не ощущал рядом тепло и присутствие родителей – только время от времени тешил себя иллюзиями. Том и Дорин умерли – папка от сердечного приступа, мамка от рака кишечника, и ей было очень больно. И больше он никогда их не увидит.
К этому моменту Мик достиг подошвы пандуса, и амбре крематория витало уже повсюду. Он пытался оказать хотя бы жалкое сопротивление рухнувшему на него неопровержимому осознанию, пытался призвать на помощь всяческие аргументы, которые у него как будто когда-то были против этой черной безнадеги. Любовь. Любовь к Кэти и детям. Вот его верная защитная мантра, Мик был в этом уверен, – да только любовь лишь обостряла мучения, из-за нее ты терял намного больше. Один партнер умирает первым, а второй проводит остаток лет в одиночестве и скорби. Любишь детей, смотришь, как они растут и расцветают чудесным образом, а потом покидаешь их и больше никогда не видишь вновь. И все так быстро – всего лет за семьдесят, причем ему уже пятьдесят. Осталось всего двадцать – и это если повезет, – меньше половины того, что уже утекло безвозвратно, и Мик с уверенностью почувствовал, что последние десятилетия пролетят мимо в мгновение угрюмо насупившегося ока.
Все уходит. Все исчезает. Люди, места превращаются лишь в болезненные тени былых себя, а потом их усыпляют, как усыпляют и сами Боро. Все равно это всегда был бестолковый район – взять хотя бы название. Боро. Место одно, а название во множественном числе – много. Что еще за чепуха? Никто даже не знал, откуда название взялось: кто-то предполагал, что правильно писать не Boroughs, а Burrows – не «Боро», а «норы», – из-за того, что с высоты улицы похожи на лабиринт, а их обитатели размножались как кролики. Ну бред же сивой кобылы. У людей вроде его бабушек с дедушками было по шесть или семь детей только для того, чтобы хоть кто-то дожил до совершеннолетия. Всегда плохой знак, когда обеспеченные люди проводят сравнения между неказистым населением гетто и каким-нибудь животным – а особенно тем видом, который нам нехотя приходится периодически травить. Вот почему бы им не держать свои никчемные догадки при себе?
Мик осознал, что уже не думает о смерти, в тот же самый миг, когда добрался до вершины пандуса и ступил на Замковую улицу. Он остановился, как громом пораженный внезапной переменой со скоростью «вкл/выкл», и оглянулся на Банную улицу за залитой солнцем тропинкой между двумя половинами многоквартирника, по которой только что прошел. Лужайки казались зелеными и дружелюбными, саженцы шелестели и шептали на убаюкивающем ветерке. Мик оторопело воззрился на них.
Твою налево.
Театрально поморгав, словно чтобы прогнать сон, Мик отвернулся от многоквартирника и направился по Замковой улице к основанию Замкового Холма – прямоугольному кургану, сильно стесанному со времен молодости Мика, где когда-то мужчина и женщина пытались затащить его семилетнюю сестру в черную машину, отпустив, только когда она закричала. Он надеялся, что картины оправдают надежды, которые Альма на них возлагала, ведь то, что с ним сейчас произошло, – только демонстрация силы, грозившей пожрать все, что им было дорого, а кроме сестры и ее сомнительной контрстратегии, Мик не видел никого, кто знал, что делать, или хотя бы понимал, что надо как-то с этим бороться.
Выходя из-за Замкового Холма на улицу Фитцрой, он увидел, что маленькая выставка уже в самом разгаре. Сестра в просторном бирюзовом свитере из ангорской шерсти прислонилась к деревянному косяку открытой двери яслей, с нетерпением выглядывая, появится он или нет, и когда наконец его увидела, просияла и замахала руками, словно пастельная кукла из детской телепередачи. С Альмой стояла седая карикатура на человека, в которой Мик признал Романа Томпсона, а подле него праздношатался тридцатилетний парень вальяжно-развратного вида с кошачьими повадками, в кремовом жилете и с открытой пивной банкой – очевидно, бойфренд Романа, Дин. На ступенях у ног Альмы восседал Бенедикт Перрит, странствующий поэт с хмельной ухмылкой и трагическим взглядом, когда-то учившийся с ней в одном классе на два года старше Мика. Были там и другие знакомые лица. Он решил, что черный мужчина приятной наружности с седеющими волосами – наверняка старый друг Альмы Дэйв Дэниэлс, с которым она разделяла многолетнее увлечение научной фантастикой, а также заметил бывшего подельника сестры из 1960-х, загорелого и поджарого Берта Рейгана, стоящего вместе с пожилой, но крепкой на вид женщиной – ее Мик принял за мать Берта или, возможно, тетю. Были там еще две женщины примерно тех же лет, болтались на краю компании, хотя они казались сущими старыми горгульями – скорее всего, подруги старушки, которую привел Берт Рейган. Подходя к входу, Мик поднял руку и улыбнулся, отвечая на приветствие Альмы. «Ох, сестричка, – подумал он. – Ох, Уорри. Ты уж постарайся.»
Книга первая
Боро
Он (Людвиг Витгенштейн) однажды встретил меня вопросом: «Почему люди говорят, что естественно предположить, будто Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вращается вокруг своей оси?» Я отвечала: «Наверное, потому, что зрительно кажется, будто Солнце вращается вокруг Земли». «Ну, – спросил он, – а как должно зрительно казаться, что Земля вращается вокруг своей оси?»
Элизабет Энском. Введение к «Трактату» Витгенштейна

Сонм англов
Было утро 7 октября 1865 года. Из узкого чердачного оконца дождь и сопровождающий его свет казались грязными, когда Эрн Верналл в последний раз проснулся в здравом уме.
Внизу завывал младший ребенок, и было слышно, что уже встала и кричала на двухлетнего Джона жена Верналла, Энн. Простыни и подушка, перешедшие по наследству от покойных родителей Энн, превратились в вонючий узел там, где запуталась в дырке нога Эрнеста. От постели несло по ́том, скупостью, газами, им самим и его жизнью в лачугах Ламбета, и зловоние поднималось обреченной и мрачной мелодией, пока он вычищал слизь из разлепившихся глаз и вылезал из кровати, готовый понести бремя мира.
Поморщившись от укола под левой грудью – он надеялся, всего лишь от изжоги, – Эрн, избавив ногу от рваных простынь, сел, уперся босыми ступнями в домотканый половик у койки. Лишь миг Эрн упивался мягкими комками вязальной шерсти между пальцев, затем поднялся под протестующий стон кроватной рамы. Осоловело обернулся к беспорядку из угольно-черного армейского одеяла и соскользнувшего на пол стеганого покрывала, под которым храпел только что, затем встал на колени на лоскутную прикроватную подстилку, словно для творения молитвы, как когда-то в семилетнем возрасте четверть века назад.
Он запустил обе руки во тьму под кроватью и осторожно вытянул по голым половицам плещущий ночной горшок, установив перед собой, словно шляпу попрошайки. Нащупал своего старичка в колючей прорези серых фланелевых кальсон, слепо уставившись на озерцо цвета сиены и кровавого апельсина, что уже томилось в потрескавшейся фарфоровой вазе, и задумался, не снилось ли ему чего-нибудь. Выпустив прямую и твердую, как стрела, струю мочи в наполовину полную емкость, припомнил, будто был во сне актером, сккрывался за кулисами какой-то то ли мелодрамы, то ли сказки о привидениях. Драма, прояснялось понемногу, была о проклятой часовне, и он играл плута, которому пришлось прятаться за таким портретом с вырезанными глазами, – они часто встречаются в подобном жанре. Только Эрн не подглядывал, а говорил из-за полотна напускным устрашающим тоном, дабы напугать человека по ту сторону, столкнувшегося с волшебной картиной. Малый, над которым он подшучивал, казался столь потрясенным, что Эрн даже хихикнул во время мочеиспускания, все еще коленопреклоненный у кровати.
Чем больше он вдумывался, тем сильнее сомневался, что снилось ему театральное выступление, а не подлинный розыгрыш обычного человека. По-прежнему казалось, что он таился за декорациями пантомимы и произносил реплики, как актер, но не похоже было, чтобы жертва хохмы тоже служила в какой-нибудь труппе. Беловолосый пенсионер, хотя и с моложавым лицом, стоял перед зачарованной мазней с таким неподдельно несчастным видом, что Эрн пожалел бедолагу и прошептал в сторону, что сочувствует, что знает – тому придется очень тяжело. Затем Эрн вернулся к словам спектакля – их он, по всей видимости, тогда знал назубок: леденящие кровь речи, которые Верналл сам толком не понимал и сейчас не мог вызвать в памяти, не считая отрывка как будто бы о молнии и другого момента – про числа и каменщиков. Тут он либо проснулся, либо теперь концовка уж выветрилась из головы. Сны Эрн ни во что не ставил, в отличие от некоторых – например, его отца Джона, – просто нередко они оказывались увлекательными развлечениями, притом дармовыми, а такие поди сыщи.
Стряхнув с конца последние капли, он с удивлением взглянул на вьющиеся над крынкой клубы пара, задним умом замечая, как зябко в октябрьской мансарде.
Задвинув согретый сосуд под кроватные доски, он поднялся на ноги и со скрипом двинулся по чердаку к фамильному умывальнику у стены напротив окна. Согнувшись, чтобы приспособиться к резкому уклону скатов по краям крыши, Эрн налил холодной воды из маминого кувшина с нарисованной молочницей в эмалевый таз с ржавыми кромками, плеснул пригоршню себе на лицо, зафыркав, как конь, от ее злого укуса. От умывания бачки из сухой рыжей щетины стали свежеполитыми кудрями-завитками, капелью под торчащими ушами. Он вытер лицо насухо льняным полотенцем, затем всмотрелся в слабое отражение, выглядывавшее из мелкой лужицы на дне тазика. Угловатый, сухощавый, с выбившимися перечными прядями на челе, на котором он видел в приблизительных эскизах будущие печальные морщины и борозды – так он будет выглядеть однажды, тощим котярой после бури.
Эрн оделся – от холода поношенное платье не на шутку промозгло, – а затем слез с чердака в нижние пределы материнского дома, сползая задом наперед по узким ступенькам – таким крутым, что для спуска или подъема неизбежно приходилось хвататься руками, как на приставной лестнице или скалистом утесе. Он попытался прокрасться по площадке мимо двери в мамину комнату и спуститься, прежде чем она заслышит, но тут удача его покинула. Словно трусящего, трясущегося за занавеской жильца во время визита хозяина, его удачи никогда не было на месте.
– Эрнест?
Голос мамы, словно проржавевший грандиозный механизм, обратил Эрна в истукана с рукой, застывшей на шарике балясины. Он обернулся и увидел мать в открытой двери, ведшей в ее спальню, где стояли запахи дерьма и розовой воды, что казались еще противнее, чем запах дерьма сам по себе. Все еще в сорочке, с заколотыми редеющими волосами, мама сгорбилась у тумбочки, опустошая собственный горшок в цинковое ведро, с которым потом обойдет комнаты малышей и его с Энни, опустошит и их горшки и отправит весь улов в выгребную яму в конце двора. Эрнест Джон Верналл был тридцатидвухлетним жилистым мужиком со вспыльчивым норовом, с которым не захочется ввязаться в драку, женатый и с детьми, с работой, где его молча уважали, но под презрительным, разочарованным взглядом матери он шаркал башмаками по лакированному плинтусу, словно нашкодивший мальчишка.
– Ты седни работаешь? А то ежли нет, мне надобно в ломбард. Малышка сама себя не покормит, а Энн твоя есть доска доской. Не может их кормить, ни Турсу, ни твово Джона.
Эрн кивнул и опустил взгляд на протертый ковер цвета липучки для мух, накрывающий лестничную клетку от ступенек до входа на чердак.
– Работаю всю неделю в Святом Павле, но заплотят тока в пятницу. Коли чего заложила, я потом выкуплю честь по чести, с жалованья.
Она отвернулась и пренебрежительно покачала головой, затем продолжила шумно наполнять ведро зловонной золотой жидкостью. Поджав хвост и ссутулившись, Эрн затрусил по лестнице в облезающую умбру коридора, затем налево в спертую тесноту гостиной, где Энни разожгла огонь в печи. Присев у детского стульчика и пытаясь накормить девочку согретым коровьим молоком в приспособленной для этого дела бутылке из-под имбирного эля, Энни едва ли подняла голову, когда за ее спиной в комнату вошел муж. Только их мальчишка Джон оторвался от очага, где без толку ковырялся в овсянке, взглянув на отца и даже не улыбнувшись.
– На кухне тебе на завтрак жареный хлеб, но и не знаю, что будет, как вернешься. Ну давай же, капельку молока за мамочку.
Последние слова Энн обратила к их дочери, Турсе, которая, все еще раскрасневшаяся и заплаканная, решительно отворачивалась от растрескавшейся резиновой соски, что жена Эрна пыталась пристроить в округленный от криков ротик малышки. Было немногим позже семи, отчего мрачную каморку еще окутывали тени – где начищенная бронза камина обращала волосы маленького Джона в расплавленный металл, поблескивала на заплаканной щеке младенца и окрашивала худощавое лицо его жены светом, как подливой.
Эрн спустился по двум ступеням в узкую кухоньку, где теснились призраками в рассветном сумраке неровные беленые стены, а в голубоватом воздухе – туманном, словно бы мыльном, – все еще висело воспоминание о луке и кипяченых платках. Шумела дровяная плита, с двумя горбушками на спине. В черной, как упавший из звезд метеор, сковороде шипел прозрачный жир, плюясь на пальцы Эрни, осторожно подцепившего куски хлеба вилкой. В соседней комнате малышка, нарыдавшись вдоволь, взамен принялась укоряюще икать с сердитыми паузами. Отыскав блюдце с кракелюрами, которое лишилось парной чашечки и было повышено до должности полноценной тарелки, он взгромоздился на стул подле расцарапанного ножами стола и позавтракал, жуя правой половиной рта, чтобы пощадить больные зубы слева. Когда он вгрызался в хлеб, из ноздреватых пор хрупкой корочки вырывался вкус подпаленного сала, горячо и смачно прокатываясь по языку и пробуждая фантомные оттенки блюд прошлой недели: капустный привкус бабл-энд-сквик, легкую сладость свиной щечки, хрустящую эпитафию памятной свиной сосиски со вторника. На последней крошке Эрн с удовольствием отметил, что его слюна загустела, как солоноватый студень, в котором воскрешенная суть каждого блюда праздновала свое кулинарное посмертие.
Возвращаясь через уже затихшую гостиную, он попрощался со всеми и предупредил Энн, что будет к восьми. Знал, что некоторые перед работой целуют жен на прощание, но вместе с подавляющим большинством почитал это за телячьи нежности, как и его Энн. Брезгливо соскребая последние ложки каши из плошки, двухлетний Джон, их маленький рыжик, привычно наблюдал за тем, как Эрн вынырнул из озаренной огнем комнаты в темный коридор, где, как обычно, снимет шляпу и куртку с деревянных крючков и отбудет по делам в центр города, о котором Джон только смутно слышал, но пока не видывал лично. Послышался голос Эрни, криком прощавшегося со своей мамой, все еще занятой обходом ночных горшков, затем повисла выжидательная пауза, так и незаполненная ответом матери. Вскоре после этого Энн и дети услышали, как затворилась передняя дверь – упрямый скрип, с которым ее втискивали в перекосившийся косяк, – и то был последний раз, когда семья могла с чистой душой сказать, что видела Рыжего Верналла.
Эрн отправился по Ламбету на север; небо, похожее на мрачный лесной полог, колыхалось на миллионе деготно-черных столбов дыма, растущих из каждого дымохода, а разбавлялась эта прокопченная чернота только с восточного края, над кабаками Уолворта. Выйдя из материнского дома на Ист-стрит, Верналл свернул направо в конце террасы на Ламбет-уок, затем на Ламбетскую дорогу и отправился к площади Святого Георгия. Слева миновал Геркулес-роуд, где вроде бы когда-то проживал поэт Блейк: судя по всему, тип забавный, хотя, разумеется, Эрн ни разу не читал ни его сочинений, ни кого-либо другого, до сих пор не понимая, что же такого интересного все находят в книгах. Рокотал дождь в выгнутых стоках у необычно притихшего Бедлама, где всего год назад обитал сказочный художник Дадд и куда, как опасалась семья Верналлов, пришлось бы сослать отца Эрна, хотя старик Джон умер, прежде чем до этого дошло дело. Случилось это где-то лет десять назад, когда Эрн еще не познакомился с Энн и только-только вернулся из Крыма. Папа постепенно перестал разговаривать с людьми, заявляя, что их разговоры слышат «те, что на крышах». Эрн раз полюбопытствовал, не о голубях ли ведет речь папа или же он все еще ищет русских шпионов, на что Джон только фыркнул и поинтересовался в ответ, для чего еще нужны слуховые окна, ежели не слушать, и для чего еще нужны подзоры, ежели не подглядывать, после чего отказывался отвечать на любые расспросы.
Эрн прошел мимо залитой дождем лечебницы на противоположной стороне улицы и рассеянно задумался, не породил ли Бедлам какого-то древнего духа, который расселся, вращая глазами, над Ламбетом и заражает окрестную атмосферу своими испарениями помешательства, сводящими с ума людей, как сошли с ума папа Эрнеста или мистер Блейк, – впрочем, сам он полагал, что это глупость, а для того, чтобы довести человека, довольно и обычной жизни. На дороге Святого Георгия по направлению к Элефант и Касл уже кишели несметные числа омнибусов, тачек, углевозов и торговцев печеной картошкой, волочивших печки, напоминавшие раскаленные толстопузые комоды на колесиках, – море людей в черных шляпах и куртках, таких же, как сам Эрн, шагавших по делам под безжалостными небесами, опустив очи долу. Задрав воротник, он влился в топочущее столпотворение живой растопки для дурдома и направился к площади Святого Георгия, откуда ему предстояла долгая прогулка по Блэкфрайарс-роуд. Он слышал, что нынче из Паддингтона под землей пустили поезда, и представил, насколько быстрее докатил бы на такой штуковине до собора Святого Павла – вот только денег у него не было, а кроме того, от самой мысли по коже бегали мурашки. Залезать под землю – как вообще можно привыкнуть к этакой чертовщине? Сам Эрн слыл верхолазом, готовым, не поведя и бровью, работать на любой вышине, но спускаться под землю – совсем другое дело. Под землю отправляются только мертвецы, да к тому же случись что, например пожар, что тогда? Эрнест выкинул из головы такие мысли и решил оставаться тем, кто он есть, – прирожденным пешеходом.
Народ и транспорт бултыхались на слиянии полудюжины улиц, как пена у стока. Пройдя круглую площадь по часовой стрелке, увернувшись от грохочущих колес и распаренных лошадей при пересечении Ватерлоо-роуд, Эрн далеко обошел газетчика и сбившуюся рядом с ним перешептывавшуюся толкучку зевак. По обрывкам разговоров, подхваченных у окраины окутанной трубочным дымом толпы, он понял, что речь о вчерашних новостях из Америки, где дали свободу черным и застрелили премьер-министра, прямо как беднягу Спенсера Персиваля в те времена, когда папа Эрна и сам был мальчишкой. Насколько помнилось Эрну, Персиваль был родом из Нортгемптона, захолустного городишки сапожников, расположеннго в шестидесяти милях к северу от Лондона, где до сих пор проживали родные Эрна со стороны отца – двоюродные, троюродные и прочая седьмая вода на киселе. Прошлым июнем проездом в Кент, на сбор хмеля, в Лондоне останавливался его кузен Роберт Верналл, и он рассказывал Эрнесту, что сапожники Мидлендса – а в их числе и он – остались без хлеба, когда серые из Америки, для которых Нортгемптон тачал армейские сапоги, проиграли свою Гражданскую войну. Эрнест понимал, почему Бобу обидно, но, как он уразумел, как раз серые и держали рабов, негров, а Эрн подобного не одобрял. Неправильно это. Они такие же бедняки, как любые другие. Он перешел пустырный клинышек на углу улицы, где не умещались дома, затем свернул налево и начал подъем на север по Блэкфрайарс-роуд, пересекая дымящиеся ряды Саутуарка на пути к реке и мосту.
Через три четверти часа на приличной скорости Эрн выбрался к Ладгейт-стрит на другом берегу Темзы, выйдя на дорогу к западному фасаду собора. За это время его посетило немало дум: о свободных рабах в Америке, многих из которых хозяева клеймили, будто скот, о черных и бедных в общем. Социалист Маркс и его Первый Интернационал уже просуществовали больше года, но насколько видел Эрн, лучше рабочим не стало. Быть может, теперь будет полегче, раз умирает Палмерстон, ведь именно лорд Палмерстон противился реформам, но, если честно, сильно Эрн не обнадеживался. Потом какое-то время он тешил себя воспоминаниями о том, как Энн далась ему на кухонном столе, пока не было мамы: уселась на краю, задрав панталоны и обхватив его ногами, – от этих мыслей у него аж натянулись брюки и фланелевые подштанники, пока он торопился под проливным дождем по мосту Блэкфрайарс. Думал он и о Крыме, и как ему повезло вернуться домой без единой царапины, а потом о матери Сикол [16]16
Мэри Джейн Сикол (1805–1881) – ямайская медсестра, добровольно отправившаяся в Крым во время войны на свои деньги. Автор одной из самых ранних автобиографий женщины смешанного происхождения.
[Закрыть], о которой столько слышал на войне, и снова вернулся мыслями к черным.
Больше всего Эрна заботили дети, которые родились рабами на плантации, а не были завезены во взрослом возрасте, и которых теперь отпустили, – несмышленые ребята десяти и двенадцати лет, не знавшие другой жизни и куда им податься дальше. Интересно, задумался Эрн, клеймят ли детей? И в каком возрасте? Пожалев, что углубился в такие мысли, и выбросив из головы незваную жуткую картину юных Джона или Турсы под каленым железом, он поднялся по Ладгейт-стрит, за пологим пригорком которой раздувался великолепный псалом в камне – собор Святого Павла.
Сколько раз Эрн его видел, столько поражался, как же такое совершенное благолепие могло родиться в скопище грязных дворов, трактиров и узких проходов, среди проституток и порнографов. Над посеребренной лужицами мостовой, словно руки в осанне, возносились две башни к забродившим небесам – которые только помрачнели с тех пор, как Эрн вышел на работу, несмотря на то, что наступал день. Двумя пролетами – напоминая два бивня, торчащих из-под полы подризника, – широкие ступени собора с танцующими на них каплями дождя поднимались к краю, где ниспадали колыхающимися складками, чумазыми из-за чада городского кострища, шесть пар белых дорических колонн, державших портик. Шпили больше пятидесяти метров в высоту по обе стороны широкого фасада как будто собрали на карнизах под капающими каменными козырьками всех лондонских голубей, оберегая их от непогоды.
Среди птиц ютились, словно сами слетели с неприветливых небес на жердочки собора, каменные апостолы, а святой Павел взмостился на высокий конек портика и подобрал свою резную рясу, дабы не запачкать в грязи и сырости. На правом конце самой южной башни стоял апостол – Эрн не знал его имени, – закинувший голову и как будто сосредоточенно наблюдающий за башенными часами в ожидании окончания своего дозора, чтобы слететь через морось домой на Чипсайд, в сторону Олдгейта и Ист-Энда. Взбираясь по мокрым и скользким ступеням, пока по полям шляпы с новой силой забарабанил дождь, Эрнест не мог не усмехнуться кощунственной мысли, будто статуи время от времени производят жидкий мраморный помет – святые испражнения, за уборку которых платят бурчащим приходским работникам. Бросив последний взор на кипящие облака с мятыми боками над головой, прежде чем проскользнуть между левыми колоннами к северному приделу, он прикинул, что дождь и не подумает униматься и что сегодня времяпрепровождение в четырех стенах вне всяких сомнений пойдет только на пользу. Потопав башмаками и встряхнув промокшую куртку, Верналл переступил порог собора и тут расслышал первый приглушенный раскат грома, доносящегося с горизонта, что только подтвердило подозрения.
В сравнении с хлещущим снаружи октябрьским ливнем в соборе было тепло, и Эрна даже укололо чувство вины при мысли об Энн и детях, оставшихся дрожать у бессильного огонька дома на Ист-стрит. Эрнест направился к стройке и активной деятельности в дальнем конце северного придела под подозрительными взглядами хмурых священнослужителей и только в последнюю минуту сообразил сдернуть вымокшую шляпу, чтобы почтительно понести ее в обеих руках перед собой. С каждым звенящим шагом чувствуя, какие шири и скрытые пространства ошеломительного сооружения разворачивались над ним и со всех сторон, он свернул от полукруглых ниш северного придела слева и вышел между высокими несущими колоннами в неф.
Меж давящими опорами собора, в центральном трансепте под куполом мельтешили такие же работники, как и Эрн, в протертых куртках и штанах тусклой осенней палитры пыльно-серых и бурых цветов, убогие на фоне богатого убранства, величественности монументов и статуй. Некоторых ребят Эрн знал издавна – так ему и досталась эта завидная работа по чистке и реставрации, когда они замолвили за него словечко. Одни скоблили мягкими тряпками покрытые обильной резьбой хоры в конце капеллы, украшенные виноградными лозами и розами, а другие – у антревольтов между сводами, под огороженным перилами ободом Шепчущей галереи – намывали и приводили в достойный вид мозаичных пророков и четырех авторов Евангелия. Но основная деятельность, как казалось Эрну, была сосредоточена вокруг механизма, свисающего в тридцатиметровом пространстве под зияющим куполом. Кажется, ничего изобретательней Эрн в жизни не видел.
С вершины купола, со дна маковки – по предположению Эрна, самой крепкой точки грандиозного здания, у ней самой масса исчислялась десятками тысяч тонн, – отвесно свисало веретено не меньше двадцати этажей в высоту: с одной его стороны было такое же высокое сооружение из шестов и досок, а с другой – наверное, самый большой мешок с песком в Лондоне, болтавшийся на гигантской поперечной балке для противовеса. Мешок находился на канате слева от Эрна, а справа им поддерживались на веревках тяжелые леса в форме высоченной дольки пирога, острым концом направленной к центру, где она накрепко соединялась с вертикальной центральной осью. Впечатляющая этажерка представляла собой приблизительно четверть окружности, которую можно было поднимать и опускать лебедками по ее углам, чтобы добраться до нужной поверхности на любом уровне зала. Почти ровно над декоративным солнечным компасом в середине трансепта висела мачта центрального стержня, а на ее нижнем конце находилось нечто наподобие лежавшего на боку маленького мельничного колеса, при помощи которого вручную вращалось все скрипучее сооружение, чтобы занять любую четверть средокрестия. Если все пойдет, как задумано, остаток рабочего дня Эрн проведет на подъемной платформе в гуще этих балок и распорок.
Из окон Шепчущей галереи на пол собора внизу падал толстый жемчужный цилиндр дневного света, окрашенного ухудшающейся грозой, в его зыбком столбе взвесью кружилась поднятая бурной деятельностью пыль. Мягкое сочащееся сверху освещение красило теплом карандашей Конте работников, усердно погруженных в свои разнообразные обязанности. Эрн замер, почти завороженный, упиваясь живописным эффектом, когда справа от него с лестницы на трифорий в южном приделе широкими шагами вышел знакомый толстяк и окликнул Эрна по имени.
– Эгей, Рыжий. Рыжий Верналл. Сюда, бестолочь.
То был Билли Маббут, которого Эрн знал по множеству пабов в Кеннингтоне и Ламбете и который по-приятельски предоставил ему эту возможность подзаработать на хлеб с маслом. Эрну было радостно видеть румяного, будто бы пропеченного Билла Маббута с приспущенным занавесом редких песочных волос, убранных за уши, лысой вишневой макушкой, с натянутыми подтяжками на рубашке с пуговицами до воротника, с лихо закатанными рукавами, обнажающими мясистые предплечья. Энергично работая ими, словно поршнями локомотива, он покатился к Эрну, петляя между другими работниками, снующими по разным поручениям в шуршащей, гулкой акустике. Улыбаясь от радости – она всегда охватывала его при встрече с Билли, – смешанной с облегчением, что жизненно необходимая подработка не оказалась пшиком, Эрнест двинулся в сторону старого знакомца и издали приветствовал его. Эрна всегда удивлял высокий перелив голоса Билла – и это от рожи, напоминающей вареный бекон, изборожденной морщинами после шестидесяти лет жизни и двух кампаний – в Бирме и Крыму, где они как раз и повстречались. Квартирмейстер Билл, будучи старшим товарищем, держал при себе Эрни этаким рыжеволосым оберегом – тот как будто отводил любые напасти, включая пули и снаряды.









































