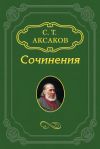Текст книги "Игра света (сборник)"

Автор книги: Альберт Карышев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Женщины сидели за чаем. Вера с Анютой отхлёбывали из чашек и ели Алевтинины пироги, а хозяйка избы, сгорбившись и зажав свою чашку в ладонях, отрешённо глядела в неё.
Я ввалился в кухню прямо с косой, взяв её в руку.
– Ты куда запропастился? – сказала жена, вероятно, не сразу догадываясь, почему у меня в руке коса.
– Да вот… Это вам, Алевтина Степановна.
– Мне? – спросила она, оставляя чашку на столе и выпрямляясь.
– Ага. Косу я принёс для вас. Вместо той, что сломалась. – Я видел, что Алевтина не совсем меня понимает, но силится понять. – Сено я не заготавливаю и вообще не умею косить. Зачем мне коса? Теперь она – ваша. Работайте на здоровье. А если потребуется, возьму её у вас ненадолго.
Она встала из-за стола и взяла косу за древко обеими руками, потом взяла в одну руку, поднесла к глазам лезвие и осторожно провела по нему ладонью.
– Какая хорошая! Лезвие какое прочное и незаржавелое! А рукоятка гладкая, удобная!..
– Вот и владейте, – сказал я, с удовольствием глядя, как у неё блестят глаза и окрашиваются румянцем поблеклые щёки.
– Ещё отбить малость да подточить, и совсем будет справная! – бормотала Алевтина Степановна, уже примеряя косу к своим рукам, прикидывая со страстью знатока достоинства рабочего инструмента.
– Вот и ладно, – подбадривал я старушку (называю Алевтину старушкой всё же с трудом). А мои жена и внучка, я видел, радовались за неё и за меня.
– Где же вы взяли её, милый?
– Где взял, там уже нет. От прежнего хозяина осталась, вечная ему память. Берите без лишних разговоров…
На другое утро она ушла в пойму. Паша сердито мне сказал, когда я спешил за водой, что тёща снарядилась косить, и я, занеся домой полные вёдра, отправился за Алевтиной и из-за приречных кустов полюбовался на неё, орудующую подаренной косой. Как опять она широко и красиво размахивалась! С каким напором двигалась вперёд, вырезая в траве волнистые узоры, оставляя позади себя лёгкие зелёные валки, пестрящие луговыми цветочками! Но мне становилось не по себе. Воодушевление престарелой работницы, мощный прилив её сил – всё напоминало последнюю вспышку солнечного заката, внезапное возгорание пламени в угасающем костре. Всё же и дышала она тяжело, и хромала сильнее прежнего, и, что ни говори, была стара для такой тяжёлой работы. Я вышел из-за кустов и встал у неё на виду. Алевтина моему появлению почему-то не удивилась. Не переставая косить, она засмеялась и прокричала с одышкой:
– Ух, хорошо идёт по росе! Спасибо вам! Вот спасибо!.. Лошадь пашет, значит, а мухи кусают? И паши, стало быть, и хвостом маши? Ну, ничего! Глядишь, как начнём все не хвостом, а косой махать, так и мух окаянных разгоним, и комаров, и оводов!
– Передохнули бы!
– Некогда! – крикнула Алевтина, опять засмеялась и пошла косить дальше.
А я пошёл домой.
Несколько дней я думал о возгорании пламени в угасающем костре и о последней вспышке заката, в воображении упорно видевшейся мне над оцепенелым тёмным лесом, почему-то всегда еловым, с зубчатым горизонтом. И ещё моё настроение омрачалось тем, что зять Алевтины, как я себе внушал, в последнее время поглядывал косо, здоровался сухо. У Паши хватало, конечно, собственных дел, от которых ложится тяжесть на сердце, нахмуривается лоб, темнеет взгляд и в голосе звучит резкость, но мне казалось, он сердится за то, что я подарил его тёще косу. Своей вины я не чувствовал, знал, что утешил человека, а это главное. Однако в любом случае Паша не мог быть доволен тем, что Алевтина Степановна опять ударилась в работу.
* * *
А следующим летом на восьмидесятом году жизни она умерла.
Мы с женой и внучкой по приглашению гостили в Москве. Без нас Алевтину погребли на сельском кладбище, «девять дней» без нас прошло, и когда мы приехали в деревню, у родственников покойной уже притупилось горе и спало напряжение похорон. Очень мы жалели о том, что не смогли проводить Алевтину Степановну в последний путь, сильно печалились по ней, как по близкому другу.
Побывали мы на её следующих православных поминках, на «сорока днях». Люди за траурным столом сошлись знакомые нам и незнакомые. Выпили в память Алевтины, хорошо отозвались о простоте, душевности, честности, трудолюбии, светлом разуме покойной, а захмелев, разделились по интересам и заговорили о делах житейских. В полном составе сидели тут дочь Алевтины Степановны, зять, два внука и названая внучка – молодая жена Володи; и глядя на Пашу и его домочадцев, я думал о том, какие они славные, привлекательные личности, какое крепкое и способное оставила Алевтина потомство, перенявшее от старушки много доброго и полезного.
– Как же это случилось? – спросил я хозяина.
– Пошла в лес и не вернулась, – ответил Паша. – Мы с Володькой сели на мотоцикл и поехали по её обычным маршрутам. Знаем ведь все дороги в лесу, не раз по ним хаживали и тёщу мою возили…
Вкратце Паша рассказал, что они со старшим сыном нашли Алевтину Степановну далеко от дома. Она крепко спала на земле, с краю соснового бора, а во сне тяжело дышала и постанывала. Отвезли в деревню, сгоняли за врачом, он велел везти в город, в больницу, но тёща, как пришла в себя, отказалась, этого следовало от неё ожидать. Врач сделал укол, выписал лекарства, но сказал, что без больницы всё равно не обойтись. Тёща попросила священника. Старики говорят, давно уж тут никто священника не звал. Отец и сын поездили, отыскали и привезли батюшку. Алевтина Степановна причастилась, а вскоре и умерла…
Более подробно о смерти тёщи Паша завёл речь после поминок, когда я однажды проведал его. Перед тем как уйти и не вернуться, старая женщина о чём-то думала, вздыхала и грустно отмалчивалась, когда близкие советовали ей выкинуть чёрные мысли из головы и опять звали старушку перебраться жить к ним. Ещё кое-какие важные подробности сообщил мне Паша. По рассказам его и некоторых жителей деревни, знавших Алевтинин характер, её склонности и повадки, и по моим собственным впечатлениям от долгого знакомства с ней я вообразил теперь как бы монументальную личность и захотел её описать…
Стараюсь представить уход старой крестьянки, последнюю прогулку Алевтины Степановны в лес. Теперь я ведь тоже знаю её любимые дороги и тропинки, рощи, боры, грибные поляны и опушки, а трагедию домысливаю, дорисовываю, как могу.
В тот роковой день Алевтина не чувствовала поразительной бодрости, что послана была ей свыше на короткий срок, вероятно, для достойного прощания с жизнью. Она уже давно, сказал Паша, жила в упадке сил и в растерянности. Прошлое лето ещё держалась со скрипом, а нынче и не косила вовсе, лишь с тоской глядела на косу, подвешенную в сенях на видном месте. Её бывшая напарница коса по-прежнему излучала отменное здоровье и молодцеватой выправкой показывала, что готова к решительным действиям, да вот напарница крестьянка подводит. Сворачивала Алевтина и другие привычные работы, смиряясь с тем, что больше не способна их выполнять. Но не ходить в лес по грибы неуёмная лесовичка не могла.
С трудом взошла она на косогор и добралась до ближайшего леса, где мы с ней однажды встретились. Было за полдень, солнечно, жарко. Сердце старой женщины еле выдержало нагрузку восхождения, лёгкие её хрипели, голова трещала от напора крови, перед глазами плыли чёрные разводы. Нога ещё болела, не давала покоя – вот беда. «Дёргало» ногу, рывками вытягивало жилы. Постояла Алевтина Степановна, опершись на подобранную т у т суковатую палку, присела на пень, успокоила сердцебиение и дыхание, а в награду за решимость пойти в лес вдруг почувствовала себя не так уж плохо, лучше, чем ожидала. И боль в ноге как будто приутихла, и твёрже становилась нога на землю. С этим призраком лесного оздоровления и родилась у Алевтины мысль зайти с корзинкой подальше, не мысль даже, а предощущение того, что у неё хватит сил это сделать.
Теперь хорошие грибы встречались поблизости совсем редко. Это был смешанный лес, но в нём больше росло хвойных деревьев, а лиственные терялись, ютились под ними и, придавленные мощью и величием хвойных, утрачивали стройность, ветвились как попало, вырастали корявыми. Лес, конечно, сохранял живописный вид и запахи смолы, прелых листьев, грибов, но скорее годился для пустых прогулок. Он нравился тучным дачникам. Дачники ходили по нему в чистых спортивных костюмах, ботинках и тапочках, а грибы они складывали в пластиковые пакеты. Побродив тут, поскучав без грибов, позлившись на «культурный» мусор, пластиковый, железный, стеклянный, бумажный, с годами всё чаще попадавшийся ей на глаза, Алевтина Степановна собралась было возвращаться, но неодолимое желание дальнего похода задержало её. «Попробую, – сказала она себе. – В случае чего поверну назад», – и, опираясь на палку, заковыляла по дороге. Притерпевшись к боли в ноге, приспособившись к своей шаткой походке, она увидела, что не спеша может пройти ещё и ещё, и обрадовалась.
Пересекла асфальтовое шоссе и узкоколейную железную дорогу. Вот и заповедная лесная тропа, её тропа. И снова – подъём в гору, показавшийся Алевтине более крутым, чем прежде. Малохоженая тропа едва проглядывала в зарослях люпина, украшенного синими султанами соцветий, а лес по сторонам тропы загустел, подичал, превратился в дебри. Путница запарилась, сняла жакет, бросила в корзину, и разом корзина потяжелела, оттянула ей плечо. Когда старушка почувствовала слабость и головокружение, когда ей не стало хватать воздуха, когда неведомой силой шатнулась она в сторону и едва не упала, то решила больше не подниматься, а поискать грибы тут, по обочинам тропы, но, отдышавшись и перемогши дурноту, она снова поверила в себя и продолжила путь. Свет впереди её и над головой заслонялся соединившимися ветками, молчали птицы, не слышался и ветер, замерший где-то вдали; но Алевтина помнила очень хорошо: ещё немного упорства, терпения, и долгий изнурительный подъём кончится, и золотом блеснёт сосновый бор, хлынет в глаза солнечный свет, забарабанит в сосну дятел, лёгкие ощутят приток свежего воздуха, разгорячённое лицо обдует прохладный ветерок. А за сосновым бором покажется поле, теперь уж и не поле – участок, поросший сосенками да берёзками, мелятник, как местные жители издавна называют участки древесного молодняка. Мелятник с трёх сторон окружён берёзовым лесом, с одной – бором. Вот тут и родятся лучшие грибы – по опушке берёзового леса, в виду соснового бора. Стоило рискнуть, чтобы ещё раз увидеть любимые места, подержать, посмотреть и понюхать белые грибы. Стоило перед смертью хорошенько почувствовать и оценить жизнь. «Главное – дотянуть до бора. А там – рукой подать до березняка. Вниз же идти – не вверх, – подумала старушка и пошутила сама с собой: – С горы можно и скатиться».
Тот грозный сигнал, сломивший Алевтину, сердце подало ей у самого бора. Неожиданно сердце так страшно болезненно содрогнулось, точно порвалось, лопнуло от натуги. Она упала на колено и скрючилась. В голову ей тоже ударила острая боль, затуманивающая, переворачивающая сознание, глаза застлала клубящаяся муть, и тут же сосны, только что ласково встретившие давнюю знакомую сиянием стволов и тихим шелестом вершин, двинулись на неё, сгрудились, склонились и сердито загудели на разные голоса:
«У-у-у! У-у-у!..» Корзина упала с её плеча. Одной рукой упираясь в землю, а второй держась за сердце, Алевтина пробовала встать с колена, но не было у неё мочи, пыталась продохнуть поглубже, но из-за боли в груди едва могла дышать. Её качало из стороны в сторону и клонило к земле. Увидев, что может рухнуть, она легла боком на дорогу, огибавшую бор, закрыла глаза и, опередив провал сознания, успела подумать: «Полежу, отойду и вернусь домой». Сосны гудели над ней, а иные фыркали и, перебивая одна другую, говорили: «Вот она! Вот! Вот! Ранила, кромсала, лила нашу кровь! Посмотрите, какие остались шрамы!» «Не она! Не она! – спорили другие. – Разве не узнали? Эта с нами дружит!» Алевтина открыла рот, чтобы крикнуть, но язык не послушался и слова остались в ней: «Неправда! Мы не проливали кровь, а доили вас! Так нужно было по работе! А молоко ваше я собирала в вёдра, потом в бочки! Никто не виноват!» Откуда-то взялся Алевтинин муж, а сосны, словно остерегаясь его, быстро отошли. Нахмурясь и повинно склонив голову, муж произнёс: «Я тебя любил. У тебя была трудная жизнь. Прости». «Жизнь была всякая, – ответила Алевтина. – И хорошая тоже. Я бы ещё пожила». Виделись ей знакомые люди и незнакомые, напоминавшие чем-то знакомых. Мелькали какие-то тени. Менялась обстановка: то цветущий, то заснеженный лес, то деревня, то равнина, то косогоры, то участок соснового леса, где Алевтина подсачивала вековые деревья, то молочная ферма, то покос, то родной дом. Очнувшись, она увидела, что лежит перед бором на просёлочной дороге, сосны стоят на прежнем месте, корзинка валяется в стороне и никого рядом нет, но вдруг ясно услышала сыновний голос: «Мама, я здесь! Я жду тебя! Знаю, что идёшь ко мне!» «Витенька! Витенька! – позвала она. – Милый, дорогой сыночек!» Но воссиянный образ ей не представился. Голос же опять заговорил, планируя над лесом, удаляясь от Алевтины: «Мама! Не спеши! Ещё есть время!..»
С тех пор, как были порушены вокруг колхозы и совхозы, машины по здешним просёлочным дорогам ездили редко – лишь грузовики частных лесозаготовителей да легковушки грибников и ягодников. Но Алевтина подумала, что может попасть под колёса, и кое-как отползла к бору. Опять она впала в болезненное забытьё, прикрыла глаза и крепко уснула. Тут и подобрали её Паша со старшим сыном Володей и бережно перенесли в коляску мотоцикла.
Умирала она в ясном сознании, и когда завершилось таинство причащения и близкие подошли к её постели, Алевтина спросила своего духовника слабым голосом, с грустной улыбкой:
– Батюшка, а грибной лес на том свете есть?
Священник растерялся и ответил с заминкой:
– Ну… да, райские кущи.
– Тогда не страшно, – сказала она.
С тем вскоре и отошла.
Краса ненаглядная
Два порядка изб нагорной улицы разделяет каменистая балка. С этой её стороны дома стоят на плоскогорье, а с другой восходят по крутому склону. Там, по склону, мимо изб пролегает грунтовая дорога; машины по ней только спускаются, сильно тормозя, от асфальтовой ветки шоссе в низинную часть деревни, выезжают же они на шоссе длинным кружным путём. На плоскогорье в самом конце порядка, близко к краю высокого холма стоит избушка Ниязова. Нынче Ниязов, заперев избушку на амбарный замок, шагает узкой тропкой к шоссе, ступая по траве осмотрительно, чтобы поменьше намочить в утренней обильной росе чёрные полуботинки.
Горной дорогой тоже кто-то движется. Люди идут к автобусу. Уклон горы по ту сторону балки делается меньше и возле одного из дворов, обросшего сиреневыми кустами, совсем исчезает. Тропинка с Ниязовым вливается в грунтовую дорогу, и он Степан Гордеевич, художник из Москвы, летом давно обитающий в этих живописных местах Владимирщины, скоро подходит к автобусной остановке.
Тут уже собрались несколько односельчан художника: деревенские люди и, как он, дачники. Одни из них едут по делам в Муром, Владимир или – через Владимир – в Москву (например, Ниязов направляется по делам в столицу), а кто-то отъезжает всего за десяток километров на работу в большой посёлок, расположенный вдоль главного шоссе, по обе его стороны. Ниязов коротко приветствует односельчан. Они коротко ему отвечают. Все ждут маршрутного автобуса, глядя в даль асфальтовой ветки, в перспективе бегущей сквозь лес под гору и взлетающей на другую. Художник смотрит по сторонам. Множество раз он видел и эти холмистые поля, прежде пахотные, но уже двадцать лет зарастающие бурьяном и лесом, и густые леса за полями, и болотце вблизи остановки за придорожной канавой, обросшее осокой, обжитое лягушками, крякающими, как утки, и голубое небо с рассыпанными по нему птичьими перьями, и солнце, разгорающееся над неровной кромкой леса, во все стороны сыпля искры, и синие пирамидальные соцветия люпина в траве по краю поля, и птиц, с младенческими криками проносящихся над головой, и свою деревню, малой частью выстроенную наверху, а большей в низине; но он, живописец, каждый раз знакомые предметы видит иначе, дополняя или видоизменяя их реальные образы художественной фантазией. Например, серая блестящая корка асфальта кажется ему сегодня чудовищной змеиной кожей, расстеленной по дороге, а в прошлый раз виделась она ему штукой люстрина, раскатанной от пункта А до пункта Б.
Вдруг слышится немолодой женский голос, выговаривающий слова с подъёмом, но неторопливо и основательно, как по слогам:
– А вон и Нина идёт!
И все, словно по команде, обращают взоры в ту сторону, откуда идёт Нина, и слышатся разные довольные голоса, женские и, меньше, мужские:
– Да, она!
– Выступает, будто пава!
– Не идёт, а пишет!..
Она показывается из-под горы, направляясь к автобусной остановке из низины деревни. Сперва видна женская голова с пышными волосами цвета сосновой стружки, дальше – вытянутая «балетная» шея, горделиво расправленные плечи; талия не то, чтобы слишком тонкая, но очень заметная рядом с плавно очерченными бёдрами. И вот Нина в полный рост предстаёт перед наблюдателями. Она высока, стройна, одета в длинное облегающее нарядное платье, лиловое с крупными жёлтыми цветами. Поступь этой женщины естественна, величава. Нина подходит к остановке, приветливо говорит «здравствуйте», и для тех, кто на неё смотрит, её краса вблизи пополняется благородно загорелым миловидным лицом и рельефным бюстом, на котором художник Ниязов невольно задерживает взгляд. В лице Нины есть особинка: так называемый «обратный прикус». Особинка оттеняет миловидность лица выражением девичьей непосредственности. Мягкие черты, прелестного очертания губы, подкрашенные перламутровой помадой; длинные ресницы, тёмные брови вразлёт, а глаза умные и ласковые, серые с голубизной… Детскость и зрелая женственность, непорочность и чувственность – эти противоположности натуры вместе отразились в удивительном образе не девушки-красавицы, а женщины лет под сорок. «Необыкновенно хороша! – думает художник. – Таких не бывает!» Нину он тоже знает давно и видит нередко, но всегда восхищается её внешностью. «Нелегко поверить, что она с рождения живёт в деревне, – говорит себе Ниязов. – А ещё труднее понять то, почему она ездит на работу неизменно в царственном обличье, хотя трудится, я слышал, мастером дорожного строительства».
– Ну, раз Нина подошла, значит, и автобус вот-вот прибудет! – говорит ещё какая-то её односельчанка.
Это правда. Обычно красавица успевает «прямо к автобусу», курсирующему от деревни к деревне по расписанию – такое острое у неё чувство времени. И судя по тому, как хорошо люди смотрят на Нину и как сердечно о ней отзываются, они любят, ценят землячку, и женщины не завидуют её привлекательности чёрной завистью. Она у местных ещё и выборный староста деревни.
«Да, это не пластмассовая красотка с обложки глянцевого журнала, при всём народе показывающая свои цыплячьи ляжки и коровьи груди, а настоящая пленительная женщина!» – опять говорит себе Ниязов. Но местный автобус подходит к остановке. Односельчане, теснясь, устраиваются в небольшом салоне, уже наполовину занятом пассажирами, и додумывает художник о Нине в дороге.
Спустя несколько дней, вернувшись из Москвы, он встречает её вечером в деревне – идёт с вёдрами от колонки на центральной улице в нижней части поселения и, пройдя левой стороной ряд домов с дворами, палисадниками и лавочками у заборов, приблизившись к усадьбе Вдовиных (такова фамилия Нины по мужу), вдруг слышит знакомый высокий голосок:
– Цып-цып-цып!..
А потом и видит за сварной решёткой прекрасную хозяйку.
Ниязов ставит на землю едва не всклень налитые вёдра (любит носить такие полные, стараясь не расплескать ни капли), сворачивает с тропинки, подходит к невысокому стальному забору с дверцей, выкрашенному зелёной краской, берётся за прутья ограды и смотрит в зелёный, без единой соринки двор. Хозяйка вскидывает на него глаза.
– Здравствуйте, Нина, – произносит он. – А отчества вашего, простите, я не знаю.
– Алексеевна, – отвечает она, несколько растерявшись, опустив глаза и снова подняв. – Можно просто по имени. Здравствуйте, Степан Гордеевич. У вас отчество редкое, нетрудно запомнить.
– Да, – соглашается Ниязов. – Гордеев и Гордеевичей у нас почему-то мало.
– Подглядываете, как потчую курочек? – спрашивает Нина.
– Просто шёл мимо и увидел вас. Дай, думаю, поздороваюсь…
На этом их беседа спотыкается. Больше через забор говорить как будто не о чем и неловко, а во двор хозяйка не зовёт. Она продолжает сыпать пшено из пластиковой плошки на голую утоптанную землю – залысок в курчавой мураве возле сарая. Голосок её возносится к небу: «Цып-цып-цып…», – и куры с истеричным кудахтаньем, хлопая крыльями, толкаясь и сбивая одна другую с ног, бросаются на корм, а рыже-красно-чёрный петух, с просинью в смоляных перьях, украсивших хвост, косится на своих наложниц, как на полоумных, и, сохраняя петушиное достоинство, клюёт зёрнышки, отлетевшие в сторону. Ниязов хочет отойти от забора, но что-то его не пускает. Он оглядывает двор, видит на заднем плане огород, отделённый от двора частоколом, но потом смотрит только на Нину, одетую в очень простое ношеное платье до колен, обутую в тапочки на босу ногу, без косметики на лице, с иной причёской, в которой густые белокурые волосы не рассыпаны по плечам, а закручены на затылке в спираль. В будничном виде она красива по-своему, и не меньше, чем в праздничном, даже более мила. Но вдруг художник спохватывается, что Нина замужем, и её супруг, возможно, наблюдает в окно и злится. «Может, и соседи уже любопытствуют, зачем я торчу у забора, уставившись на хозяйку», – думает он и отпускает прутья ограды. Подняв глаза к небу и вздыхая, Ниязов не к месту произносит:
– Эх, дождичка бы! И грибы бы в лесу наросли, и овощи на грядках ожили! До свидания, Нина Алексеевна!
И, не забыв вёдра, идёт дальше.
– До свидания, – озадаченно говорит она и провожает его взглядом.
Художник минует её аккуратный дом, обшитый тёсом, выкрашенный голубой краской, с резными наличниками на трёх фасадных окнах, и, не ощущая тяжести ноши, какой-то силой возносится по тропке к себе на верх горы. Он сознаёт, что сморозил глупость о необходимости дождя: погода стоит вовсе не засушливая, – но почему-то не огорчается, а радуется.
Проходит ещё несколько дней. Ниязов думает о Нине Вдовиной, и его сердце сладко томится, как в пору первой влюблённости. А тут ещё по другую сторону балки однажды под вечер в кустах сирени запевает соловей, и такими головокружительными разражается он дробями, трелями, щелчками и раскатами, такие берёт высокие ноты, что художник диву даётся. Прислушиваясь к соловьиному концерту, он пробует уловить в своей памяти давние неясные, очень приятные мгновения, связанные, может быть, с пением соловья, и думает, потирая ладонью щёку: «С чего он, дурачок, распелся?.. А почему бы и не распеться соловью? Они тут заливаются не впервой. Что за детские глупости лезут мне в голову?»
Как-то раз, ближе к ночи, задёрнув оконные занавески в своей избе, Ниязов садится почитать при свете настольной лампы роман американского писателя Скотта Фицджеральда; но вдруг слышит стук в дверь, идёт к порогу и отодвигает щеколду. За дверью он видит Нину. С тёмной улицы переступив порог, женщина в нарядной одежде и туфлях на высоком каблуке заходит к нему в освещённые сени. Лицо её припухло, омрачилось и утратило редкую красоту, в глазах блестят слёзы, бальное платье помято.
– Что с вами? – спрашивает Ниязов. – Какая беда?
– Я прошлую ночь дома не ночевала.
Она отводит глаза и по-детски шмыгает носом.
– Да? А где же ночевали?
– На работе. У одного из наших мастеров был день рождения. Ну, мы и загуляли в вагончике до утра, а сегодня продолжили…
– И что теперь?
Он сознаёт, что говорит пустые слова, но наполненные смыслом ему в голову не приходят.
– Теперь боюсь домой идти. Муж поколотит, а то и убьёт.
Вместе молчат. Он приглашает её в комнату, подаёт стул, сам садится и вопросительно смотрит на Нину.
– Не могли бы вы пойти к нам со мной? Ну… на тот случай, если муж станет драться, – произносит она. – И не могли бы сказать, что я гостила у вас?
Художник ошеломлён такой просьбой. Он медленно подбирает ответ, уставясь себе в колени и пожимая плечами:
– Как же я пойду с вами, Нина Алексеевна? Что ваш муж подумает, увидев нас вдвоём в позднее время? Да ещё если скажете, что ночевали у меня, а я подтвержу.
– Он ничего плохого не подумает, – говорит Нина. – Ему плохое в голову не придёт. Все в деревне много лет знают вас за хорошего серьёзного человека. Что может быть между мной и вами особенного?.. К тому же Витя, муж, помнит, что вы тут живёте с супругой.
– Да нет у меня супруги! – восклицает Ниязов, вскинув голову. – Нету! Где вы её видите?
Он разводит руками и озирается по сторонам.
– Где же она? В Москву поехала?
– Не в Москву. В Новосибирск к сестре. Сбежала от меня.
– Как? Насовсем?
– Не знаю. Не хочу об этом говорить. Не распрашивайте.
С минуту опять молчат. Потом Нина произносит, вставая со стула:
– Извините, Степан Гордеевич. Я всё поняла. Вы правы. До свидания.
– А почему вы обратились ко мне? – спрашивает он.
– Ноги сами принесли. – Она сдержанно улыбается. – Ни к кому из местных нельзя с таким разговором подойти – сами понимаете: разнесут по деревне. А вы не разнесёте. И вы… расположены ко мне, я так посчитала. Кроме того, думаю, жена всё время при вас, так что никто дурного не заподозрит, если увидит, как иду к вашему дому. Не знала, что жена у вас уехала. Ну, ещё раз всего хорошего.
Нина коротко кланяется и поворачивается к двери.
– Подождите. – Художник тоже встаёт со стула. Скинув шлёпанцы, он берётся за старые ботинки со шнурками, поставленные у русской печки. – Пойдёмте вместе.
Женщина смотрит на него удивлённо и благодарно.
Они выходят из дома. Ночь лунная, звёздная; на свежем воздухе ещё так тепло, что один не зябнет в футболке, другая в тонком платье. В кустах сирени попискивает сонная птаха. Перед спуском с крутой горы Нина снимает туфли. Ниязов подаёт ей руку. До самой низины она идёт босиком, а дальше опять семенит в туфлях. Внизу посреди улицы ярко сияет на столбе большой фонарь. Кругом ни души. Где-то в направлении реки брешут две собаки: шавка заливается тонким злобным лаем, а солидный пёс ведёт свою партию ленивым хриплым гавканьем. От реки, призрачно белея, ползёт слоистый туман. Случайной паре делается от него зябко, но пара уже приближается к дому Вдовиных. В окнах дома горит свет, сквозь тюлевые занавески не видно никакого движения, створки окон закрыты, но за ними слышится музыка. Нина просовывает руку сквозь решётку ограды, отодвигает шпингалет и, отворив калитку, первой проходит во двор. Они осторожно поднимаются по слабо скрипящим деревянным ступенькам на крыльцо. Ниязов до крайности напряжён, Нина трусит, ёжится, оглядывается на него. Они проходят в горницу. Слышен сдавленный храп. Мертвецки пьяный Витя лежит на обтянутом тканью диване вниз животом, но голову повернул на бок, щека его смялась, от этого раздвинулись губы и рот открылся, как у мороженой рыбы. Он по пояс гол, но улёгся в ботинках с песком на подошвах, одна рука протянута вдоль туловища вверх ладонью, вторая закинута за лысую голову. На буром лице мужика видна русая щетина. В горнице стоит густой винный дух. В углу на тумбочке работает телевизор.
Нина выключает телевизор и, двигаясь бесшумно, спешит открыть окно.
– Всё в порядке! – шепчет она художнику. – Он теперь до утра не проснётся! Идите домой!
Ниязову тяжело видеть безобразную сторону чужой семейной жизни. Кивнув Нине, он пятится и быстро уходит.
На следующий день красавица, не заходя после работы к себе домой, неожиданно является к нему. Она снова в ослепительном образе, благоухает тонкими духами. Он радостно удивлён.
– Спасибо, что проводили вчера! – говорит Нина с порога. – Я забыла вас поблагодарить.
– Не стоит благодарности, – отвечает Ниязов. – Помочь вам всё равно не пришлось. И слава Богу. Ну, как дела? Судя по вашему жизнерадостному настроению, всё у вас закончилось хорошо.
– Да. Муж ничего не мог вспомнить, ни о чём не догадался. Он третий день до чёртиков набирается с приятелями и потерял счёт времени. (Художнику режет слух «до чёртиков набирается», и он хочет сказать Нине о том, что ей не идут грубые выражения, но не говорит.) Утром сегодня я его поругала, мол, как ни приду, ты пьяный. Пол у тебя затоптан, в кухне объедки и окурки, а на диване лежишь в грязных ботинках. Пришлось выкручиваться. Мне было совестно оттого, что дома не ночевала, а соврала ему, что он уснул к моему приходу.
– И часто ваш супруг так крепко выпивает?
– Когда как. Виктор пьёт запойно. Может месяц не притрагиваться к спиртному, но если начал, то с месяц не остановится. Будет пропивать всё, что под руку попадёт. Я к этому привыкла. У него новый чёрный запой. На человека стал непохож. Ну, вы видели…
– Да, невесёлое обстоятельство, – серьёзно говорит художник. – Трудно вам живётся. Я иногда встречал вашего мужа… в непотребном состоянии, как раньше выражались, но думал, что просто выпил человек лишнего, чего не бывает. Заходите в избу, пожалуйста. А детей у вас разве нет?
– У нас есть сын, Дима. Он во Владимире в школе милиции учится, – говорит она с любовью и гордостью, со счастливым блеском в глазах. – Прекрасный мальчик! Учится на пятёрки и четвёрки! Родителей уважает, но отца бранит за пьянство, и отец, представляете, не огрызается, слушает его. Мы к Диме во Владимир ездим, а он к нам. Правда, нечасто гостит. У него там с товарищами свои дела. Я не корю, хочу, чтобы зацепился за город. Не найдёт здесь сынок работу по специальности и по душе… А как приезжает, то столько дел они с отцом в доме переделают: и крышу починят, и дымоход почистят, и забор поправят, и дров напилят-наколят! Вот какой у нас сын! Радость наша! Вы видели его?
– Может быть, видел, да не знал, что это ваш сын.
– Ну что вы! Он такой пригожий, заметный! Курсантская форма ему очень к лицу!..
Нина оглядывает комнату. Вчера в расстроенных чувствах ей было не до того. Есть в избе Ниязовых ещё веранда, но комната единственная, очень просторная она. Из мебели в ней стоят полутораспальная кровать, посудный шкаф, комод, стол, три стула и кустарная табуретка. Немало места занимает печь с лежанкой. Комната озарена вечерним солнцем, так пронзительно светящим на исходе дня, что художник задёрнул на окнах белые занавески. При затенении острее глядит на смертных Николай угодник из правого угла под потолком, а живописные работы Ниязова кажутся загадочными, таящими какие-то секреты. Его малоформатные полотна, писанные маслом на фанерках, обтянутых холстом, развешены по стенам, оклееным обоями, и стоят на полу у стен. Тут сплошь пейзажи: лес, река, холмистые поля, улицы деревни. Отдельные места, изображённые на них, женщина радостно узнаёт.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?