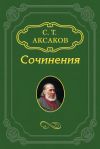Текст книги "Игра света (сборник)"

Автор книги: Альберт Карышев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Спустя час стою на гористой опушке в виду деревни; у ног моих – корзина с грибами. Вниз я не тороплюсь, прихожу в себя. Смотрю вокруг, облегчённо дышу и чувствую себя так, словно вышел я не из тёмного леса к людям, а вернулся к себе в Россию из чужой враждебной страны. Лес тут ни при чём. Я сам выбрал в нём ложное направление, а не он сбил меня с пути. В лесу – как в жизни: всякое бывает; и в жизни мне тоже приходится блуждать, как в лесных дебрях, с трудом находя дорогу. Мысли о лесе всегда уводят меня далеко; но сейчас ясно одно: я мог остаться в пуще навсегда, но счастливо отделался.
Над деревней поздний вечер и тишина. Её котловинную часть заполняет парное молоко – густой туман, погружающий в себя избы. Небо больше звёздное, чем облачное, и дождь, похоже, не предвидится – очень не хотелось бы мне под конец пути ещё раз вымокнуть. А на высоком холме деревни, с краю, вижу нашу избушку. В окнах горит электричество. Жена Вера, конечно, истомилась в ожидании меня, побегала по соседям, наслушалась советов и теперь не знает, что ей делать: то ли ещё понадеяться, то ли начать звонить в районный центр, заявлять в милицию о моём исчезновении.
Пройдут последние полчаса, и в дверях перед женой возникнет призрак мужа с корзиной грибов.
В ожидании матери
Я сидел у себя в комнате на даче и усердно писал рассказ. Жена моя Вера, голубоглазая подруга жизни, пошла навестить знакомую, и я остался в желанном одиночестве, в полной «звенящей» тишине, которая устанавливается поздней осенью в деревне и неодолимо влечёт к самозабвенному литературному творчеству. Тишина эта – чуткая гостья, и она легко расстраивается слабыми колебаниями воздуха. Вдруг тебя насторожит сухое щёлканье крылышек по оконному стеклу, отчаянное трепыхание какого-то позднего мотылька, а как прислушаешься, – это стрекочет мотоцикл вдали, и его технический стрёкот мало имеет общего с тревожными звуками борьбы за жизнь. Или звонко крикнет кто-то в другом конце деревни, а ты вообразишь совсем иное: будто незнакомый человек поднялся на крыльцо и негромко зовёт хозяина. Или шустрый домовик, заигрывая с тобой, прошелестит тонкой ручкой по бревенчатой стене, неплотно оклеенной обоями. Или под осторожными шагами невидимки тихо скрипнет старая половица. Но призрачные звуки родятся оттого, что в комнате тихо…
Дело было к вечеру. Я сидел и водил пером по бумаге, свыкаясь с интонацией рассказа и голосами моих героев, как вдруг ясно услышал посторонний голос и вздрогнул, узнав его. Это был голос моей покойной матери.
– Сынок… Сынок… – окликала она меня и дышала взволнованно, скорбно. – Сынок… Сынок…
Мать словно хотела на что-то посетовать, от чего-то предостеречь любимого сына, но не находила слов. Я сознавал, что её голос мне чудится, но жадно его ловил, ждал повторения.
Писать я тут же бросил, вышел на крыльцо и по деревянным приступкам спустился в огород. Овощи были уже собраны, и валок картофельной ботвы готовился к сожжению, но ещё бодро зеленел бессмертный лук-зимняк на грядке у частокола, да здесь и там горели оранжевым огнём выносливые цветочки «ноготки». Меня удручает вид мертвеющего огорода, особенно на закате солнца, и заглянул я сюда, повинуясь неодолимому внутреннему зову, странной убеждённости в том, что среди безжизненных грядок мне вновь послышится голос матери. Однако по моему желанию галлюцинация не повторилась. Мало-помалу я успокоился, хотя не забыл о случившемся…
Вышел за калитку и в размышлении постоял перед нашей с женой избушкой, пепельно-серой от старости и многолетней добросовестной службы людям. Она построена в стороне от прочих изб, на отшибе селения. Вокруг много свободного места, луга и лужайки, за ними, то дальше, то ближе, сплошной лес, а фасадом наше крестьянское жильё обращено к глубокой котловине, где на дне расположилась основная часть большой деревни, приписанной к Селивановскому району Владимирской области. Картина, открывшаяся мне сейчас, тоже была не слишком радостной. Лес в это время года хмурился. Небо затягивалось тучами. Котловина наполнялась вечерним туманом, в нём ещё засветло – я часто это наблюдал – центральная часть деревни исчезнет, как Атлантида в пучине моря. Тишина в лесу и в деревне, на земле и в небесах. Грустно, уныло и не до литературной работы. Мне думалось о матери и о смерти, хотелось скорее увидеть жену и поехать с ней в город к внучке Анюте. Девочка с полмесяца как хозяйничала одна, утром самостоятельно поднималась, готовила себе еду и шла в школу. Мне было её жалко, и я скучал по ней.
Решил пройтись по деревне, привести в порядок разум и чувства. Крутая тропа, повертевшись винтовой лестницей, ниже выровнялась и расширилась до велосипедной дорожки, а на дне котловины влилась в песчаную автомобильную колею, тянущуюся меж двух порядков домов. Дачники почти все разъехались. Деревенские, окончив полевые работы, занимались домашними делами, и никого на улице не было. Я спустился к реке и задержался на бетонном мосту у железных перил. Над водой разрослись деревья, и место тут образовалось живописное, в летний зной тенистое и прохладное. Эта чистая вольная речка, для чего-то перед мостом запруженная известковыми глыбами, пробивалась сквозь плотину с большой скоростью и плескала, бурлила, рокотала, закручивалась на перекатах, обычно доставляя мне удовольствие слышать её сердитый шум и видеть стремительное движение. Я смотрел, прислушивался, но не мог сосредоточиться на быстро текущей воде. Перед глазами, как живая, вставала мать, юная и красивая. Шёл сорок второй или сорок третий год, разгоралась война, и мать служила в госпитале, а мы с сестрой ждали её с дежурства и к назначенному времени, взявшись за руки, спешили ей навстречу по улице Луначарского во Владимире, маленькие, несчастные, голодные и холодные. Завидев нас, она радостно вскрикивала, призывно раскидывала руки, и мы со всех ног кидались в материнские объятия… Я так сильно затосковал по ней, уединившись на мосту, словно до сих пор оставался ребёнком и ждал мать с работы. Мне даже начинало казаться, будто она и не умерла вовсе, а излечилась от тяжёлой болезни; что же до разговоров о её смерти, то тут вышло какое-то недоразумение, что-то я перепутал, а может быть, увидел кошмарный сон, но вот проснулся и сознаю, что мать жива и скоро я с ней встречусь. «Где ты? – думал я. – Без тебя мне плохо, нет сил и умения исполнить замысленные дела и понять важные события. Мне хочется пожаловаться тебе, без стыда проявить слабость, попросить совета и прощения. Приходи скорее…»
Услышав шаги, я повернул голову и увидел… мать. Она шла с заречной улицы, притуманенная, как видение, и вот приблизилась, грациозно пошла по мосту. Мать была в золотистом платье, в котором иногда летом прогуливалась с нами, детьми. Я часто её просил: «Надень его, пожалуйста! Надень!» – и взвизгивал от восторга, когда она надевала это платье. Мать шла в нём по мосту, и мне виделась на её неясном из-за тумана лице приветливая улыбка. Я, изумлённый, счастливый, тоже улыбался и протягивал к ней руку, а в другой мягко держал ручку младшей сестры Виолетты. Забыв, что я старый, я едва не воскликнул по-детски: «Мама!» Но она уже приблизилась, стала вполне видна, и разочарование сжало мне сердце: нет, это не мать моя, а чужая молодая женщина, такая же стройная, с похожей фигурой, одинаковой поступью. И не платье на ней, а приталенный плащ солнечного цвета. Дачница, наверно, не успевшая вернуться во Владимир или Москву. «Глупый! – сказал я себе. – Так недалеко и до тихого помешательства. Мать давно умерла. И сестра тоже. Все твои единокровные родственники умерли». По обычаю, принятому в деревне, я поздоровался с незнакомой женщиной, и она любезно ответила, а немного отойдя, дважды обернулась. Что-то её в моём виде озадачило.
* * *
Живу в ожидании матери. Достигнув преклонных лет, я постарел лишь в том смысле, что обрёл жизненный опыт и морщины на лице. Душа моя навсегда осталась в детском возрасте. Многие считают меня стойким и уверенным человеком, но сам себя я нередко сознаю беспомощным и беззащитным. «Если бы рядом была мать!» – думаю я тогда.
Жизнь у меня складывалась интересно и насыщалась событиями; но я в ней часто сталкивался со злом, потому что был горяч, неблагоразумен и неосторожен. Столкнувшись же со злом, я шёл ему, вездесущему, наперекор, а оно этого не любит. Случалось, я и сам производил зло, давал ему объявиться в своем характере, и им же потом угнетался. И всегда мне прямо или косвенно в противодействии злу помогала мать. Я не имел привычки ей жаловаться, но искал у неё утешения. Мать не настаивала, чтобы я вполне ей открылся, но всё чувствовала, понимала и своим примером гордого независимого поведения поддерживала мои силы и надежды.
В раннем возрасте, когда я не мог ещё уразуметь, что в мире существуют морально-этические категории, пополам разделённые на добро и зло, я тяжело заболел и едва не умер. Помню, как мать приходила ко мне в больницу. Она являлась каждый день, утром или вечером; к её приходу я часто бывал в забытьи, бредил и видел мать сквозь зыбкую пелену, но, очнувшись, тянулся к ней, прижимался щекой и губами к материнской руке. Она ставила на тумбочку у окна раскрашенную детскую корзинку, летом с какой-нибудь спелой ягодой, а зимой с конфетами, печеньем – дарами военного госпиталя, в котором работала, – и её родное светлое лицо, озаряющее мою палату, и эта нарядная драночная плетёнка, полная чудесных гостинцев, навсегда врезались мне в память, как символы яркого сказочного праздника. Матери позволялось ночевать в палате, и она, уговорив мою сестру побыть дома в одиночестве, нередко всю ночь сидела возле меня, поправляла подушку и прислушивалась к дыханию сына, а потом закрывала глаза, свешивала голову на грудь и задремывала. По её воле я выжил, защитился от гибели материнской любовью и жертвенностью. Так, лишь другими словами, впоследствии говорили врачи. Ещё не открыт закон передачи сил и здоровья от любящего человека к любимому, но он существует и проявляется…
В памяти держу и то, как после болезни я словно с цепи сорвался, а сделавшись постарше, вовсе «оборзел» и, безумно расходуя накопившуюся энергию, повёл себя в школе чрезвычайно плохо. Озорного, дерзкого ученика временно исключили из школы. Мать рассердилась и наказала меня хлёстким упреком, от которого, как от пощёчины, кровь ударила мне в лицо: «Спасибо, сынок! Не ждала от тебя!», – но, вероятно, тем бы дело и кончилось, если бы бес не попутал меня сильнее прежнего и не познакомил с приблатнёнными ребятами, с которыми я вскоре распил хмельную бутылку, затерявшись в густом кустарнике на склоне владимирского Козлова вала. В непотребном виде, в надвинутой на бесстыжие глаза восьмиклинной кепке я вышел на центральную улицу у Золотых ворот и встретился нос к носу с одним из наших педагогов. Школьный комитет постановил выгнать меня из комсомола; и тут мама, пересилив горькую обиду, вновь кинулась спасать сына, теперь сыновью душу. Худо бы мне пришлось, не защити она меня: выгнать из комсомола значило навеки искривить и покалечить судьбу. К тому же моё изгнание из политической организации не только опорочило бы доброе имя матери, но оскорбило бы лучшие её чувства. Ведь она была твёрдой, убеждённой коммунисткой, а в прошлом романтичной комсомолкой…
Я служил матросом торгового флота, и мать приехала ко мне на пароход, вставший под разгрузку в Ленинграде. Я встретил её и провёл в порт. Когда мы с ней поднимались по трапу и мать держала меня под руку, на берег, при полном параде, степенно сходил старший механик, по-моряцки, «дед», безвредный ворчливый старикан с седыми усами «щёточкой». Покосившись на даму, он отозвал меня в сторонку, притиснул к леерному ограждению трапа и сердито свёл глаза к переносице. «Молоко на губах не обсохло, а бабу привёл на пароход! Не совестно?» Я ответил, что это не «баба», а родительница моя, издалека приехавшая к сыну в гости. «Дед» смутился, стал извиняться и кланяться, и, спускаясь дальше по трапу, он всё оборачивался и кланялся нам обоим, так что под конец запнулся и едва не упал. И пока мама гостила на пароходе, он при встрече с ней старомодно расшаркивался, разглаживал усы, а потом шептал мне, какая у меня замечательная мать. По-моему, «дед» в неё влюбился. Если же не влюбился, значит, проникся к женщине особым трепетным уважением. И не только он, а и капитан, и старпом, боцман, плотник, вся команда, уставшая от дальних странствий и мужского общества, очаровалась, я видел, моей матерью. Её звали обедать то в кают-компанию, то в столовую рядового состава. Она была весела, остроумна и даже кокетлива, и я удивлялся тому, как она могла оставаться такой моложавой и бодрой после всех испытаний, выпавших на её долю: бегства под бомбёжкой из родного города, мытарств в эвакопункте с двумя малолетними детьми, безвременной кончины дочери и иных несчастий, о которых говорить не хочется…
Потом обострилась моя болезнь. При некоторых обстоятельствах суровой моряцкой жизни недуг, таившийся много лет, возобновился со страшной силой, я попал в госпиталь, и родительница, извещённая телеграммой из Северного пароходства, тут же примчалась ко мне в Архангельск. Опять я стал маленьким и беспомощным. Мать кормила меня с ложечки, ставила мне градусники, меняла постельное бельё и ночи напролёт дежурила возле сыновьей постели, а утром рассказывала анекдоты, пошучивала, посмеивалась, точно в весёлую минуту в обыденной обстановке. Откуда я мог знать, что врачи уведомили её о том, что отрежут мне худую руку, если скоро в течении болезни не наступит крутой перелом? Слава Богу, обошлось…
Пособие по инвалидности мне установили скудное, и матери пришлось содержать меня и долечивать, но главное, подкреплять мой дух, ослабевший после краха заветных надежд, для исполнения которых требовалось отличное здоровье. Она не учила взрослого сына, как ему жить дальше, не раздражала скучными наставлениями – просто всегда была естественна и примерна: свежа, подтянута, жизнерадостна, хотя уже чувствовала, вероятно, что её саму подтачивает недуг, так как вдруг уходила в больницу и возвращалась молчаливая, задумчивая. Кроме всех случаев беззаветной службы сыну, выхваченных тут мной на ходу из памяти, мать ещё успела помочь мне жениться, поступить в институт, обласкать нашего с женой первенца, потом слегла, свалилась, как подрубленная, и когда я, будучи студентом, приехал к ней в последний раз, она умирала на больничной постели, похудевшая, тихая, но удивительно светлая и мужественная.
Она умерла нестарой, чуть более пятидесяти лет. Я уже сам состарился, но до сих пор, как ребёнок, стремлюсь к матери. Когда мне трудно, её дух слетает ко мне с небес, я ощущаю его мистическое влияние и делаюсь разумнее, смелее и увереннее. Я знаю, что она не придёт, но жду её и ищу её образ в лицах случайных людей, а иногда обращаюсь к матери, не торопя, а сознавая своё неуклонное приближение к вечности: «Скоро мы встретимся, мама, и не расстанемся больше никогда».
* * *
Темнело. Туман набирался в котловину, и окрестности всё больше размывались в нем. Я озяб на мосту, съёжился и побрёл домой. Жена ещё не вернулась от знакомой. Я залез на тёплую лежанку, пригрелся и заснул под поскрёбывание какого-то жучка за обоями, а во сне испытал великое ребячье блаженство от прикосновения материнской руки к моей голове. «Сынок, сынок, – шептала мать, – не тоскуй обо мне. Я с тобой. Не тревожься, спи, а я рядом посижу». Прикосновение было слишком естественным и настойчивым, от него я и проснулся и в сумерках разглядел жену, она стояла перед печкой и трепала меня по волосам.
– Эй! – звала меня Вера, передавая голосом хорошее настроение. – Ты спишь? Я молока принесла! Вставай-ка поужинай, а потом разденься и ляг спать по-человечески!
Я понимал, что это жена, и одновременно сомневался, так как не вышел из сна окончательно и сохранял в себе образ матери. Но когда Вера зажгла электрический свет, я сообразил, в чём дело: материнские черты в её облике и поведении я давно приметил, а с годами они выявились сильнее.
– Мне снилась мать, – сказал я. – Я принял тебя за неё.
– Немудрено, – ответила Вера и тихо засмеялась. – Жена для мужа – что? Возлюбленная плюс нянька. Чем меньше в ней возлюбленной, тем больше матери, а к старости остаётся только одно качество.
Как мы клали печь и чинили крышу
В избе у нас стоит хорошая русская печка, с широкой лежанкой, просторной топкой, в которой можно париться, как это делалось в деревнях ещё не очень и давно: в Великую Отечественную и позднее, – а дрова в ней занимаются огнём живо, весело: поджёг завиток бересты, кинул под поленья, сложенные клеткой – и запылало, загудело, пошло варить щи, картошку и нагревать лежанку.
Требовалось нам с женой Верой Владимировной сложить печь во дворе, для скорой стряпни и заготовки на зиму варенья, маринованных грибов. Искали мы мастера, но, кажется, настоящие печники тут вывелись – не по дням, а по часам выводятся и сами деревни, как прекрасная заповедная дичь, на которую с боевым оружием охотятся с вертолётов браконьеры. Знакомые сообщили, что пара кустарей где-то здесь ещё обитает, не особых умельцев, но таких, что некогда держали в руках кирпичи и мастерки, однако из-за полной своей ненадобности эти малоквалифицированные печники, скорее всего, напрочь разучились класть печи. Один из них, с бегающими глазами, средних лет, желтоусый, в резиновых сапогах, с холщовой сумкой на локтевом сгибе, сам возник однажды и предложил свои услуги, но опять вмешались знакомые, посоветовали не связываться. Уж мы с женой решили самостоятельно построить уличную печку. Нашли в земле хорошую коричневую глину и чистый песок, поискали и конского навоза, чтобы укрепить строительный раствор (но какие там кони! Какие лошади! Корова, и та сохранилась в деревне в единственном числе!); предприниматель местный Саша Сергеев дал бесплатно чёрных жаростойких кирпичей, и вот в начале лета не сведущие в печном строительстве городские люди взялись было за дело, но тут к нам пришли двое небритых молодых мужчин. Они крикнули через изгородь во двор:
– Эй, хозяева! Вы дома?
Потом приблизились к избе и стукнули пальцами в окно.
Мы с женой вышли к ним за пределы усадьбы, на зелёную лужайку, и мужчины попросили у нас взаймы. Не много им надо, сказали.
– Как же мы вам дадим, – ответил я, – если совсем вас не знаем?
– Отец! Мы русские люди! – заорал, вытаращив глаза, явно младший возрастом, но, судя по его бойкости, главный зачинщик авантюрного похода к нам. – Мы поймём друг друга! Что я, по-твоему, совесть за рубли продам? Ты меня даже как-то обижаешь!.. Спроси любого – я за речкой живу, – обманул хоть раз Юра кого-нибудь? Меня все знают и уважают! Я дачникам и местным дрова колю, крыши крою, заборы ставлю, траву в огороде могу выкосить! Только свистни, и Юра тут как тут! Валька такой же! Честня-яга! Честнее его не найти! Пусть сам скажет! Только он стесняется! Не стесняйся, Валька!
Длинный чернявый приятель Юры, весь какой-то изнурённый, с продольными морщинами на щеках, успел присесть на брёвнышки, приготовленные мной для замены в ограде подгнивших опорных столбов. Он был не просто малообщителен, но, по-моему, совсем не умел говорить. Съёжившись, запахнув полы мятого пиджака и схватив себя за плечи, Валентин мелко трясся и только мычал.
– Что он трясётся? – спросил я.
– Озяб, – ответил Юра.
– Как же он мог озябнуть, если на улице жара, тридцать два градуса в тени? Ты вон весь потный. Рубаха нараспашку. Волосы ко лбу прилипли.
– У него организм такой. Валька мёрзнет в жару, а может, чем-нибудь заболел… Ну, давай, отец, решим главный вопрос. Займи полсотни. Через неделю лично я тебе верну. Честное слово! Гадом буду!.. Как тебе ещё поклясться? Пусть язвами покроюсь или издохну!.. Никогда Юра совесть не продавал! Каждый подтвердит!..
– М-м-м… – произнёс я.
– Ты что, отец, не веришь? – Он развёл руками, а лицом выразил полную свою праведность и обиду за то, что я его праведности не замечаю. – Тогда я удивлён! Очень! Не знаю, что сказать! Деньги нужны до зарезу, крайний случай! Может, от полсотни рублей наша с Валькой жизнь зависит!.. Хозяйка твоя вон верит! Правда, хозяйка?
Валентин продолжал мычать и трястись. Вера Владимировна ехидно улыбалась, а Юрию, наверно, чудилось, будто она смотрит приветливо. Я-то давно усвоил все разновидности улыбок своей жены.
– Ты красивая! – сказал он и подмигнул ей. – Старая, а ещё ничего! Глазами-то голубыми так и зыришь, так и играешь! Как конфетки глаза!.. Что ты в нём нашла, в муже своём? Он уродливый по сравнению с тобой! Как это, интересно, у вас получилось, что ты за него вышла? Лучше, что ли, не было?
– Эй, придержи язык! – одёрнул я его. – Ишь, разошёлся, петух ободранный!
На петуха Юра похож не был. Невысокий, коренастый, с крепкой шеей, он скорее напоминал дубовый пенёк.
– А заревновал, гляди-ка! Заревновал! Не обижайся, отец! Шучу ведь! – Я не успел увернуться, и он хлопнул меня ладонью по спине. – Ладно, не верь!.. Дело твоё! Тогда купи у меня кровельные гвозди! Вот, ровно два кило! Отдам задёшево!
Тугой мешочек висел у него на плече. Юра показал мне мешочек, пощупал гвозди, они под его пальцами хрустнули.
– Гвозди нам не нужны, – ответил я. – У самих запас. Хотим крышу рубероидом перекрыть, а то кое-где протекает, старая. Вот и купили всё заранее, и гвоздей достаточно, и рубероида десять штук.
– Крышу? Рубероидом? – Он даже припрыгнул немного. – Что же ты, отец, сразу не сказал? С этого надо было начинать! Это же наш с Валькой хлеб! Основная работа! Так перекроем вам с хозяйкой крышу, что ахнете, закачаетесь! Других не зовите! Неизвестно, что будут за люди, может, жулики! А мы – вот они, перед вами! Душа нараспашку! Очень вам повезло!.. Ну, пошли, показывайте! Всё сейчас обсудим, а завтра с утра начнём!..
– Чинить крышу – у нас пока на втором плане, – сказал я. – А в первую голову надо печку во дворе сложить. Уже земляники в лесу полно. Пока вот солнце жарит, а как зарядят дожди, грибы во множестве нарастут. Надо будет варить то и другое. В русской печке ягоды и грибы варить затруднительно. Нужна уличная. С ней вообще удобно.
– Уличная печка? – опять заорал Юра. – Ну, ты, отец, даёшь! О самом главном молчишь! Печки складывать – для нас ещё главнее, чем крыши крыть! На крыше пару дней просидишь, а печку во дворе мы слепим за пять часов! Такую отгрохаем – залюбуетесь! Друзей кликнете смотреть! Глина нужна, песок, цемент!.. Нет, говоришь, цемента? Чего-нибудь такого добавим!.. Место, хозяева, заранее выберите! Потом за крышу возьмёмся! По рукам? Ну, до завтра! Просим выдать небольшой аванс!
– С какой стати мы должны платить вам вперёд? – произнесла Вера Владимировна хорошо поставленным учительским голосом. – Выполните работу и получите всё сполна.
Уже расхвалив мою жену, Юра отступить от своих слов не мог. И вообще он заметно преклонялся перед такой величавой дамой, волевой, благородно поседелой, культурной. Неожиданно болтун сробел. Красноречие его оборвалось. Со мной-то, человеком посредственных манер, чернорабочей внешности и дурного произношения (к старости пошли ломаться зубы), он говорил запросто, а перед хозяйкой стих, съёжился.
– Уступи, госпожа! – заканючил он. – Выдай аванс! За нами дело не станет! Всё выполним, как надо, не подведём! Не можешь дать полсотни, дай тридцать рублей!
– С какой стати? – повторила Вера Владимировна.
– Ну двадцать! Ну, хоть десять!
– Нет. До окончания работы – ни копейки.
– Строгая ты больно! Принципиальная!.. Надо нам, понимаешь?
– А мне-то какое дело? Были бы вы нищие, голодные, я бы вам подала, обедом накормила. На вид вы вполне сытые, гораздо упитаннее моего мужа. Гвозди вон продаёте. Есть, значит, на что жить.
– Подожди, – вмешался я. – Ведь неплохие ребята. Зачем обижать их недоверием? Жулики разве так себя ведут?.. А эти, сразу видно, искренние, простые. Посмотри, какие у Юрия честные глаза. Тут всё дело в глазах, милая. С такими глазами человек не может обмануть. Давай уважим. Придут – отработают.
– Я бы не уважила, – сказала Вера.
– По-моему, всё-таки надо уважить. Душа у людей горит. Бывают такие обстоятельства…
– Ты хозяин, тебе решать.
Сдалась жена, я видел, лишь потому, что не захотела уронить честь мужа.
Я зашёл в избу, вынес пятьдесят рублей и отдал Юре. Поблагодарив меня с непосредственной детской улыбкой и со смущением, которое особенно расположило меня к просителю, горячо пожав и встряхнув мою руку, он сказал Вере Владимировне:
– Вот твой муж – он понял! Нужно доверять людям! – И, уже пятясь, позвал Валентина, а нам ещё приветливо махнул издали рукой, крикнув: – Пока! Завтра будем ставить печку! Ждите!
Валентин встал с брёвнышек и поплёлся за товарищем. Он так и не вымолвил ни слова, но, определённо, согрелся, повеселел. Больше мы ни того, ни другого не видели. Сколько лет минуло, а о Юрии и Валентине ни слуху, ни духу. Наверно, бегают от кредиторов.
* * *
Друзья-соседи, тоже городские люди, посмеялись над нами и сообщили, что Юрий с Валентином – известные в этих краях пройдохи. Они шляются без дела по весям и облапошивают легковерных дачников. (Почему-то некоторые селяне считают, будто все дачники – богачи.)
– Они сперва у нас побывали, да мы их выгнали, – сказали друзья. – Знаем, что за райские птицы, надули как-то раз.
– Сами-то что же следом за ними к нам не пришли, отвести ещё одно надувательство? Не поняли, куда они направляются? – спросили мы с женой.
– Поняли. Видели, – последовал чудной ответ, весёлый, разумеется. – Но захотелось услышать, что и вы потерпели убыток, а потом взглянуть на ваши физиономии. Почему одним нам должно быть плохо?..
Вознегодовали мы, конечно, помыли кости пройдохам; но нужно было выполнить задуманное, построить уличную печь.
Вера Владимировна по каким-то хлопотам уехала в город. Я захотел приготовить ей сюрприз и пошёл по нашей большой деревне, спрашивая всех подряд, не знает ли тут кто-нибудь хорошего печника. Встретилась мне крестьянка Портнова, старая, натруженная тяжёлой работой и, как утица, переваливающаяся на ходу. Она вспомнила, что знает одного мастера. Он из соседней деревни, но здесь гостит часто, ездит или ходит пешком к родственникам и друзьям. Крестьянка сказала, что зовут печника Шестёркиным Николаем Ивановичем, и подробно обрисовала мне его.
– О-о-чень хороший специалист! – добавила она. – Многим тут печи клал, и председателю совхоза, бывало, и директору школы, всем, кто позовёт, и мне вот тоже…
– Сильно пьющий?
– Господь с тобой! – Крестьянка махнула на меня тяжёлой бурой рукой с узором из вспухших вен. – Совсем не пьёт. Раньше, правда, пил запоями, а сейчас в рот не берёт, язва у него.
– Прекрасно! – сказал я и, расставшись с Портновой, стал искать Шестёркина.
Дня через два я встретил его утром в магазине. Очередь тут к прилавку обычно невелика, но тянется долго: местные жители и дачники любят побеседовать о жизни с продавщицей Галей и друг с другом (старики вообще устраиваются по-домашнему, есть в магазинчике несколько стульев). Заговорил и я с соседом, стоявшим передо мной. Обратив внимание на тщедушного маленького старичка, подходящего под описание Шестёркина, я наклонился к его уху и тихо поинтересовался:
– Скажите, пожалуйста, вы печник?
– Печник, – ответил он через плечо. – А что?
– Николай Иванович Шестёркин?
– Он самый.
– Очень рад, – сказал я, – что вас встретил. Вы-то мне и нужны, просто необходимы.
– Ну, раз нужен, выкладывайте, зачем я понадобился.
Шестёркин повернулся в очереди, и я увидел сухое, морщинистое, хорошо выбритое личико, хитроватые глаза с жидкими ресницами. Одет печник был опрятно: в серый хлопчатобумажный костюм с полосками, вытершийся, правда, и потускнелый. Такие дешёвые костюмы, носимые, главным образом, деревенскими интеллигентами, раньше продавались в сельпо – сельских кооперативных магазинах. Под пиджаком у Шестёркина поверх чистой рубашки висел узкий чёрный галстучек, на голове глубоко сидела тонкая летняя шляпа с дырочками.
– Да печку мне надо поставить во дворе, – объяснил я. – Говорят, вы очень хороший специалист. Не возьмётесь ли?
– А кто говорит, что я хороший?
– Многие. Портнова Варвара Алексеевна… И другие.
– Так оно и есть, – согласился Шестёркин. – Кроме меня-то кто у нас в округе ещё печники? Климов с Александровым, что ли? Это не работники, а так себе, шалопуты. Плиту кухонную и то сложить как следует не могут, а уж голландки ихние, тем паче русские печки только дрова жрут и дым в избу пускают… Значит, вам во дворе надо?.. А вы, уважаемый, кто?
Я назвался, рассказал, где живу, и попросил его, если можно, начать строить печь сегодня. К возвращению жены хочется успеть, говорю, сюрприз приятный ей готовлю.
– Там поглядим, подумаем, – сказал Шестёркин. – Прикинем свои возможности. Сегодня у меня всё одно не получится, другие есть дела. А завтра, может, зайду. Вы на всякий случай подготовьтесь.
– Стало быть, можно надеяться, Николай Иванович?
– Ладно, надейтесь. Я поднимаюсь рано. Будильник заведите на шесть часов…
Ровно в семь он явился ко мне и на высоком пристрое крыльца выложил из облезлого чемоданчика синюю робу, железный складной метр, ватерпас, мастерок, ручник и гирьку на шнурке – отвес. Войдя в сени, печник снял с себя дырчатую шляпу, парадный костюм, у которого лацканы пиджака завернулись, как сухие листья, а брюки давно утратили складки, снял галстук, рубашку и всё развесил на настенных крючках рядом с нашими плащами и телогрейками. Надев рабочие штаны и куртку с хлястиком, испачканные известью и краской разных цветов, натянув на лысую голову старую кепку, он глянул на меня с прищуром, как портретный Ленин, и сказал:
– Ну-с, приступим.
– Может, сперва чайку? – спросил я. – У меня всё готово.
– Нет, допрежь поглядим, покумекаем. Торопись, как говорится, не спеша, тогда дело лучше идёт…
Мы пошли во двор. Место для печки я наметил за пределами огорода: ровный участок между сиреневыми и терновыми кустами, недалеко от бокового прохода в заваливающемся частоколе (тоже надо было поправлять). Я даже заранее обозначил штыком лопаты прямоугольник небольших свободных размеров – проекцию плиты, – а потом серпиком срезал на нём вихры перистой травки, оболванил строительный участок «под Котовского». Посмотрев на мои труды, печник одобрительно хмыкнул.
– Годится. Тут и сложим печурку.
– Давайте схожу за инструментом.
Я уже чувствовал себя подсобным рабочим, готовым прислуживать мастеру, быть у него на побегушках. Шестёркин отмахнулся.