Текст книги "Толстой. Повесть"
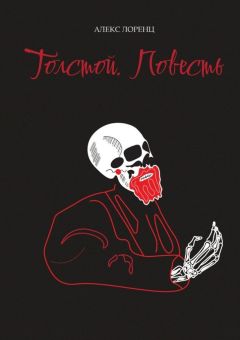
Автор книги: Алекс Лоренц
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
III
Когда сложили всё сено в стожок да накрыли плёнкой, Ерошка хотел было сразу отправиться к Ольке, но потом решил всё же сделать крюк до дома – насыпал для подруги в кулёк голубики из ведёрка, что Сенька в лесу собрал.
Обычно Олька ждала друга в доме – он подымался на крыльцо, стучал в дверь, девушка выходила. А в этот раз она почему-то топталась в ожидании за околицей, в тени разлапистого куста сирени. Вид озабоченный. Её напряжённое лицо сразу обеспокоило Ерошку. Он понял: что-то случилось.
Он протянул ей кулёк.
– Что это? – рассеянно спросила она, принимая подарок.
– Голубика. Для тебя.
– А… – Она вымученно улыбнулась. – Спасибо. Пойдём-ка прогуляемся.
– Что стряслось? – спросил он без обиняков.
– Брательник вернулся. – Олька сдула со лба непослушную прядку.
Олькиному старшему брату Коляну было уже под тридцать. Лет десять назад его посадили за убийство. Норов у него всегда, сызмальства, был буйный. Никто с ним ничего не мог поделать, никому не удавалось его вразумить. Много чего было – и мелкое воровство, и драки, и пьянка, и частые приводы в милицию. Настрадались с ним мать и отец. Пока Колька подрастал, родилась сестрёнка Оля. Ей было лет пять, когда его «закрыли». Отец к тому времени умер. Возмужалый и более не сдерживаемый крепкими отцовскими взбучками, Колян совсем осатанел, озверел. Взялся поколачивать мать да сестрёнку-крошку – быстро вошёл во вкус, бил родных всё чаще. Оля, даром что была совсем маленькая, братца запомнила, и в памяти отложилось о нём только плохое.
Колян связался с шайкой шпаны в Почепе. Там они перепились за гаражами и решили угнать у пенсионера старенький «москвич», который тот починял поблизости. Отшвырнули старика в сторону, как ветошь, Колян сел за руль, а остальные, гогоча, набились в салон. Хозяин кое-как поднялся с земли, стал загораживать отморозкам путь из гаражного кооператива. Тогда Колян отъехал чуть назад, ударил по газам и сшиб пенсионера насмерть.
В Олину память впечатались побои, обиды и детский страх, а внешний образ старшего брата на их фоне потерялся, растворился. Из тюрьмы вернулся совершенно чужой человек. Увидь Оля его случайно на улице – ни за что не узнала бы. Чужак тот был угрюм, немногословен – и тем пугал ещё сильнее. Мать лишь украдкой поглядывала на сына, боялась иной раз пикнуть или шевельнуться. И она, и дочка чувствовали: скоро что-то произойдёт; едва он освоится – тут же примется за старое, только всё будет гораздо страшнее, чем десять лет назад. Казалось, ничего людского в этом существе не сохранилось – одно звериное. А было ли оно раньше, то людское?
– Лучше б он не возвращался, – сказала Олька, помолчав. – Лучше б его убили на зоне.
– Не надо так, – робко возразил Ерошка. – Брат всё-таки, а не чужой человек.
– Вот именно, что чужой, – ответила Олька.
Гуляли они недолго, девочка была на взводе, думать и говорить толком ни о чём, кроме исходящей от брательника опасности, не могла.
Они посидели на поваленном дереве у дороги к толстовской усадьбе. В основном молча. В конце концов Олька попросила не провожать её до дома и пару дней не приходить. Пообещала сама дать знать Ерошке, когда будет готова увидеться. В ответ на его вялые возражения отрезала, что появляться у её дома сейчас опасно.
И ушла. Ерошка остался сидеть на бревне один. А рядом лежал кулёк с душистой лесной голубикой.
IV
В следующие два дня Ерошку грызла тревога. Он не знал, куда себя деть. Взялся было за чтение книжек, что задали на лето, – дело продвигалось из рук вон худо. Стал как проклятый работать по хозяйству – чего только не переделал, отец с матерью глядели и диву давались. Ерошка был малый работящий, но неспешный, спокойный, рассудительный. А тут… откуда такое рвение?
Пару раз порывался Ерошка пойти к Олькиному дому. Раз даже причесался и собрался было выходить, но что-то остановило. А вдруг она рассердится? А вдруг из-за этого станет только хуже? И он возвращался к работе.
Наконец настал день очередного визита к Сергееву. Ерошка этого ждал. Разговор со стариком и чтение вслух любимых книг могли бы немного успокоить, притупить едкую, гложущую тревогу.
То было жаркое, но не душное, а соломенно-сухое августовское утро. По краснорогским улочкам гулял беспечный ветерок – подымал пыль, ворошил кроны деревьев, словно взбивал пальцами пышные причёски. Дорогу перебегали туда-сюда суетливые куры. С главной улицы то и дело доносилось поскрипывание старого велосипеда или мерное рычание мотоблока, запряжённого в громыхающую телегу.
Ерошка собрал старику еды, прибежал, стал стучать в дверь. Сергеев долго не открывал. Парень стучал и стучал. В первый раз такое. Сергей Сергеевич никогда не забывал, что они договорились о встрече, а из дому теперь почти не выходил – так и не освоился без зрения.
Ерошка приложил ухо к двери. Ни звука. Стал снова стучать. Выглянула соседка – дородная молодая баба.
– Чего колотишь?! Ребёнка мне разбудил!
– Сергей Сергеича не видали? – спросил он.
Она задумалась.
– В последние дни не видала.
– Ладно.
Он стал спускаться по лестнице. Лихорадочно перебирал в голове, что можно сделать.
Придумал! После нескольких первых встреч, когда Сергеев достаточно хорошо познакомился с мальчиком, он вручил ему кольцо с парой запасных ключей от квартиры – на всякий случай. Ерошка положил его в ящик письменного стола, за которым он и Сенька делали домашку, и забыл об этом. Даже если б старик разрешил пользоваться ключами каждый раз, Ерошка не стал бы – как-то стеснительно вламываться без спроса в чужую квартиру, даже если договорились заранее и назначили время. Но ничего такого они и не обговаривали. Сергеев сказал – «мало ли что».
И вот – это самое «мало ли что» наступило.
Ерошка прибежал домой, стал рыться в забитых до отказа ящиках – не помнил точно, в какой из них положил ключи. Сначала беспорядочно ворошил горы добра, потом взял себя в руки – стал терпеливо перебирать.
Вот они, нашёл.
Вернулся к Сергееву. Дрожащими пальцами отпер верхний замок – нижний оказался незаперт.
Вонь стояла нестерпимая. Пахло тухлятиной и мочой. У Ерошки заслезились глаза. Он понимал, что произошло, но поверить всё ещё отказывался. Пока не увидел.
В единственной тесной комнатушке с запертыми наглухо окнами, в невыносимой духоте и вони сидел в кресле, откинувшись, Сергеев. Одна рука застыла на груди, другая свесилась через подлокотник. Старый учитель всегда встречал молодого друга, что называется, «при параде» – в брюках (хоть и неглаженых), рубашке, кофте. Теперь же он был одет в драные чёрные кальсоны и голубую ночную сорочку. На груди сорочка пропиталась чем-то жёлто-коричневым, засохшим до корки. Кисти рук опухли и посинели.
Лицо закрывала книжка Алексея Константиновича Толстого – первый том собрания сочинений. Видать, Сергеев почувствовал близкий конец и взял-таки в руки свой любимый томик – попытался хоть что-нибудь разобрать на страницах. Или просто водил пальцами по шершавой бумаге, слушал живой, манящий шелест. Может быть, вдыхал в последний раз их запах.
Ерошка всё ещё верил не до конца. Зажимая нос, он приблизился к Сергею Сергеевичу, окликнул тихонько. Потом взял двумя пальцами томик Толстого за переплёт, потянул. Книжка оказалась у него в руке, а один пропитанный коричневым лист легко отделился и остался на лице покойника, прилипший.
Мальчик невольно прочёл строки поплывших от трупной влаги букв:
Бор сосновый в стране одинокой стоит;
В нём ручей меж деревьев бежит и журчит.
Я люблю тот ручей, я люблю ту страну,
Я люблю в том лесу вспоминать старину.
V
Сергеев долго мерил прихрамывающим шагом расстояние вдоль церковной изгороди, мерно постукивал наконечником трости по бугристому асфальту. Село было сонное в тот субботний августовский полдень. На улице Толстого – почти никого. Редкий местный, проходя мимо, искоса поглядывал на сухого, подтянутого, гладко выбритого старика с коротким сивым ёжиком волос, щегольской бамбуковой тростью и в светло-бежевом клетчатом пиджаке.
Кузьма всё не ехал. Минут пятнадцать уж как запаздывал.
– Никифор Ильич! – В дверях церкви показалась улыбчивая свечница, она же уборщица и на все руки батюшке помощница. Сергеев давно был с ней знаком, но никогда не знал, как её звать.
– О-о-о-о-о, сколько лет сколько зим, матушка! – изобразил Сергеев радость от неожиданной встречи.
– Здравствуйте-здравствуйте, дорогой! – Женщина спустилась с крыльца – почти сбежала, слишком резво для своих немолодых лет. – А что это вы за околицей маетесь, к нам не заходите?
Не дожидаясь повторного приглашения, Никифор вошёл в незапертую калитку.
– Такое несчастье, такое несчастье! – запричитала свечница, разом поменявшись в лице. – Так жаль Сергея Сергеевича, царство ему небесное и вечный покой…
Сергеев вздохнул, помолчал, сдвинув брови в сумбурных раздумьях.
– Тяжеловато ему было в последнее время, – сказал он. – Не хотел он на пенсию уходить, никак не хотел. Всю жизнь в самой гуще народного просвещения, а тут – раз, и обрубили. Уходи, мол, на покой. А чего ему на пенсии делать-то? Внуков нет, детей нет. Даже огородика – и того нету…
– Зайдёте к нам свечечку за упокой поставить? – жестом пригласила она Сергеева.
– Я б с радостью, да другого брата дожидаюсь. Вот-вот явится. Знаете что… – Он пошарил по карманам, достал двухсотенную бумажку. – Вот, возьмите, поставьте за меня. А не то, боюсь, увидит Кузьма, что меня нет, мало ли чего удумает. Поедет на остановку ждать, например. Разминёмся.
Свечница приняла бумажку не глядя.
– Вы к нам автобусом из Брянска прибыли? – спросила.
– Автобусом, а как же ещё. Машину давненько уж не вожу.
– Дела уладить явились, или как, или что?
– Да какие уж тут дела. Собственности-то брат не нажил. Всё, что осталось, – книги, записи да грамоты. Квартиру не приватизировал, казённая – сельсовет скоро обратно заберёт. Пожитками Кузьма займётся. Он и живёт неподалёку, и машина у него есть. Книжки в библиотеку свезёт, а остальное… не знаю, разберётся. Сегодня вот решили мы с ним вдвоём в Емельяновку съездить. На похороны-то я не успел – был с делегацией от института в Москве. Уж когда приехал, до меня Кузьма только дозвонился.
– Вы всё работаете, на пенсию не собираетесь?
– Работаю, преподаю. Куда деваться. Как и Сергей, ума не приложу, чем на пенсии себя занять.
– Как ваше здоровье?
– Не жалуюсь, только вот нога беспокоит – старое увечье дало о себе знать. В свободной стране теперь живём, но передвижение для меня сделалось не таким свободным, как раньше. – Он сдержанно посмеялся своей шутке. Улыбнулась и свечница.
– Понимаю, понимаю… А мы вот склепик графский давеча подновили. Пойдёмте, покажу.
Она подхватила его под руку и повела к склепу Толстых слева от церкви, на земляном возвышении. Склеп каменный, белый, с двумя чёрными чугунными створками по бокам: на одной указано имя графа, на другой – его супруги, Софьи Андреевны. Крыша металлическая, четырёхскатная, свежеокрашенная в тёмно-зелёный. У изножья барабан с маковкой. Трава вокруг скошена, кое-где на земле пятнышки побелки. Дальше, позади, вдоль церкви выстроились захоронения Жемчужниковых и других родственников поэта.
– Это хорошо, что присматриваете, – одобрил Никифор.
– А как же не присматривать, голубчик Никифор Ильич. Это ведь наследие наше. Батюшка заботится, мы тоже стараемся по мере сил.
– Хорошо стараетесь, молодцы. Пример подаёте… Кругом-то всё рушится. Деньги, деньги, деньги – больше людям ничего не интересно стало. Никому он сейчас не нужен, Толстой, с его стихами, увы…
– Ну, вы уж так не скажите, голубчик, – возразила служительница. – Придёт время – образумятся люди. Обязательно так будет!
– Только, боюсь, не доживём мы, матушка, до тех счастливых времён…
Они помолчали, слушая, как чирикают птицы да нашёптывает ветерок под сенью вековых деревьев. Там совсем не было жарко – наоборот, свежо и приятно. Эх, тут бы и остаться, – подумал Сергеев. Такое умиротворение. Нет места лучше, где граф мог бы найти свой последний приют и покой. Удивительно, что и церковь и все захоронения при ней остались невредимы и в революцию, и в большой террор, и в войну. Какое всё было, такое и осталось. Усадьбу толстовскую до основания разгромили в боях, пришлось восстанавливать – а церковь и склеп остались нетронутыми. Удивительные дела.
– А ведь Сергей Сергеевич книгу писал о Толстом! – с придыханием произнесла свечница. – Ну, вы это и без меня знаете… Напечатать не надеялся, но мечтать-то мечтал! Может быть… – Она потупилась, стала мять грубыми пальцами подол. – Может быть, вы возьмётесь кончить это дело? Сергей Сергеевич упокоился бы с миром.
– Неужто думаете, будто без этого не упокоится? – отозвался Сергеев, стараясь говорить настолько мягко, насколько умел, чтобы в его тоне собеседнице не послышалось обвинения или упрёка. – Кажется мне, не больно-то это вяжется с православным учением.
– Ой… ой… – замялась женщина. – Глупая я баба… Глупую жизнь прожила, вот до сих пор и мелю одну глупость, ничего путного…
– Да ну, что вы! – смутился Сергеев. – Я вовсе не то хотел сказать. Просто, наверное, брату в его нынешнем, так сказать, пребывании публикация книги о Толстом не так важна, как была при жизни земной, – это я имел в виду.
– Сергей Сергеич его любил, Толстого-то…
– Знаю. Знаю. Но кому в наше время такая книга была бы нужна? Сами подумайте. В наши дни даже чтобы повысить себе звание в научной среде – и то приходится за свой счёт печатать брошюры, а потом, извините за выражение, втюхивать студентам, чтоб эта макулатура не пылилась дома на антресоли годами. А книга о графе Толстом из Красного Рога? Разве хоть одно издательство возьмётся на свой страх и риск такое печатать, будь это хоть тысячу раз полезно обществу?
– Ну, я не… – попыталась было поддержать разговор свечница. Но Сергеев её словно бы не слышал.
– Наоборот – с большой охотой напечатают то, что обществу вредно. Вся эта жвачка из проходных, плохо написанных детективов, пошлой, штампованной фантастики выходит миллионами тиражей, а какая-нибудь научная монография – в смехотворных пяти сотнях экземпляров. Каково, а?! Катимся на дно. Со свистом. И брат мой это понимал лучше нас с вами. Потому и не кончил книгу. Захотел бы при жизни – думаете, его хоть что-то смогло бы остановить? Вот я уверен, что нет, не смогло бы. Он её, может быть, для себя писал, ту книгу, а не на потребу, простите… охлосу! Может, публикация, наоборот, стала бы ему жестоким оскорблением, пощёчиной. Ему, его памяти. Он и без того много хорошего сделал. Очень много. Больше, чем кажется.
Собеседница плотно сжала губы и с виноватым видом уставилась на склеп.
– Да и взять хотя бы вот этого вот Толстого, Алексея Константиновича, – не унимался Никифор. – Казалось бы – наша гордость. Ходим, щёки надуваем, хотя сами-то мы тут при чём? Разве наша заслуга, что обитаем рядом с его усадьбой, где он даже не родился, а просто пожил с десяток лет? Да вот уж вряд ли! Но нет – грудь колесом: такой, мол, поэт был замечательный, наше всё, без пяти минут Пушкин. Школьников в усадьбу со всей области возят, хотя от настоящего толстовского гнезда там и кирпичика не осталось. Любим, любим Алексея Константиновича, как отца родного! Души не чаем! А где ж тогда миллионные тиражи его книг?! Что при СССР напечатали, то и имеем. Сущие крохи! А в наши дни не то что миллионных тиражей, а вообще никаких нету! Ну, разве что та проза, которая у него про вампиров, – вот это публике интере-е-е-е-е-есно, да-а-а-а-а-а! Острые сюжеты подавай. А где мысль чуть поглубже – всё, уже мозгов, простите меня за резкость, не хватает…
Сергеев поймал себя на том, что вот-вот пустится в откровенное юродство. Смолк, по примеру свечницы уставился на склеп.
Повисло гнетущее молчание. Женщина переминалась с ноги на ногу – она Толстого чтила, как и большинство здесь, но за всю свою жизнь прочла лишь пару-тройку его стихотворений и потому приняла обличительную тираду Сергеева на свой счёт.
Трудно сказать, в какую степь понёсся бы дальше тот несуразный разговор, если б не голос от калитки:
– Простите.
Скрипнули петли. Никифор со свечницей обернулись. К ним поднимался хорошо одетый молодой человек – худощавый, с модной стрижкой и в очках-хамелеонах. Чёрная сумка через плечо. Явно с дороги. Сунул руку в карман, извлёк и протянул визитку.
– Добрый день. Я журналист из Москвы.
Сергеев карточку машинально принял, сощурился, прочёл имя владельца и название периодического издания, но ни слова не запомнил – передал обратно, не предложив свечнице тоже ознакомиться.
– Пишу большой исследовательский материал о влиянии мистического фольклора на творчество Але… – У журналиста глаза полезли на лоб. – Это что… его МОГИЛА?!
– Склеп, – поправил Никифор.
– Граф с супругой тут похоронены, – добавила служительница.
– О-чу-меть.
– Вы, молодой человек, пожалуйста, выражайтесь как-нибудь покультурнее, – мягко осадила его женщина. – У церкви всё-таки находитесь.
– Пардон, – нехотя извинился гость. – А фотографировать можно?
– Пожалуйста, фотографируйте. Нельзя только в храме, а тут не запрещено.
Журналист снял с плеча сумку, поставил на землю, стал дрожащими руками расчехлять фотоаппарат.
– Вот тебе и «большой исследовательский материал», – буркнул Никифор.
– Фольклор собираете? – спросила свечница.
– Да. Поверья, легенды, прочее подобное.
– Ищете местных, которые вам что-нибудь расскажут? Иначе, наверное, не потащились бы в такую даль.
– Вроде того. – Парень занимался своим делом – фотографировал, не глядя на собеседницу.
– Так давайте я вас отведу туда, где вам много такого расскажут. С пустыми руками в свою Москву точно не уедете.
– Вот это было бы чудесно! – обрадовался молодой человек. – Только несколько снимков сделаю, пара минут.
Вдалеке, со стороны посёлка у железнодорожной станции (километров восемь от села, называется тоже Красный Рог), послышалось нарастающее тарахтение мотора. Вскоре у церковной калитки показались старые «жигули».
VI
Распрощавшись со служительницей и дежурно пожелав успехов московскому журналисту, Никифор уселся на переднее пассажирское сиденье пропахшего маслом и дымом дешёвых папирос «жигулёнка». Кузьма совсем не изменился за пару лет, что они не видались. Пунцовое лицо гипертоника, слезящиеся глаза с мешками, седая борода, грубые мозолистые ручищи, засаленная рубаха, серое тканевое кепи.
Кузьме Петровичу, как и двум его троюродным братьям, было под семьдесят. Как и Никифор, он пока ещё не вышел на пенсию – служил путевым обходчиком на станции Красный Рог. Сыновья выросли и осели там же, в посёлке при станции, у каждого своё хозяйство, обзавелись жёнами да детьми. Зато повзрослевшие внуки не слишком-то ценили прелести малой родины и потихоньку, один за другим, разъезжались кто куда.
Братья Сергеевы ехали на кладбище исчезнувшей деревни Емельяновки – именно там Сергей Сергеевич просил его похоронить, рядом с матерью, бабкой и дедом, – и не раз о том напоминал. Мать с отцом схоронили порознь, каждого на погосте своего родного селения. Она родилась в Емельяновке, вышла замуж за красавца из посёлка Сергеевского, переехала жить туда. Её родители дожили оба почти до ста лет, пережили всех своих детей. Всю жизнь провели в родной Емельяновке. Сергей Сергеев исправно навещал их – и в детстве с родными братьями да сёстрами ходил к бабке с дедом в гости пешком, и потом, будучи взрослым, часто приезжал. Добрые были люди. Хорошие, крепкие, основательные…
Кузьма с Никифором в основном молчали. Слушали гул мотора, лишь изредка перебрасывались парой-другой коротких фраз. Ехали в Емельяновку по просёлкам. За Красным Рогом – живая, кипящая хозяйственными работами деревня Тарасики: она не то что не вымерла, а некоторые местные даже ухитрились в нелёгкое время поставить да обустроить новенькие двухэтажные кирпичные дома. Потом – Красномайская. Чем дальше вглубь, тем хуже дела. В противоположность соседним Тарасикам, Красномайская вымирала – это было сразу заметно по брошенным хатам, что тянулись сплошняком, с заколоченными ставнями и ежом репейника вдоль фасадов. Ещё дальше – Москали с большим, нарядным кладбищем да парой-тройкой захудалых домишек.
Никифор Ильич помнил Москали как крупную, протяжённую деревню, развесёлую да разудалую. А теперь едва узнавал то, что видел. Двухкилометровая полоса густой дурнины, гнилые остатки штакетника торчат, как кривые старушечьи зубы; кое-где горелые чёрные развалины да груды досок щерятся ржавыми гвоздями.
– Давно тут… так? – спросил Никифор, пока они ехали вдоль Москалей.
– Давненько уж, – неопределённо пожевал губами Кузьма. – Я сам-то в этих краях редко бываю, чего мне тут делать. Говорят, пожары бушевали, много домов погорело. На какие шиши людя́м сызнова отстраиваться? Вот и подались кто куда. А иные и сгорели заживо.
За Москалями Кузьма круто дал влево, на ухабистую, едва заметную дорогу. Место, где раньше стояла деревня Емельяновка, хорошо просматривалось справа. Пара скрюченных яблонь – вот всё, что от неё осталось. Деревня возникла в конце семнадцатого века, при Петре. Пережила Романовых, три революции, две войны, сталинский террор… Померла тихо-мирно, своей смертью, в восемьдесят шестом, десять лет назад, вместе со своими последними престарелыми обитателями.
Только кладбище осталось. К нему и вела ухабистая дорога через луг от Москалей. Перед мысленным взором Никифора Ильича проносились картины молодости – все эти родные свои места они с братьями исходили пешком вдоль и поперёк. Были тут и колхозы, и машинно-тракторные станции, и водокачки, и поля кругом распаханные, и парни с девками гульбанили. Жили так-то дружно, но случались и драки – деревня на деревню. Молотилово немыслимое: синяки, кровь, переломы. Но потом мирились, братались, вновь становились как родные.
– Помнишь, как тут в наши лучшие годы жизнь-то через край кипела, а?! – деланно-бодро сказал Никифор.
– Кипела-кипела да и выкипела вся, – мрачно отозвался Кузьма, дымя вонючей папиросой.
– Как дела у вас на станции? – сменил тему Никифор.
– Да как… так-сяк. Держимся. Железная дорога кормит. Да и лесовозы ездят. Даже сельсовет покамест не закрыли.
– Ты ещё в сельсовете?
– Да не-е-е-е, год как. Мне эти общественные начала уж давно поперёк горла встряли. Никому ничего не надо, каждый сам за себя стал… А мне оно для какой надобности? Да и староват я уже, сдаю потихоньку.
– Как дети? Как внуки?
– Своим чередом. Пашка с Валеркой под отцовским крылышком, так сказать, под боком. – Тут на лице Кузьмы Петровича заиграла довольная улыбка. Скулы зарделись, глаза превратились в узкие щёлки. Он гордился тем, что его отпрыски остались на малой родине и своих детей тоже вырастили здесь, хоть внуки и подались всё равно в Брянск.
– А твои как? – не без лёгкого злорадства спросил Кузьма. Он считал, что Никифор совершил страшную ошибку, когда в молодости перебрался в областной город работать и жить. Раз в сильном подпитии при встрече в сердцах назвал брата «общежитской крысой» – тогда молодому преподавателю ещё не выделили квартиру, бездетным холостякам в городе не положено. Чуть было до драки не дошло. С годами Кузьма стал вести себя сдержаннее, но мнения своего не изменил и видом своим всегда показывал, что думает о жизненном пути Никифора.
– Ну, как… – неопределённо откликнулся Никифор Ильич. – По-всякому.
– В Москве?
– В Москве.
Дети у Никифора были поздние. С женой не заладилось, разошлись, когда мальчик с девочкой ещё учились в начальной школе. Бывшая супруга после развода сразу взялась настраивать ребятишек против отца. Когда они стали подростками, отношения совсем испортились. Связь кое-как поддерживали, но отец был им на деле чужим человеком. Внуков Никифор Ильич видел всего-то несколько раз – дедушкой они его не считали и не называли.
– В-о-о-о-он оно как, – протянул Кузьма Петрович не то сочувственно, не то назидательно – скорее второе.
Остаток пути до кладбища помалкивали – Кузьма только цокал языком да вертел головой. Думал о чём-то, но мыслями не делился. Впрочем, Никифор Ильич всё понимал и так.
Емельяновское кладбище робко выглядывало с краю большой, заваленной буреломом рощи.
– Приехали, – буркнул Кузьма Петрович.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































