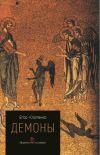Текст книги "Наука и магия в античном мире"

Автор книги: Александр Амфитеатров
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
9
Крейцер много распространяется об этрусских фульгураторах, которым легендарные цари римские Нума и Тулл Гостилий были обязаны будто бы волшебною властью над молнией, уменьем заклинать её, вызывать, сопровождаемую громом, при ясном небе и бросать на вражеские полчища, как описывает это Овидий. Понятен ужас, объявший римское войско в первый раз, что оно увидело этих чудодеев, точно живых фурий, со змеями в руках. «Невообразимый, исступлённый ужас, – говорит Крейцер, – нападал на тех, кто дерзал читать священные книги, заключавшие ритуал молниеносцев». Однако, судя по отрывкам, дошедшим до нашего времени, они содержали в себе только молитвы, да чин заклинания. Надо отдать справедливость рационалистическим комментаторам этого баснословия, – объясняли они его весьма нелепо. Сальверт, например, находит в этрусских бросателях молнии «более или менее счастливых предшественников Франклина», или предполагает за ними искусство ловко пользоваться химическими веществами, весьма обыкновенными в странах экзотических, но неведомыми на родине шарлатанов. Подобные объяснения – отчасти отбросы безнадёжно провалившегося ещё в восемнадцатом веке эвгемеризма, отчасти – плоды знаменитой гипотезы Dutens’а, возведённой в научную теорию Балльи, – о великой исчезнувшей доисторической культуре, которой египетская и эллинская цивилизации были будто бы только выродившимися остатками и переживаниями. За известность древним многих прикладных явлений электрической силы, по следам Dutens’а, Балльи и Гоге, высказались в девятнадцатом веке Сальверт, Моран, Фурнье, Сестье и Мегю. Такие гипотезы, не содержа в себе научных данных, ни к чему не обязывают своих изобретателей, кроме пылкой фантазии и известной доли остроумия. Однако, господство их и распространение в обществе едва ли многим симпатичнее суеверий, которые они не разрушают, а, напротив, укрепляют странностью своих, слишком натянутых, допущений. Сальверту, например, особенно не везло с огненными чудесами. Чтобы объяснить библейское чудо низведения огня на землю пророком Илиею, в состязании его с 970 жрецами Ваала, он прибегает к какой-то театральной махинации, воспламеняющей смесь эфира и винного спирта, потом к негашёной извести, которая, будучи полита водою, загорается и дымит, потом к хлористокислой соде и т. д. Столь естественные объяснения неестественнее всякого чуда. Некоторого внимания, пожалуй, заслуживает ещё негашёная известь. Но неужели свойства её, будучи известны Илии, не были, известны жрецам Ваала, – бога Финикии, бога Вавилона, откуда родом вся магия со всяким магическим фокусничеством? Хитрость пустить в дело негашёную известь – невеликая, а жрецы, несомненно, были весьма искушены в огненных чудесах, ибо, иначе, с какой бы стати принимать им вызов на состязание в чуде, да ещё под условием смертной казни для побеждённой стороны? На празднествах Диониса в Риме вакханки опускали в Тибр зажжённые факелы, и они не гасли от воды, так как содержали негашёную известь. Августин старательно изобличает подложность одного языческого чуда – неугасимой, горящей на открытом воздухе, Венериной лампады: апологет объясняет этот вечный огонь свойствами асбеста, горного льна. Павсаний, хотя и суевер, но далеко не хвастливый, как очевидец чудес, рассказывает о восточном маге, который, стоя в значительном расстоянии от жертвенного костра, воспламенял его своею молитвою. О фокусах Архимеда и Демокрита с зажигательным стеклом сложились целые легенды; первый будто бы производил ими пожары в римской осадной артиллерии при блокаде Сиракуз, второй выжег собственные глаза, дабы не соблазняться женщинами и не отвлекаться чувственными помыслами от философского умозрения. Основная и истинная идея этих легенд – что управлять тепловою энергией солнечного луча мир умеет уже очень давно. Гораздо удачнее Сальверта объясняет Гиббон огненные чудеса, из-за которых Юлиану Отступнику не удалось восстановить Иерусалимского храма, – воспламенением рудничного газа, скопившегося в подземельях под многовековым фундаментом здания; чудо это, к тому же, случилось не в первый раз: когда царь Ирод спустился в гробницу Давида, в надежде найти там большие сокровища, то совершенно так же, как при Юлиане, в подземелье вспыхнуло большое пламя, лишившее жизни двух спутников царя. Что касается театральных машин, производящих «калхасов» гром и молнию, – до нас дошли Pneumatica Герона, любопытная книга наставлений и рецептов, как делать в храмах чудеса: вызывать разные огненные явления, таинственные звуки, гром и молнию, призраки, тени, странные голоса и т. д. Калигула, при посредстве подобных религиозно-театральных машин, вёл войну с Юпитером, бросая в воздух серные огни, отвечая на громы небесные раскатами своих рукотворных громов. Искусственные проявления якобы атмосферного электричества и огненные привидения играли важную роль в Элевзинских мистериях, да и во всех других, до грядущего розенкрейцерства включительно. Посвящаясь в Элевзисе, Юлиан Отступник был так смущён одним из этих пламенных призраков, что в испуге, забыв о своём сане языческого первожреца, вспомнил наставления своей христианской юности и перекрестился. Призрак тотчас же исчез – от негодования, как уверяли язычники, – от страха, по мнению христиан. Вот новое доказательство, насколько обе враждующие стороны искренно относились к чудесам противников: ни язычники, ни христиане равно не усматривали в мистериях жреческого шарлатанства, но видели в них разумное действие сверх естественной силы – одни доброй, другие злой.
Единичные проявления химического или физического фокусничества не дают нам, однако, права распространить объяснение им на все огненные чудеса древнего мира. Приписывать их всецело средствам тогдашней науки значит городить на старый миф миф новый. В великолепном своём рассуждении о философских мифах Тейлор даёт прекрасные образцы, как европейцы, разрушая мифологические воззрения о богах, демонах, героях, чудесных зверях, сами, однако, ставили на место их не точное знание, но новую мифологию гипотез по здравому смыслу. Так, окаменелые кости, найденные в швейцарских Альпах, были приписаны слонам Ганнибала; отысканные около Мон Сени устричные раковины навели Вольтера на мысль о пилигримах, идущих в Рим и т. д. Фабрикацию таких же «философских мифов» представляют собою гипотезы Сальверта, Морана и всех, которые с ними. Каким образом проделывали фульгураторы свои молниеносные фокусы, мы, разумеется, объяснить не в состоянии, разве что предположим их результатом извечно и повсеместно известной гипнотической мороки, прославившей в наши дни, – с лёгкой руки Жакольо, – факиров Индостана. Даже наши русские сказки «о мороке» знают этот фокус стихийного внушения: «дока», отводя глаза барину, заставляет его пережить воображением страшную грозу, наводнение, кораблекрушение и т. п. Что иллюзии гипноза могут быть не только индивидуальные, но и массовые, также доказано множеством опытов, засвидетельствованных сотнями очевидцев. Но, как бы то ни было, – что тем или другим способом фокусы, действительно, производились, – вряд ли можно сомневаться. Римляне даже выработали специальные термины для видов молнии: bruta et vana – молнии атмосферные, обычно-грозовые, и expiabilia – призванные заклятиями и молитвами.
Конечно, самыми трудными к объяснению остаются те атмосферные чудеса, которые производились на открытом воздухе и при больших стечениях зрителей. Мне кажется, что здесь были бы слишком рискованными наглые жреческие уверения, что гром гремит слева или справа, тогда как никто не слышит никакого грома; о подобных проделках авгуров с негодованием говорит Цицерон. Тут что-нибудь не так. Нельзя представить себе, чтобы целый народ, да ещё такой умный и положительный, как римский, из года в год, изо дня в день, в течение многих столетий, сообразовал свою державную волю со звуками, которых никто не слышит, с молниями, которых никто не видит. Римлянин скептик более эллина, который тоже мудрости ищет, а не чуда. Credat iudaeus Apella! – презрительно восклицает Гораций по поводу одного огненного чуда, весьма похожего на современное неаполитанское чудо св. Януария. Но и еврейское суеверие было не так уже податливо на огненные фокусы: возражая на книгу Апиона, родоначальника современных антисемитов, Иосиф Флавий с большим презрением говорит об одном сооружении в этом роде, как чересчур первобытном и способном напугать разве ребёнка, а не целый народ.
Не могло ли быть так, что пресловутая фульгурация обязывалась к фактически наглядным чудесам лишь в исключительных случаях, – вроде объявления войны, – допускающих известную подготовку к искусственной симуляции электрических явлений или хоть вероятный расчёт на непременное скорое действие атмосферного электричества? Вообще же роль фульгурации могла ограничиваться просто метеорологическими наблюдениями: гром и молния, о которых фульгураторы возвещали магистратам, далеко не всегда должны были величественно оглушать и ослеплять чиновное присутствие и народ. Тем более, что громовых знамений требовалось от неба великое множество по великому множеству практических, требующих быстрого разрешения, вопросов, и, хотя две тысячи лет назад климат южной Европы был, по-видимому, богаче грозами, чем сейчас, однако, на сложные политические гадания столь великого государства их, конечно, не могло доставать. Поэтому, остановимся на мысли, что делом фульгуратора было не вызвать и показать грозу, но объявить, где он, по знаниям своим, её предвидит, в какой стороне она должна разразиться. То есть – определить направление в данный момент электрического напряжения атмосферы и предупредить о нём, как теперь предупреждает о том же своих товарищей любой телеграфист, любая телефонистка. Так как вопрос определения шёл только о правой или левой стороне, то и ответ не требовал слишком больших и точных знаний, мог достигаться грубыми снарядами и даже просто приметами. Что авгуры имели свои обсерватории, это известно; а, раз имелись обсерватории, то делали же на них и какие-нибудь наблюдения. К тому же, физическое изучение грома и молнии шло в Риме довольно далеко и успешно: даже от Плиния и Сенеки есть чему научиться о феноменах грозы. Гром без молнии, молния без грома, гром с ясного неба, формы молнии, направления, характер, причуды её ударов, условия, привлекающие молнию, зарницы, огоньки Кастора и Поллукса (св. Эльма), – все эти наблюдения имеются на страницах популярных книг для самообразования, которыми просвещалось общество Нерона и Флавиев. Нелепые подробности унижают эти почтенные описания только в тех случаях, когда естественного объяснения мало и требуются ссылки на религиозную сторону факта, на его значение в культе. Таким образом, Плиний заставляет себя и других верить в астральное происхождение молнии, – будто «важнейшие» удары её падают прямо с планет Марса, Сатурна, Юпитера. Это учение родственно звёздной науке маздеистов и, как все отголоски тайного азиатского знания, прошло в эллино-римский мир через александрийских учёных иудеев. «Видел я, – говорит в своём апокрифе таинственный лже-Енох, – видел я относительно молний, как они возникают из звёзд и становятся молниями и не могут восстановить своего прежнего вида». «Я видел сатану, спавшего, как молния, с небес», – гласит Евангелие. Выше уже объяснено, как звёзды и духи роднились в маздеизме и заимствованных из него иудейских мифах. Звезда – демон; падающая звезда – демон, ринувшийся в мир; молния – падающая звезда, зримая на близком расстоянии; молния – звёздный демон. Это рассуждение роднит фульгурацию с астрологией, которая со временем и стала на её место в суевериях конца античной цивилизации и в цивилизации средневековья и Возрождения.
Фильгурация вымерла сразу. Вера в правду и могущество её жрецов надолго пережила в Риме господство языческого государственного культа. Во время осады Рима Аларихом, этрусские заклинатели молнии предложили правительству свои услуги, обещая испепелить лагерь врага. Авторитет волшебства оказался настолько живучим и сильным, что ему поддался даже епископ римский, папа Иннокентий. Опыт не состоялся только потому, что в римском сенате нашлись люди, довольно благоразумные, чтобы понять, какою опасностью угрожало молодому христианству языческое чудо, если бы, по какому-нибудь случайному совпадению атмосферных условий, оно получило хоть слабый намёк на удачу.
Понятно, что столь обстоятельно, научно, можно сказать, регистрированное суеверие не могло стоять неподвижно; оно развивалось и разветвлялось. Средневековая вера, что бури, грозы, градобития и другие опустошения нив – дело демонов, повинующихся злым чародеям, было хорошо знакомо самой глубокой древности. Папе Иннокентию VIII принадлежит только незавидная честь возведения этих сказок в научно-богословский догмат. Стрепсиад в «Облаках» Аристофана говорит о фессалийской колдунье, которая сводит месяц с небесного свода и прячет в лукошко – точь-в-точь, как две тысячи лет спустя, в ночь под Рождество, упражняются в том же ремесле бес и великолепная Солоха. Лукан, поэт и блестящий представитель Неронова двора, по убеждениям философским стоик, по религиозным – свободомыслящий невер, принимает простонародную магию, «гоэтию», отвергая богов. «Почему, – восклицает он в своих революционных „Фарсалиях“, – почему ужасные заклинания действуют на богов, глухих к благочестивым молениям целого народа? Почему эта женщина, пренебрегающая молитвами и жертвоприношениями, имеет могущество угрожать небесам? Слова фессалийской колдуньи насилуют богов, удивлённый Юпитер слышит гром и видит, как миры останавливаются без его повеления». Лукан трепещет и изумляется пред колдовством знахарки, простонародной ведьмы, какими кишел Рим в последний век республики и при первых цезарях империи. То были немножко гадалки, немножко сводни, немножко отравительницы. Золотой век волшебства начался позже, когда за магию, в религиозно-научных системах феургии, взялись философы: платоники, неопифагорейцы, неоплатоники, чудодеи родом с Востока, проведшие многие годы в египетских пирамидах, или даже удостоившиеся сообщества индийских браминов. Свободные от человеческих страстей, пренебрегавшие земною пищею и питьём, они внушали к себе уважение, являясь повсюду в белом полотняном одеянии, и были охотно принимаемы в дворцах вельмож и богачей. Их возвышенная магия окончательно вылилась в форму и существо новой или, по крайней мере, обновлённой религии, – через феургию Плотина, Порфирия, Ямблиха, Прокла, чрез гнозис Василида, Валентина и других загадочных наследников Симона Волхва. Феургия и гнозис сходятся в третьем веке до такой интимности, что в божнице одной карпократианки очутились рядом фигуры Христа и Пифагора. Чудодейственная сила феургов предполагалась истекающею из святости их жизни; они владели богами и демонами уже не чрез формулы и заклинания, но кто победил человеческую природу, – стал сам как бог, он выше демонов, они слушают его, как трепещущие рабы своего господина, он человеко-бог. В колдовстве власть над демонами – договорная, условная и временная, в неоплатонической и неопифагорейской феургии – вечная и абсолютная. Мысль победы над демонизмом чрез нравственное совершенствование получила яркое развитие в христианском аскетизме. Св. Павел Фивейский, когда братия удивлялась, что он бестрепетно берёт в руки змей и скорпионов, отвечал: «Если приобретёт кто чистоту, всё покорится ему, как Адаму, когда он был в раю, прежде, чем преступил заповедь». Аполлоний Тианский понимает язык птиц, побивает камнями демона чумы, изгоняет кровожадную невесту-ламию. От пьяных ведьм римской республики к Аполлонию Тианскому, Ямблиху, Плотину – скачок гораздо больший, чем, например, от ворожей, гадающих купчихам на кофейной гуще об их «предметах», до сатанического культа Сара Пеладана, до теософизма Блаватской и т. д. Неоплатонический идеал отражал в себе идеал мессианический, – не даром же роман Филострата считается языческим евангелием, – но отражал обратными лучами: мессианисты ждали и ждут (в еврействе) Бога, который станет человеком, платоники – человека, который станет богом. Расцвет могущества и обаяния языческого мессианизма, выраженного в культе Митры, благоговейно ценимом во всех неоплатонических системах, падает на третий век христианской эры. Но первую ласточку этой философско-магической весны в Риме надо видеть в Нигидии Фигуле, знатном представителе старой аристократической партии, скончавшемся в 45 г. до Р. X. вне Италии, политическим изгнанником. С удивительно разностороннею учёностью и ещё более изумительною силою веры, – говорит Моммсен, – он создал из самых разрозненных элементов философско-религиозное построение, в котором орфическая мудрость греков и древнейшие местные верования, обновлённые философскими комментариями, слились с персидскими, халдейскими и египетскими тайными учениями, с мистическими фокусами на подкладке естествознания и т. п. Сюда же приспособил Фигул результаты магии древних тусков и теорию исконного римского государственного гадания по птичьему полёту. Система Фигула, прикрытая необычайно популярным в республике именем Пифагора, «друга мудрого Нумы и сотоварища умной матери Эгерии», имела огромный успех. Её приверженцы творили чудеса. Сам Нигидий предсказал отцу будущего императора Августа, в самый день рождения последнего, его грядущее величие. Прорицатели вызывали, в присутствии верующих, духов усопших и, что ещё важнее, находили покражи и потери. С лёгкой руки Нигидия, мистические клубы и общества расплодились в таком количестве, что пришлось даже принять против них полицейские меры, ибо некто Публий Ватиний, храбрый воин, увлечённый новыми таинствами, дошёл в своих магических опытах до кровавых преступлений: стал убивать детей – вероятно, для фабрикации из них оракулов вроде терафимов.
Чудодеи эти во многом были обязаны своими успехами женщинам, привлекая их к себе не только тайнами своей науки, до которых женщины во все времена были жадны, но и внешнею красотою. Александр из Абонотейха, по описанию Лукиана, был писаный красавец. Аполлоний Тианский жил суровым аскетом и женщин избегал. Тем не менее сложилась легенда, будто одна знатная дама в Селевкии Киликийской, отвергнув всех своих поклонников, отдалась ему, как некогда царица амазонок Александру Македонскому, исключительно в надежде иметь от столь знаменитого родителя, как от полубога, дитя, прекрасное красотою выше человеческой. Плодом этой, весьма сомнительной исторически, связи называли софиста Александра, по прозванию Пелоплатона, – действительно, красавца, богато одарённого умом и талантом. Апулей, также имевший прочную репутацию мага, завоевал себе ею сердце богатой Эмилии Пудентиллы и едва не погиб, привлечённый родственниками жены к суду по обвинению в любовных чарах.
Приверженность женщин к практическим проявлениям магии, как феургической, так и гоэтической, издревле положила основание предрассудку, что женщина есть существо демоническое по преимуществу. Глубокое падение женщины в века Римской империи, неистовства языческих женщин в Дионисовых празднествах, в сиро-финикийском культе и т. п. поддержали и разожгли это убеждение в обществе первых христиан настолько, что даже доблестные деяния многочисленных мучениц и подвижниц за веру не могли окончательно победить предвзятого мнения, что женщина есть сосуд диавола, его ученицы и, покорная его воле, обольстительница человеков. Пречистая Дева Мария, родившая Искупителя мира от первородного греха, не истребила из памяти своих молитвенников Еву, через которую первородный грех вошёл в мир. Культ Девы Марии и догмат непорочного зачатия должны были выдержать серьёзную борьбу с предубеждением против женщины на самой ранней заре христианства. Целый ряд древнейших еретиков (Керинф, Карпократ, эбиониты, Марк) отклонял своих последователей от почитания Девы Марии, как Матери Спасителя мира. Иисус Назорейский становится для них Христом только с крещения Своего во Иордане, когда на Него сошла сила вышней Плеромы. До посвящения Иисуса в Христы таинством Иорданским, Он, для гностиков, человек, как и все, сын Иосифа и Марии, прошедший чрез мать Свою, «как вода через трубу». Против почитания Девы Марии, как Богоматери, восставали несториане. Византийский император Константин Пятый, иконоборец, говорил, что, как кошелёк стоит значительной суммы, покуда в нём есть золото, и ничего не стоит опорожнённый, так и «Мария» (в каких-либо почтительных эпитетах он Матери Христа отказывал) заслуживала поклонения только, покуда хранила Христа, родив же Его, стала, как все женщины. Читая жития подвижников и пустынножителей четвёртого века, убеждаешься, что – после самого дьявола, – второй предмет, которого боятся они, как злейшего искушения, – это женщина. Дьявол в виде женщины – любимая галлюцинация аскетов.
На фоне апокрифов вроде «Книги Еноха», развитых апологетами, на фоне демонических сказок раввинизма, на фоне неоплатонических фантазий и гностических аллегорий, утверждается понятие о женщине, как супруге падших ангелов и матери исполинов, одинаково с первыми ставших демонами. Через женщину вошла в мир магия, через женщину в мире началось идолопоклонство. Женщины, – говорит ещё язычник Страбон, – первые стали поклоняться богам и научили этому мужчин. Старое демоническое родство между женщиною и злым духом вспомнили варварские народы христианского севера; в Галлии, в Германии оно вызревает, под аскетическою опекою средних веков, в глубокое убеждение, которое в 1478 году, в самый расцвет Возрождения, было провозглашено с епископской кафедры св. Петра, как непоколебимый церковный догмат… «Анафема тому, кто не верит в ведовство волшебниц».
Апулей считал демонов бессмертными. Более распространённое мнение стояло за то, что изнашивается и должен быть когда-нибудь сброшен даже и их лёгкий, едва телесный состав. «Девять человеческих годов живёт болтливая ворона; олень живёт четыре жизни вороны; три жизни оленя составляют жизнь ворона; жизнь феникса продолжается девять жизней ворона; а мы, кудрявоволосые нимфы, живём десять жизней феникса». На этом расчёте, исходящем будто бы ещё от Гесиода, Плутарх вычисляет жизнь нимфы и, вообще, демона в 9.720, лет. Об умирании демонов, отживших свой срок, имеются многие легенды: в числе их на первом месте стоит анекдот о странной галлюцинации Фамуса, моряка, при Тиберии. Однажды, идя с кораблём в Ионическом море, Фамус услышал с острова Пароса неземной голос, зовущий его по имени. Когда Фамус откликнулся, голос повелел ему: «Доплыв до Палидеса, объяви, что скончался Великий Пан». В назначенном месте Фамус исполнил приказание, и, в ответ на его крик с корабля, на берегу раздались вопли и стенания, как бы от великой, но невидимой толпы. Происшествие наделало не мало шума в империи, и Тиберий назначил комиссию для его исследования. В Таренте показывали и чествовали могилу местного демона Гиацинта. Оракулы ослабевали или умолкали вовсе по мере того, как старели или умирали демоны, их одушевлявшие. Скончавшийся при Тиберии, демон лесной природы, Великий Пан был уже очень стар в эпоху Варрона Реатинского, когда тот писал, что дубравные оракулы оскудевают, и «страшный голос их не раздаётся более в лесах». В Азоне Лаконском Павсаний видел скелет «бога» Эскулапа Филолая – «чрезвычайно большой, однако же человеческий». Тот же Павсаний говорит о смертности Силенов, весёлых вакхических демонов из свиты Диониса, и помещает могилы их близ Пергама и в «земле евреев». Властов подозревает, что речь идёт о гробнице близ Раббы библейской Ога Васанского из рода Рефаимов, то есть демонических исполинов, предполагавшихся автохтонами палестинскими. С косматыми, козлоногими Силенами греческой мифологии палестинских исполинов сближает иудейское представление демонов пустыни «волосатыми»: мохнатый Азазел, пышноволосая Лилит, первая жена Адама и т. д. По весьма древнему сказанию о св. Павле Фивейском, св. Антоний, путешествуя к этому отшельнику пустынею Фиваидскою, встретил в дороге только центавра и сатира. Центавр молча указал Антонию тропу к пещере Павла, а сатир принёс страннику фиников и просил его от имени всех сатиров помолиться за них Христу, о пришествии которого в мир слух проник и в пустыню. Дикие песчаные степи, вообще, почитались как бы последними убежищами этого странного поколения, полубожественного, полузверского. Древние географы помещали таборы сатиров на склоны африканского Атласа. Путешественники уверяли, будто днём в знойном краю этом всё мёртво, как в могиле, не видать ни одного живого существа. Но, едва падёт ночь, леса сверкают множеством костров, слышны музыка, пение, кипит дикая вакханалия: сатиры и жрицы Дионисовы ведут свой пьяный хоровод. Сатир – живой символ знойной пустыни, легендарный обитатель её далёких оазисов. Когда пророк иудейский, грозя своим развращённым современникам гибелью их цветущих городов и грядущею «мерзостью запустения», хотел нарисовать ужас последней сильно и понятно каждому, он посулил, что на месте жилья человеческого поселится ночное привидение, и «лешие будут перекликаться по ночам».
Религиозное пристрастие к мощам, столь типичном для греческого народа в христианстве его в византийский период, было свойственно ему уже и в язычестве. Павсаний, в данном случае, неистощимый источник указаний. Он прикладывался к костям Тезея в Афинах, к мощам Гектора в Фивах, Ореста в Спарте, видел надгробный холм Медузы в Аргосе и т. д. Он знает все истории, почему какие-либо героические мощи очутились вдали от места жизни и деятельности святого героя, и какое демоническое заступничество которому из них свойственно, и какие достопамятные чудеса помощью их когда-либо свершились. Во времена христианской победы над империей, при фанатических императорах-арианах, языческое моще– и гробопоклонничество свершалось не без риска для усердных паломников. В высшей степени любопытен в этом отношении рассказ Юлиана Отступника о посещении им, ещё принцем, даже ещё не цезарем, памятников древнего Илиона. Чтобы получить право осмотреть языческие храмы, не возбуждая тем опасных подозрений в шпионах Констанция, Юлиан взял на себя роль любопытствующего археолога. Местный христианский епископ, по имени Пегас, предложил принцу сопровождать его и повёл к гробницам Гектора и Ахиллеса. «Там, – пишет Юлиан, – заметив, что огонь ещё тлеет на алтарях, так как его только что погасили, и статуя Гектора вся блестит от вылитых на неё благовоний, я сказал, пристально смотря на Пегаса: „Как, жители Илиона ещё приносят жертвы?“ Мне хотелось, не подавая вида, узнать его мнение. Он ответил: „Что же удивительного, что они почитают память великого человека, который был их соотечественником, подобно тому, как мы это делаем со своими мучениками?“» Затем Пегас показал Юлиану другие илионские святыни, прося его обратить внимание на их сохранность, и окончательно пленил принца необычною для христианина почтительностью к иноверным кумирам. Впоследствии этот Пегас откровенно возвратился к язычеству и был очень любим Юлианом, уже императором. Два христианина-притворщика, из которых один епископ, а другой будущий император, пред реликвиями язычества, которым оба выражают явную небрежность, питая к ним тайное благоговение, – какая картина может нагляднее изобразит религиозное настроение мира в двоеверном четвёртом веке? Другой пример, что священное любопытство к древности и её культам иногда брало верх даже над опасностью политической опалы, представляет путешествие по Египту цезаря Германика, совершённое вопреки воле императора Тиберия и к большому его неудовольствию. Наиболее внимания и почтения уделялось языческими паломниками героям Троянской войны. Призраки Гектора на развалинах Илиона и Ахилла на Скиросе, близ могильных холмов их, были довольно обыденными видениями множества античных суеверов; ещё чаще являлся Эскулап – в так называемых «инкубациях», посетителям своих храмов-лечебниц. Аполлоний Тианский имел с Ахиллесом самое дружеское свидание. Впрочем, демоническою властью оказываются облечёнными не только первенствующие воители Троянского похода, но и второстепенные его участники, и даже безымённые. В Темезе Сицилийской один из матросов Одиссея оскорбил девушку и был за то побит камнями. Одиссей отплыл, не отмстив за товарища. Тогда ларв матроса сделался бичом края, творя жителям, без разбора пола и возраста, всякие спиритические неприятности. Не зная, как отделаться от злого демона, темезцы уже думали было выселиться всем городом на другое место, но дельфийский оракул удержал их от эмиграции, а для успокоения «героя» рекомендовал построить ему храм. На служение матросу Одиссееву, в память об его распутстве, темезцы посвящали ежегодно жрицею любви красивейшую девушку города. Наконец в Темезу прибыл знаменитый кулачный боец Евфим. Он влюбился в одну из обречённых жриц, заперся в храме «героя», схватился с ним драться, победил его и загнал в море, после чего Темеза от него навсегда освободилась. Уже говорено о том, что, на конечном склоне языческой изящной литературы, в ней вошли в моду подложные мемуары разных лже-ахейцев и псевдо-троянцев. Сказки эти были благочестиво перенесены и в средние века. Вильям Мальмсберийский говорит о найденной, будто бы в Риме, гробнице Эвандрова сына, Палласа, убитого Турном. В гробнице, украшенной латинскою эпитафией, пылала неугасимая лампада; труп юноши, гигантских размеров, оказался совершенно свежим, с огромною раною, зияющею на груди. Вениамин Тудельский ухитрился найти в Риме мощи императора Веспасиана и его двора… Словом, не было конца ни легковерию средневековых путешественников, ни охоте их публики слушать басни, украшенные знакомыми историческими именами славной древности.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.