Текст книги "Отравленная совесть"
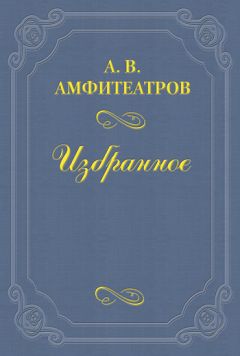
Автор книги: Александр Амфитеатров
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
XV
Если бы Петр Дмитриевич знал, что он делает своими рассказами! Весь панический ужас, с таким трудом вытесненный было Людмилою Александровною из своего сердца, теперь возвратился и стал за ее плечами грозным и повелительным призраком.
«В чьих я руках! в чьих руках! – думала она, – кончено! я побеждена заранее – прежде чем начать борьбу!»
Ревизанов вырос в ее воображении, как грозный, почти фантастический колосс с житейского зла, пред которым сама она казалась себе маленькой и бессильною, как карлица. «Повиноваться! повиноваться, не рассуждая!» – стучало в ее мозгу, когда, возвратясь от Ратисовых, она осталась одна и, с пылающим лбом и ледяными руками, ходила взад и вперед по своей темной спальне, – а рядом с нею как будто ходил невидимый образ ее врага и тихо шептал ей:
– Выбирай: повиновение и вечная тайна или моя беспощадная месть! Ты слышала, как я говорил: теперь ты знаешь, как я действую. Хочешь ты испытать, как разгневанный муж в бешенстве отталкивает развратную жену; а она, обнимая его колени, напрасно плачет и молит о пощаде? Хочешь ты услыхать позорную брань из уст твоих же собственных детей? Они придут к тебе и, негодуя, спросят: «Чьи мы дети?» – Что ты им скажешь? чем их разуверишь? Твоя правда будет ложью для них… и они проклянут тебя. Дома честных и воображающих себя честными людей закроются для тебя, и тогда – все равно: у тебя не будет прибежища, кроме смерти или моей спальни!
– Дети мои!.. Я так вас любила! – шептала Верховская, ломая руки.
В ее уже немолодые годы у нее почти не оставалось ни забот, ни интересов вне детской жизни. Им принадлежали все ее мысли, все время. По всей Москве говорили:
– Вот Людмила Александровна Верховская – это мать. Умела вырастить деток. Прелесть что за молодежь: здоровые, красивые, умные, честные…
Она с гордостью могла сказать, что действительно воспитанием своим дети обязаны исключительно ей, неразрывно проживающей с ними душа в душу каждый день их – от самой колыбели. Она торжествовала, наблюдая, как ее влияние постепенно отражалось на их характерах. И теперь бросить этих детей на полдороге? И как бросить! – показав им, что та, кто учила их добру, чести, истине и долгу, сама была лицемеркою и прятала под искусною личиною живое противоречие своим громким красивым словам! Она учила добру и не делала, как учила. Значит, она лгала. Если лгала учительница, разве не покажется детям ложью и самое учение? Разберут ли они, что у правого божества может быть грешный служитель?
Мать лицемерка и лгунья! – какая отрава вливается в детское воображение этими четырьмя словами! Нет порока, более противного детям, чем лицемерие. Людмила Александровна вспомнила, как Лида и Леля негодовали недавно на Олимпиаду Алексеевну, когда она, встретясь у Верховских с Еленою Львовною Алимовой, осыпала последнюю лестью, ласками и поцелуями, между тем как накануне честила ее за глаза и «ханжой», и «злюкой» и уверяла, будто при жизни покойного Александра Григорьевича Рахманова Елена Львовна заедала ее век. Вспомнила сверкающие глаза и гневный голос Мити, когда он, возвратясь из гимназии, рассказывает о какой-нибудь несправедливости инспектора или классного наставника, о фискалах-товарищах, о подлизах к начальству. Вспомнила, как его – хорошего ученика – чуть не исключили за то, что при одном гонении на курильщиков он, сам некурящий, отказался назвать, кто курил.
– Но, Верховский, берегись! – пригрозил, инспектор. – Я уверен, что вы знаете, кто курил! Ведь знаете: говорите правду!
– Знаю, – откровенно отвечал мальчик. – Знаю, да не скажу.
Пошел в карцер, добыл сбавку балла за поведение, но – «знал, да не сказал!».
Кто так храбро и самоотверженно ненавидит ложь и обман, – наученный этой ненависти тайною лгуньею и обманщицей, – какое страшное разочарование ждет его, когда она снимет маску!.. Как должен он будет разувериться в правде света, как станет презирать и ненавидеть наставницу-фарисейку… презирать и ненавидеть родную мать!
– Нет! я должна спасти себя от презрения детей! – размышляла Людмила Александровна под невыносимую стукотню своих висков. – Должна спасти их от ненависти ко мне. Если человеку противна родная мать, что же уважать остается ему на свете?!
– Я повинуюсь Ревизанову. Пусть я стану еще порочнее и хуже, но зато лишь пред самой собой. Моя семья останется приютом явной добродетели и семейного счастья, а за мои тайные грехи ответит моя душа. Будь что будет! Пусть хоть убьет меня мой стыд, лишь бы втихомолку, чтобы не вырвалось ни жалобы, ни даже одного подозрительного слова, чтобы я ушла от людей чистою, как слыла между ними, чтобы дети мои поминали мое имя с гордостью, а не с отвращением. Мною держится мой домашний очаг. Он дает тепло и свет слишком многим. Я не имею права его разрушать. Я повинуюсь.
XVI
Андрей Яковлевич Ревизанов получил по городской почте письмо – на тонкой голубой бумаге, без подписи, но почерк, хотя измененный годами, был ему знаком. Едва взглянув на конверт, он радостно изменился в лице…
– От кого это голубое письмо? – ревниво спросила сидевшая с ним за завтраком красивая черноволосая женщина.
– Деловое, Леони, – небрежно бросил ей Ревизанов.
– Да? Покажи!
Она протянула руку. Ревизанов слегка ударил ее бумагою по пальцам и спрятал голубое письмо в карман. Леони залилась румянцем.
– Ах, извините! Я не знала…
– Так знай.
– Буду знать.
Ревизанов взглянул на часы:
– Тебе не пора ли в цирк?
– Я тебе мешаю? – возразила Леони ревнивым вопросом вместо ответа.
– Нисколько… Я рассчитывал провести с тобою часок-другой после завтрака, потому что совершенно свободен. Могли бы прокатиться в Парк, что ли, или в Сокольники. Погода чудная. Путь – как скатерть, снег – серебро. Но ты сама говоришь, что у тебя дневное представление. Что тебе за охота – баловать своего директора, соглашаться на два номера в сутки? Довольно с этого итальяшки и вечеров…
– Сборы плохи. Я все-таки привлекаю немножко публику, а без меня – совсем швах.
Ревизанов презрительно улыбнулся:
– Правило товарищества?
– Да, знаешь, мы, цирковые, дружный народ.
– Ну и платись за дружбу: половина второго… Даже кофе не успеешь напиться.
– Нет, ничего. Я скачу в третьем отделении, предпоследним номером… Имею по крайней мере двадцать минут в запасе.
– Как знаешь.
– А ведь я было думала, – начала Леони с заискивающей и фальшивой улыбкой усмиренной ревности, – ты гонишь меня потому, что это голубое письмо назначает тебе свидание с какою-нибудь дамой.
– Очень мне надо знать все глупости, которые ты думаешь! – пробормотал Ревизанов.
Она продолжала:
– Этот деловой документ необыкновенно похож на письмо от женщины.
– Ты находишь?
– От кого эта записка?
– Это не твое дело, Леони! – коротко отрезал Ревизанов.
Наездница вспыхнула и прикусила губу.
– Знаете, мой милый, – насмешливо протянула она, – вы становитесь не слишком-то любезны в последнее время.
– Может быть! – последовал равнодушный ответ.
Под матовою кожею Леони гневно заиграли мускулы.
– Я не знаю, чем это милое настроение вызывается у вас, – сдерживаясь, продолжала она тем же насмешливым тоном, – может быть, у вас дела нехороши, может быть, вы влюблены неудачно… Но, во всяком случае, я не желаю быть предметом, на котором срывают дурное расположение духа. Я к этому не привыкла.
Ревизанов зевнул с холодною скукою:
– Не трещи… надоела!
Леони вскочила, сверкая глазами:
– Я запрещаю вам говорить со мною в таком тоне!
Леони никто еще не говорил, что она надоела.
– Ну, а я говорю.
Наездница топнула ногою, хотела разразиться градом брани и, вместо того, залилась слезами.
– Это гнусно, гнусно так обращаться с женщиной! – рыдала она.
– Да полно, пожалуйста! что за трагедия? Я никак с тобою не обращаюсь: ты беснуешься и ругаешься, а я нахожу, что это скучно, – вот и все.
– Если вам скучно со мною, – вспыхивала Леони, – отпустите меня, разойдемся… Не вы один любите меня, я найду свое счастье с другим…
– С другими, Леони, с другими, – надо быть точнее в выражениях, – засмеялся Ревизанов.
Леони горько покачала головою:
– Вы никогда не любили меня, если можете шутить со мною так обидно!
– Разумеется, никогда, Леони. Кажется, у нас, когда мы сходились, и разговора об этом не было… И не могло быть: откуда? А ты разве любила меня и любишь? Вот была бы новость!..
Наездница все качала головою.
– Нет, нет, нет… этой новости вы не услышите, – говорила она с гневною иронией смертельной обиды, – я вас, конечно, и не люблю, и не уважаю… вы для меня просто денежный мешок, откуда можно брать горстями золото… не так ли?
Ревизанов пожал плечами:
– Не знаю, как по-твоему; по-моему, так. Да я ни на что больше и претензий не имею. Какая там любовь? Зачем? Я плачу и не жалуюсь. Ты очень красивая и занимательная женщина…
– А главное, в моде, – насмешливо перебила Леони. – Так приятно ведь, чтобы обе столицы русские кричали о вас: вот Ревизанов, который отбил знаменитую Леони у князя Носатова…
– Не скрываю: и это не без приятности, – согласился Ревизанов.
Леони злобно засмеялась:
– Вот этой-то славы у вас и не будет больше! и не будет! как не будет самой Леони… Кусайте себе тогда локти!.. и утешайтесь вон с этою, которая пишет вам письма… виновата, деловые документы – на голубой бумаге.
Ревизанов устремил на нее ленивый взгляд.
– Будет другая слава, – сказал он, – и гораздо более пикантная… Станут говорить: вот Ревизанов – знаете, тот самый, который выгнал от себя знаменитую Леони…
Наездница выпрямилась, как стрела, готовая сорваться с тетивы.
– Lache!..[17]17
Пусти!.. (фр.).
[Закрыть] – крикнула она.
– Пошла вон!.. – раздался тихий ответ, и синие глаза Андрея Яковлевича приняли такое выражение, что Леони попятилась, как львица от укротителя. Она, бормоча невнятные угрозы, вышла в спальню Ревизанова, но скоро возвратилась, уже одетая к выходу, в шапочке, с хлыстом в руке. У дверей она обернулась – с искаженным темным лицом, на котором, как два яркие пятна, сверкали глаза и оскаленные зубы…
– Вас следовало бы вот этим! – сказала она, грозя Ревизанову хлыстом.
Андрей Яковлевич поднялся с места и шагнул к Леони. Она струсила и съежилась, ожидая удара… Но он не бил, а только смотрел на нее с презрительным любопытством, как будто говорил взглядом: «Ах, дура, дура!»
Леони поняла этот взгляд – и страшно ей было, и бешенство брало ее. Нерешительно, как не смеющий напасть зверь, она топталась на пороге, – потом вдруг швырнула в Ревизанова своим хлыстом, не попала и быстрее молнии выскользнула за дверь.
– Идиотка! – уже громко послал ей вслед Андрей Яковлевич.
Он поднял хлыст, осмотрел его, подавил пружинку: ручка – серебряная головка левретки – отскочила, вытянув за собою тонкое трехгранное лезвие блестящей темно-синей стали.
«Изящная вещичка, – подумал он. – Сохраним ее на память об освобождении от иноплеменницы».
Он отнес хлыст в свою спальню и положил на туалетный столик. Потом позвонил.
– Иоган, – приказал он явившемуся слуге, – заметили вы эту даму, которая от меня вышла?
– Мадам Леони?
– Да. Меня для нее никогда нет дома. Передайте это швейцару.
– Слушаю-с.
XVII
Оставшись один, Ревизанов долго и внимательно читал полученное письмо:
«Очень может быть, что письмом этим я делаю новую ошибку и даю вам новое оружие против меня. Но все равно. У вас столько оружий, что одним больше, одним меньше не сделает разницы. Если вы хотите меня погубить, то погубите и без этих жалких строк. Я в последний раз пытаюсь умилостивить вас, смягчить ваше сердце. Сжальтесь надо мною, оставьте меня в покое. Что вам во мне? на что я вам? Мало ли женщин красивее меня! Я уже немолода, я мать семейства, у меня взрослые дети. Пощадите мою совесть… как я буду смотреть им в глаза? Отпустите меня на волю! Клянусь: я буду благодарна вам, как благодетелю. Вместо врага, вы приобретете друга, верного и преданного, какого у вас еще не бывало».
Ревизанов долго думал. По лицу его ходили тени. Он сел к письменному столу, несколько раз брался за перо и снова опускал его… Ему – против воли – стало жаль женщины, писавшей это робкое, униженное письмо.
– Да… но отказаться от нее – невозможно, – размышлял он. – Она зацепила меня слишком крепко: если я отпущу ее, это отравит мне жизнь, будет грызть меня целые годы… «Немолода»… «есть красивее меня»… странные эти женщины!.. живут, живут – доживают до конца бабьего века – и все еще думают, что любят их за молодость, за красоту… Любят – потому что любится; любят не женщину, но свою прихоть к ней.
Он еще раз перечитал письмо, хмурясь все больше и больше… Память уносила его к далекому, но не забытому времени, когда он, смущенный, растерянный, уничтоженный, стоял пред этою самою женщиною, которая теперь ползает у его ног с мольбами о пощаде, и не знал, что ответить на ее негодующий взгляд, обличавший его лицемерие, – взгляд ангела в день судный… И как тогда, он теперь снова то краснел, то бледнел под этим воображаемым взглядом…
«Как я был тогда побежден! как раздавлен! – думал он. – О, больше уж никто, никогда в жизни не одерживал надо мною такой победы… Нет, нам надо поквитаться. Есть моменты, которые остаются жить в сердце навсегда, как зудящие кровоточивые ранки.
Этот момент, когда она застала нас с Олимпиадою, – из таких. Мне стыдно себя в ту минуту, стыдно… вот чего я ей не прощу, вот ради чего она мне нужна теперь! Я хотел бы забыть, что она была сильнее меня, и тогда легко отпустил бы ее на свободу… Но над памятью своею никто не властен… я все помню и ничего не простил… Может быть, я и люблю-то ее потому, что она – одна из всех женщин, каких бросала судьба в мои объятья, – сумела однажды смутить меня и унизить, умеет теперь презирать и ненавидеть; потому что с нею надо бороться, надо покорить ее, завоевать… Ступить ей сейчас – значит, быть побежденным ею во второй раз… Ни за что!»
И на полученном письме Андрей Яковлевич написал решительным и твердым почерком:
«У меня, суббота, 12 часов ночи».
Он запечатал письмо в конверт со своим вензелем и, часом позже, проезжая мимо квартиры Верховских, сам отдал его горничной для передачи Людмиле Александровне.
– Не потеряй, милая, – предупредил он, – здесь билет в театр.
– Теперь я уверен, что моя взяла! – улыбался Андрей Яковлевич, летя в своих санках по Пречистенке. – И надеюсь, что, возвратив письмо, я поступил, хотя настойчиво, но по-рыцарски… Никогда не надо натягивать струну до последнего: оставь свободным хоть один колок. А в этой скрипке струны натянуты уже сильно, очень сильно.
Утром в субботу Ревизанов встретил на улице Синева и зазвал его к себе завтракать. Странно: молодой следователь ему нравился. Может быть, даже, что нравился именно тою скрытою антипатиею, тем задором, какие он неизменно встречал и чувствовал в Петре Дмитриевиче. Синев, всегда обласканный при встрече с Ревизановым, не знал, чему это приписать. Он не уклонялся от Ревизанова, потому что слишком интересовался им, но – в глубине души – ощущал некоторое угрызение совести: «Вот, мол, человек ко мне – всею душою, всегда внимателен, ласков, любезен, а я против него все на дыбы да на дыбы…»
На этот раз он не выдержал и в конце завтрака откровенно спросил:
– Скажите, Андрей Яковлевич: зачем вы затащили меня к себе?
– Разве вам было скучно? – удивился Ревизанов.
– Нет. Помилуйте! Вы отлично кормите, еще лучше поите, у вас несравненные сигары, и болтать с вами занимательно.
– На что же вы жалуетесь? – как говорится в какой-то оперетке.
– Я и не думаю жаловаться, – напротив, счастлив и благодарен. Вам-то что за охота со мною возиться?
Ревизанов сделал комический поклон:
– Всегда рад вам, Петр Дмитриевич, душевно рад.
– Вот этого именно я не понимаю: с чего вам радоваться-то? Что я для вас представляю? Так, грубиян-мальчишка, моська – знать, она сильна, что лает на слона!
Ревизанов засмеялся:
– Батюшки! Что за унижение паче гордости? Кажется, всего лишь третью бутылку клико пьем, а уже…
– Покаянный стих? – подхватил Синев. – Ничего. Так и надо. Он мною в отношении вас уже с третьего дня владеет… Эта правда, что я слышал: будто вы за всех наших студентов недостаточных, к исключению предназначенных, плату в университет внесли?
– Предположим, что правда, – нехотя протянул Ревизанов. – Так что же?
Синев встал и поклонился в пояс:
– Великолепно, батенька! Поклон вам! Поклон до земли!
Но Ревизанов возразил даже как бы с некоторой досадой:
– Что тут великолепного? Вы же знаете мой взгляд на благотворительность. Еще одна неизбежная взятка обществу. Только и всего.
Но Синев грозил ему пальцем:
– Э, батенька! дудки! Теперь не обморочите. Знаем мы, как вас понимать надо, притворщик вы. Руку вам жму за студентов наших… благородно поступлено… руку жму!
– Что ж на сухую-то жать?
Ревизанов позвонил и приказал подать еще вина. Синев, уже несколько грузный, ужаснулся было, но Ревизанов усадил его, смеясь:
– Так позвольте вас немножко подпоить. Задобриваю вас, мой друг. Помните наши пылкие дебаты у Верховских?
– Это о непойманных преступниках-то?
– Да. Вы следователь. Почем знать? Может быть, вы – моя судьба. Следовательские инстинкты не разыгрываются у вас в моем присутствии? а?
Синев ответил на шутку довольно натянутым смехом:
– Тогда бы я не сидел с вами за одним столом.
– Напрасно. Следователю не резон быть пуристом. Якшайтесь с преступником, если хотите добиться от него толка.
– А скажите серьезно, Андрей Яковлевич, – сказал Синев, – как вы сами относитесь к этой вечной диффамации вас, из-за угла?
Ревизанов усмехнулся:
– Точно так же, как если меня ругают в открытую… вроде вас, например.
– Ме-е-еня?! – Синев даже руками развел.
– Довольно невинно спрошено. А историйку об уральском Крезе забыли?
– Это у Ратисовой-то?
– Именно у Ратисовой.
Синев сконфузился:
– Андрей Яковлевич… Фу! какое это было мальчишество!.. Послушайте, Андрей Яковлевич…
– Да нет: вы не беспокойтесь и не трудитесь извиняться, – остановил его Ревизанов, – я на вас не сержусь.
Синев мялся, красный, как мак:
– Меня стоило за уши выдрать, а вы великодушно промолчали.
– Я в таких случаях всегда молчу.
– Всегда?
– Обязательно.
– Опасная система, Андрей Яковлевич.
– Почему?
– Молчание могут принять за знак согласия.
Ревизанов презрительно повел губами:
– А мне какое дело? пусть принимают.
Синев смотрел на него с любопытством, почти жалостливым.
– Андрей Яковлевич, да ведь нехорошо… И как только в вас совмещается все это… ну, ведь сознаете же вы… Ну, признайтесь, поймите, скажите вслух, громко, что было нехорошо?
Ревизанов ответил ему без улыбки, с серьезным, почти угрюмым взглядом:
– Хорошо или не хорошо, а не переменишь, если было. Хвалиться нечем, а отрекаться – горд.
– Смелый же вы человек! – вздохнул Петр Дмитриевич, глядя на него с любопытством.
– Да, робеть и труса праздновать не в моих правилах.
– Дело в том, Петр Дмитриевич, – продолжал он, подумав, – что, если человек сам сознает в себе преступника и не боится им остаться, так трусить посторонней пустопорожней болтовни и считаться с нею – ему нечего.
– Послушайте! это… – начал было смущенный Синев.
Ревизанов захохотал:
– Нет, вы погодите хватать меня за шиворот. Я не дамся: я если и преступник, то на легальных основаниях.
Синев покраснел.
– Черт знает что такое! – проворчал он. – С вами разговаривать – что по канату ходить.
– Лет пять тому назад, – медленно говорил Ревизанов, – я поссорился с одним банкиром… Блюмом его звали…
– Я знаю эту историю.
– Он меня оскорбил, а я его уничтожил. Сперва подразнил и помучил на биржевых качелях: de la baisse, a hausse[18]18
Вверх, вниз (фр.).
[Закрыть] – а потом, просто-напросто, взял из его конторы свой вклад, крупный таки куш, в минуту самых трудных платежей. Что называется, взорвал банкира на воздух. Блюм лопнул и бежал. Теперь где-то в Америке околачивается. То ли фокусы белой магии показывает, то ли сапоги на улицах чистит. Десятки семейств разорились, были случаи и самоубийств, и сумасшествий…
– Что же из этого следует?
– Позвольте!.. Далее: недавно я сыграл на понижение черепановских акций и в неделю заработал, – если только подходит сюда такое слово, – пятьсот тысяч рублей; но в результате этой операции опять десятки семейств должны были пойти по миру и, конечно, пошли. Не идиот же я, чтобы не предвидеть трагического конца, когда начинал Блюмову кампанию, когда ввязался в черепановскую игру, – однако и в игру ввязался и кампанию начал… На вашем юридическом языке это, кажется, называется – «по предварительно обдуманному намерению»? Так, что ли?
Он смотрел на следователя с горькою и холодною насмешкою.
– Ну, что же… конечно… – бормотал сбитый с толку Петр Дмитриевич, не зная, что отвечать. – Но это уже – в области морали, вне нашей компетенции… а так – по общежитию то есть и юридическому смыслу – вы действовали в пределах своего права.
Ревизанов строго возразил:
– Если вы считаете меня вправе убить сотню человек крахом банка, почему мне не убить одного человека ударом ножа или известною дозою мышьяку?
Синев махнул рукою:
– Отвечу вам любимыми словами милейшего Степана Ильича Верховского: «Софизмы, батюшка, старые софизмы!» – да еще с прескверным ароматом вдобавок: Сибирью пахнут.
Ревизанов возразил отрицательным движением руки, полным самоуверенного сознания своей силы:
– «Что Сибирь! далеко Сибирь!» Шпекин и не подозревал, голубчик, какую гениальную фразу он сказал. Сибирь – учреждение для дураков и нищих. Ну, вообразите-ка, для примера, преступником меня, вашего покорнейшего слугу? Неужели я буду так глуп – дамся вам отправить меня в Сибирь?
– Вот тебе на! отчего же нет?
– Оттого, что между мною и Сибирью, – принимая Сибирь как общий образ уголовного наказания, – всегда останутся три барьера: ловкость, смелость и богатство.
– Деньгами от уголовщины не отвертитесь!
– Будто?
– Замять уголовное дело? да ни за сто тысяч!
– За иные дела платят и больше, – подразнивал Андрей Яковлевич.
– Порядочному человеку это безразлично.
– Порядочному… – протянул Ревизанов. – А вы имели когда-нибудь в своем распоряжении сто тысяч?
– Конечно нет.
– Хорошая сумма. Круглая.
– Какая бы ни была!
Ревизанов мелодраматически склонил пред ним свою голову:
– Вы бескорыстны. Это делает вам честь!
– Подкуп! – размышлял Петр Дмитриевич. – Ну хорошо: сегодня вы откупитесь, завтра, послезавтра… но не монетный же вы двор, чтобы постоянно выбрасывать из кармана по сто тысяч…
– Да ведь и не каторга же я воплощенная, чтобы постоянно нуждаться в подкупе.
Прощаясь с Синевым, Ревизанов звал его на завтра обедать.
– Не могу, Андрей Яковлевич, простите. Завтра воскресенье: я искони абонирован Верховскими.
– Ага! тогда в понедельник. Кланяйтесь Верховским.
– Верховскому solo, – поправил Синев. – Людмила Александровна уехала.
– Да? – удивился Ревизанов, глядя в сторону. – Куда это она?
– В деревню, к тетке… помните Алимову, Елену Львовну?
– Еще бы! Почтенная старушка. Когда же?..
– Сегодня рано утром. Я провожал. Она вчера сразу надумала и собралась поехать.
– Елена Львовна! – меланхолически произнес Ревизанов. – Сколько лет я ее не видал!.. друзьями были… Скажите: давно она стала помещицею? Я что-то не помню, чтобы у нее было именье…
– Помилуйте! Родовое, чудное именье в Рязанской губернии.
– А! там земли вздорожали с тех пор, как прошла железная дорога. Я приценялся в прошлом году: приступа нет.
– В таком случае, именье Елены Львовны – Эльдорадо. Ее земля в двух верстах от Осиновки. Знаете – большой буфет?
– Как же, езжал…
«Лекок тоже! – рассмеялся Ревизанов, проводив Петра Дмитриевича. – Хочет читать в сердцах, а из самого качай вести, как воду из колодца… Итак – уехала! Гм… признаюсь, это довольно неожиданно… Придет или не придет? Что означает этот отъезд? Бегство или лишь, так сказать, антисемейный маневр?»
Он взял с этажерки красный томик Фрума. «Рязанская дорога… Осиновка… так, так… Ха-ха-ха! а встречный-то поезд в Малиновых зорях? Я и забыл!»…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































