Текст книги "Н. К. Михайловский"
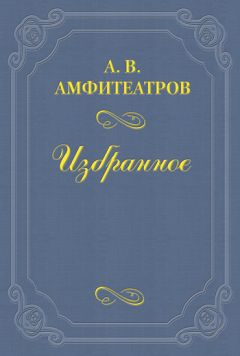
Автор книги: Александр Амфитеатров
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Александр Валентинович Амфитеатров
Н. К. Михайловский
(После сороковин)
Позвольте мне в сороковой день памяти Н. К. Михайловского обратить к имени его строки, – может быть, нескладные, но искренние, – которые были набросаны мною, когда вдали от Петербурга я получил первое известие об его смерти. Они остались, – как любят выражаться русские журналисты, – «в моем портфеле», хотя портфелей у них, обыкновенно, не имеется, – потому что – я боялся – тогда они представили бы собою запоздалый некролог, повторение в догонку слов и мыслей, которые успеют раньше меня сказать собратья по перу, географически более близкие к праху покойного публициста. Но, пересматривая эту заметку, я нахожу в ней кое-какие слова, которые остались недоговоренными, и мне хочется включить их хоть теперь в широкую гармонию гремящего в обществе поминального гимна.
…Смерть Николая Константиновича Михайловского – потеря невознаградимая и для литературы, и для общества. Быстрою, спешною заметкою я, конечно, не берусь не только исчерпать, но даже подробно наметить сложное значение покойного в русской общественной жизни последних трех десятилетий. Отошел в вечность бесспорный вождь и глава всей прогрессивной русской журналистики и последний сильный пророк позитивизма, приявший дух и знамя его от старших богатырей шестидесятых годов. Со знаменем этим Михайловский бодро стоял «на славном посту» над прахом отошедших в вечность старших товарищей. Общественные бури истрепали гордое, честное знамя в клочки, но Михайловский ни на миг не выпустил древка из рук, ни на пядь не отступил с давней, буйными боями завоеванной позиции. Пусть иные новые течения, стремясь вперед, пошли быстрее и обогнали Михайловского, – пусть для многих он слыл уже либеральным старовером! Иначе и быть не могло, и не должно быть: в том и прогресс, чтобы созревающие поколения опережали и исправляли поколения, созревшие и снимаемые временем с общественной полосы, как полный колос!.. Но и в самых спешных, самых передовых течениях не было и нет ни одного человека, который время от времени не оглядывался бы назад – посмотреть с тревожною любовью, как стоит на своем месте, будто незыблемая скала над потоком, старый, стойкий знаменосец, как колышется под встречным ветром над его седою головою старое, многострадальное, яркое знамя. Этот сорок с лишком лет непоколебимый флаг был маяком для отставших, куда им плыть, вдогонку века, а опередившие ценили в нем отправную точку, от которой они самостоятельно поплыли к новым берегам. И вот – уже не на кого оглянуться: опустел славный пост, рухнул старый знаменосец! Покройте же заслуженным знаменем гроб его и, по слову поэта, не сыпьте цветов на его могилу, а положите меч, потому что умер храбрый боец за человечество!
Нет сомнений, что смерть Михайловского вызовет целую литературу о нем. Десятки серьезных статей нужны, чтобы установить его характеристику и степень его влияния на русское общество как публициста, критика, философа-социолога. В высшей степени продуктивный, талант Михайловского был, по преимуществу, проверочным и перерабатывающим. Десятки лет Михайловский играл роль челюстей, которыми русский средний читатель пережевывал должную питать его жесткую пищу западной науки, десятки лет Михайловский толковал, объяснял, критиковал, спорил, комментировал – до тех пор, покуда пища не оказывалась совершенно усвоенною. Он, так сказать, – крестный отец русского Дарвина и русского Огюста Конта. Но всего теснее имя Михайловского в России связано с именем Спенсера, которого Михайловский был полемическим толкователем и популяризатором. Спенсер как социолог был излюбленным мудрецом конца русского XIX века, в особенности восьмидесятых годов, и успешною пересадкою своей известности на нашу почву английский философ обязан, если не исключительно, то по преимуществу, Михайловскому. Михайловский и Спенсер неразрывны в памяти русского читателя, – настолько, что даже и некоторые ошибки и произвольности в понимании Михайловским Спенсера вошли в русский интеллигентный обиход без поверки, как спенсеровы, и полемический Спенсер по Михайловскому в огромном большинстве читающих кругов до сих пор едва ли не более принят, чем Спенсер по Спенсеру.
Благородная последовательность и гражданская стойкость Н. К. Михайловского давно отличены благодарным вниманием всего русского общества, без различия лагерей и партий, как это и выразилось в беспримерно блестящем юбилейном торжестве его, когда знаменитому публицисту, вместе с восторженными друзьями, почтительно аплодировали и его давние идейные враги. Точно таким же прекрасным и, к сожалению, чрезвычайно редким зрелищем объединения всей русской печати были освящены теперь его погребальное шествие и его похоронный холм. Умерла некоторая великая любовь к русскому народу, и все, кто сами чувствуют в себе любовь к народу, как бы разно они и народ этот ни понимали, и любовь эту ни выражали, – все почувствовали потерю. Все, примиренные на мгновение, пошли с обнаженными головами за гробом отошедшего учителя, взвешивая в памяти слова его и чувствуя вместе с великою скорбью по мертвецу великую радость за живых: не оскудевает и не хилеет народ, который любят так беззаветно крепко, умно и смело, как любил русский народ Н. К. Михайловский!
Имя Михайловского стало на Руси символом литературной порядочности, а его авторитетное благословение – паспортом на принадлежность к передовому полку русского прогресса. И эта пассивная символичность Михайловского, особенно подчеркнутая в последний период его жизни, была для общества едва ли не столь же важна, как его кипучая, активная неутомимость. Он так долго поднимал вверх свое знамя, что наконец – для сотен тысяч читающих – слился с ним в один образ и стал сам знамя… «Человек – знамя!» – какой еще титул может звучать для публициста наградою выше, желаннее, благороднее?! А тут еще – и такое светлое, человеколюбивое знамя.
Я никогда в жизни не видал Николая Константинович даже издали, но обменялся с ним несколькими письмами Об одном позволю себе теперь рассказать, потому что оно характерно для того инстинктивного благоговения, которое светлая, безукоризненная личность Михайловского вызвала в литературной молодежи даже отдаленных и чуждых ему лагерей. Это было после моей первой политической поездки в Болгарию, когда я с молодым энтузиазмом ухватился за идею болгаро-русского примирения (в 1894 г., после падения Стамбулова) и проводил ее множеством корреспонденции и статей, попавших и плывших страшно против течения. На меня «вызверились» тогда и охранители российские, и эмигранты болгарские – «Московские ведомости» С. Петровского, «Свет» Комарова-Бендерева и т. д. Брани, ругани, проклятий, клевет и инсинуаций я проглотил тогда столько, что до сих пор удивляюсь, как всею этою мерзостью не отравился, а, может быть, и отравился – только не остро и не насмерть, а хронически и с выздоровлением. Кроме г. Меньшикова, кажется, впоследствии уже никто не вешал на меня собак с таким усердием, как удостоился я в то время от наших поклонников грома победы и национальной вражды, как бы ни была она бессмысленна и вредна нам самим. Бывали минуты, когда я, отбиваясь от этих хаотических нападок, буквально, в отчаяние приходил, и, каюсь, по тогдашней молодости лет своих и очень слабой поддержке меня органом, где я работал, начинал уже сам немножко колебаться в своих выводах из моих болгарских впечатлений: да прав ли я, в самом деле? Не лучше ли они изучили страну, сидя в своих кабинетах, чем я на месте, живыми глазами? да не ошибаюсь ли я с моею примирительною тенденцией? да не втерли ли мне в глаза очки мои милые братушки? В это самое время Михайловский напечатал несколько рассудительных и спокойных строк о неблаговидности травли, против меня поднятой, и о желательности идей, которые, умело или неумело, но с искренностью и убеждением проводил я в славянской политике. Трудно было попасть с помощью более вовремя и кстати. Ободрительное слово, брошенное, хотя и вскользь, из лагеря, который в то время был мне чужим, взбрызнуло меня живою водою. Я написал тогда Михайловскому огромное письмо, в котором вывернул пред ним все, что накопилось в душе из-за этой славянской полемики, – и очень скоро получил от него ласковый и ободряющий ответ в том смысле, что, мол, очень рад, если помог вам, потому что, хотя свое симпатичное дело и делаете вы в антипатичной мне газете, но человек вы – не без способностей и в этих своих взглядах, по-видимому, стоите на совершенно верном пути.
Хорошо это, когда есть в литературе сила-символ, воплощающая своим живым образом ту отвлеченную чистоту ее, суда которой над собою иногда так мучительно и вызывающе жаждет каждый писатель деятельной мысли и самостоятельной воли. Опять по себе сужу и скажу. Мысль: «Пойду, все расскажу Михайловскому и попрошу у него совета… Как он скажет, так и сделаю!» – такая мысль, как последнее средство исхода из крайне острых этических дилемм, приходила мне неоднократно в трудные, газетные моменты, когда передо мною носились в тумане насмешливыми призраками: либо конечное крушение любимого дела, либо тяжелый, оскорбительный компромисс… Однажды, в 1901 году, я не выдержал и поехал было к незнакомому Михайловскому. Но не судьба была увидать его: он оказался в деревне.
Хорошо было сознавать, что сидит негде этакая живая правда журналистики, которую ты хочешь – люби, не хочешь – не люби, а признавать должен, если в душе у тебя совесть жива; от которой клевета и насмешка отскочат, как горох от мраморной стены; на которой, как на камне пробирном, ты можешь испытать свою искренность, чистоту своих литературных побуждений, ясность своих общественных взглядов, твердость своих общественных убеждений. Вспомните щедринскую притчу, как Глумов, увязший в самоохранительном буржуйстве до совершеннейшего свинства, внезапно увидал во сне Стыд и так смутился и испугался, что образ звериный от него отпал, и возвратился он к образу человеческому. Вот этим Стыдом, который спасительно снится падающему человеку, и был Михайловский в литературной среде. И многим-многим снился его строгий облик, и многих-многих отрезвил он и спас, иногда, быть может, сам того не зная и не подозревая.
Не знал я, повторяю, Михайловского лично, но телеграмма о кончине его больно ударила меня по сердцу, будто весть о смерти близкого и любимого человека… А и то сказать: кому же из нас, восьмидесятников, не был близок он – автор «Героев и толпы», «Жестокого таланта», «Записок профана»? Сколько мы его читали! Сколько мы его любили! Сколько мы на него ворчали! Сколько мы с ним ссорились! Сколько мы его уважали! Сколько мы от него слышали доброжелательных слов! Сколько приняли заслуженных бичей и скорпионов!.. Разные слои общества разного печалью встретили весть о кончине Николая Константиновича. Мы же, – юноши в восьмидесятых годах, а теперь люди за сорок, – почтительнее всех обнажаем свои головы у этой могилы, в которой спит, засыпанный цветами, умный гувернер, усердный дядька, любимый репетитор нашего поколения!
Русские прогрессивные публицисты-западники недолговечны. Коротки были сроки деятельности Белинского, Добролюбова, Писарева, оборванные смертью. На первых полусловах пришлось замолчать заживо умершему Чернышевскому. Герцена тоже слишком рано съела тоска изгойства, да и мало знает его, до сих пор запрещенного, читающая Россия… Н. К. Михайловскому природа послала сравнительно долгую жизнь и крепкие силы как бы для того, чтобы допеть недопетые песни молодо умиравших и рано замолкавших силачей, чтобы досказать и растолковать недоговоренные слова. Его часто укоряли в отсутствии оригинальности, язвительно подчеркивали, что Михайловский-де – не творец самостоятельных идей, но лишь счастливый толмач старого идейного наследства. Но ведь и Моисей, когда спустился с Синая к стану израильскому, нес на скрижалях не свои, а продиктованные ему заповеди, что не помешало им остаться навеки в памяти и сознании народов заповедями Моисеевыми, а на фундаменте их вырос целый ряд религиозных, общественных и политических систем! Синай шестидесятых годов сквозь вихрь и гром реформ прошептал Михайловскому лучшие тайные слова своего идейного завета и отправил его в мир проповедовать воспринятую мудрость. И он проповедовал до последнего издыхания. И проповедовал так ярко и упорно, что огромная западническая идея шестидесятых годов, – в восьмидесятых, девяностых и вплоть до нашего года, – слилась с его именем в одно: она стала «идеей Михайловского». И берег он эту идею, как святой огонь на жертвеннике, и старый синайский свет самосознательной силы не переставал сиять на его непоклонной голове…
Теперь он погас… На чьем-то челе загорится!
Вологда. 1904









































