Текст книги "Мари"
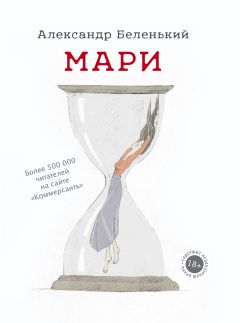
Автор книги: Александр Беленький
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Потом мы впились каждый в свой кусок мяса. Она с сомнением посмотрела на мой и спросила: «Как ты это ешь? Он же СОВСЕМ сырой». «А ты попробуй, вкусно», – сказал я и протянул ей кусок мяса на своей вилке, которая в тот же момент, пока шла от меня к Мари, стала продолжением моей руки. Я чувствовал эту вилку как свои пальцы и ждал, когда она обхватит губами эту вилку, эти самые мои удлинившиеся пальцы, и зубами стащит розовый от крови кусок мяса, несколько капель с которого упали на стол, как первые капли дождя, предвещающие ливень и грозу.
Так все и вышло. Наверное, в этот момент и решилась судьба того дня, той ночи и той жизни заодно. Мари опять каким-то кошачьим движением обхватила губами мои железные, но очень чувствительные пальцы и зубами медленно стащила с них кусок мяса, и замерла, как будто запоздало подумала, что этого, наверное, не стоило делать. Я смотрел на ее губы, на капельку крови на них, подождал, пока она ее слижет, и в тот же момент случайно коснулся под столом ее ноги, и меня опять чуть не скрутило от спазма в паху.
Если бы я писал о себе в третьем лице, я бы, наверное, придумал, какое у меня было выражение лица в тот момент, но я не знаю, какое оно у меня было. Я увидел только его отражение на лице Мари, в ее взгляде. Это было что-то вроде радостного испуга.
Наверное, я многовато говорю о себе и маловато о ней, но я просто не знаю, что думала Мари. Я даже не всегда был уверен в том, что именно она сказала, потому что она то и дело переходила на французский, что я понял как знак, что все больше становлюсь ей не чужим, и я больше догадывался, что она говорит, чем понимал, и мне это нравилось. Нравилось додумывать сказанное.
Ну, а этот взгляд был знаком мне с детства, лет с пяти. Нет, я не предавался разврату в детском саду. Я млел, когда ко мне близко подходила девочка по имени Ира, а еще больше, когда подходила Оля, и уж совсем растекался по полу, когда подходила Кира, моя первая большая любовь. Ее вскоре забрали из нашего детского сада, и это стало первой драмой в моей личной жизни.
Я ходил по комнате неприкаянный и ни с кем не общался. Воспитательницу это даже напугало, она что-то сказала маме, та спросила, что со мной, но я, конечно, не сказал. Точнее, сказал какую-то ерунду, которую говорят дети, когда хотят что-то скрыть. Моя умная и добрая мама посмотрела на меня и, по-моему, все поняла, потому что позже, когда я так себя вел, неизменно говорила: «Влюблен ты опять, что ли?» – и всегда попадала в точку, но тогда она, слава Богу, ничего не сказала. Видимо, поняла в свои невероятно зрелые, как мне тогда казалось, двадцать девять лет, что я еще не готов к тому, чтобы меня так раскрывали.
Так в пять лет я узнал, что такое любовная тоска, и с тех пор это чувство никогда не было для меня новым.
Но этот взгляд я впервые увидел не в детском саду, а в Парке культуры, примерно тогда же или, может быть, на год позже. Там был аттракцион, на который мне ход был заказан. Да я бы и сам на него тогда не пошел ни за какие коврижки. Туда не пускали детей моложе двенадцати или чего-то в этом роде. А тех, кого пускали, сажали во что-то вроде лодки, привязывали брезентовыми, на самом деле, наверное, кожаными, но покрытыми брезентом и казавшимися очень ненадежными и как будто созданными как раз для того, чтобы лопнуть в самый неподходящий момент, ремнями, лодка раскачивалась, как качели, а потом взмывала в воздух и совершала переворот на 360 градусов и крутилась так какое-то время.
В очереди на этот полет вверх тормашками стояло несколько десятков девчонок и мальчишек, которые все наперебой рассказывали друг другу, как они не боятся, и даже мне, пятилетнему, было ясно, что они врут.
Я перевел взгляд с героев, которым еще только предстояло испытание, на тех, кого уже испытывали. На переднем сиденье «лодки» сидела очень красивая девочка, показавшаяся мне почти взрослой. Конечно, она же была раза в два старше меня. И вот, когда лодка стала совершать полный оборот, на ее очень бледном лице появилось такое же выражение, какое сейчас я увидел у Мари, и которое наполнило меня немыслимой гордостью. Если такая красивая девушка смотрит на тебя так, как будто ты перевернул ее вверх ногами, доставив ей такое испуганное счастье, значит, ты не зря пришел в этот прекрасный мир. По крайней мере ты его не испортил, а наоборот, украсил, не собой, конечно, что ты можешь собой украсить, а вот этим ее взглядом.
Выйдя из ресторана, мы сделали пару кругов по Площади Вогезов, на которой я помешался давно и сразу, а потом еще долго ходили по Маре. Я тогда не знал названия ни одного из особняков там, а Мари знала и показывала мне те, которые ей самой нравились больше всех, но зато я мог сказать, когда любой из них был построен, что ее безмерно удивило, и она спросила, все ли мы такие образованные в России.
Мы давно шли в обнимку, и я все время пальцами чувствовал ее тело сквозь пальто и чувствовал на себе ее руку. Эти перекрещенные за нашими спинами руки стали проводниками между нами, через которые проходил ток. А сверху, уже с помощью беспроволочного телеграфа, мы делали то же самое глазами. Мы смотрели не на, а в. Мы входили друг в друга своими взглядами. Я чувствовал, как во мне разбредается взгляд Мари, и чувствовал, как мой расходится по всему ее лицу и телу. И так было все время. Даже во время умных разговоров об архитектуре Маре. И конечно, я давно знал, чем этот вечер закончится, но понятия не имел, где и как.
А еще вокруг был Париж, без которого, как я тогда думал, я больше никогда не смогу жить.
Вообще, Париж без женщины и Париж с женщиной – это два разных города. Звучит пошло, но это совсем не пошлая правда. Да-да, наверное, это можно сказать о любом городе, но Париж в этом плане – особенный. Впрочем, как и во многих других.
В одном из закрытых дворов мы каким-то чудом оказались одни. Я, неожиданно для самого себя, даже не обнял Мари, а сгреб в охапку, как хотел сделать, едва увидев ее, прижал к себе и стал гладить по волосам. В первую секунду она слегка отпрянула от меня, почувствовав мой взвинченный нижний этаж, но потом посмотрела на меня, как пойманная птичка. «Ты красивый», – сказала Мари. Она сказала не handsome, а beautiful, но я в тот день был не склонен исправлять грамматические ошибки. У меня снова заломило в паху. На этот раз так, что я застонал. «Тихо ты», – сказала Мари по-французски, как-то испуганно засмеявшись, и я почувствовал, что мы уже во дворе не одни.
Я оглянулся, но увидел только размытые повернутые к нам лица. Насколько я мог разобрать, вполне нас одобрявшие. Я ведь был без очков. И сквозь густой туман в голове, легкий – перед глазами и боль в паху я подумал, что здорово, что я снял очки. Обороты, которые мне сегодня предстояли, были явно не для очкариков.
Дальше какой-то кусок просто выпадает у меня из памяти. Я помню только первые признаки сумерек, зажегшиеся фонари и почему-то как будто сквозь их свет ее тело под пальто, как его ощущали мои пальцы. И опять этот взгляд пойманной птички. Я потом долго думал о том, что он означал. Не знаю. Может, кто подскажет.
Вообще в тот вечер я был галантен, как никогда. За все время я ни разу даже не попытался коснуться груди Мари, и рука моя не съезжала с ее талии на бедра. Я боялся что-то сломать, что-то разбить. Что-то такое, чего у меня никогда не было, и я просто не знал, как с этим хрупким сокровищем обращаться. Опыта не хватало. Опыт был совершенно другой, и он ровным счетом ничем мне здесь не помогал.
Мы свернули в очередной переулок. Даже не знаю, мы тогда уже вышли из Маре или были где-то на его окраине. Я повернулся к Мари. Весь вечер она шла справа от меня, а сейчас почему-то слева. Господи, вот почему в память врезается такая ерунда? Какая разница, с какой стороны она шла, справа или слева? Я повернулся к ней. Уже чуть-чуть стемнело. Я любовался ее лицом, обрамленным этими великолепными волосами, и ощутил невыносимое желание влезть в нее не частью себя, а всем собой. Мы были знакомы несколько часов, а я был влюблен уже даже не по уши. Я давно провалился в этот омут вместе с ушами. Я был влюблен в парижскую девочку лет на десять, а то и больше, моложе меня, которую едва знал, и которая не понимала половину того, что я говорил, и которую я сам понимал не лучше, и постоянно домысливал, что она мне сказала.
В какой-то момент я испугался. Собственно, испугался я давно, но теперь этот страх прорвался, как лава из вулкана. У меня был приличный опыт несчастных любовей, и я не хотел повторения ничего подобного. К тому дню со мной уже лет пять, а то и больше ничего даже отдаленно похожего не случалось, и я прекрасно жил, а тут вдруг снова навалилось.
Но извержение моего трусливого вулкана быстро закончилось. Голос разума всегда звучал в моей голове, но он никогда не был ни самым громким, ни решающим и определяющим. Я выбросил эти мысли, как выбрасывают фантик в урну. Уже немного стемнело. Мари шла слева, я чувствовал ее тело рукой, которой обнимал ее, я смотрел ей в лицо и абсолютно ничего не видел перед собой, я вообще ничего не видел и не слышал, а она как раз смотрела не на меня, а вперед, причем как-то напряженно, и тут вдруг ее глаза так расширились, что белки стали видны и сверху, и снизу ее зрачков. И в ту же секунду кто-то сильно и явно специально толкнул меня в правое плечо.
У меня с плеча упала сумка Мари. Да, я же все время нес ее сумку на плече, довольно увесистую, между прочим. Потому-то она и шла слева, что левое плечо у меня давно устало и я перевесил сумку на правое. Мы еще чуть не забыли эту сумку в ресторане на Площади Вогезов. Я, собственно, только тогда-то и обратил внимание на ее существование, а до того нес просто на автомате, как будто она была со мной всегда.
Да, так сумка упала у меня с плеча. Я настолько не ожидал этого ничем не вызванного нападения из ниоткуда, что мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что произошло. И я оглянулся назад – на того человека, который прошел мимо и на чье существование я и не обратил бы внимания, если бы он не сбил с меня эту сумку.
За несколько месяцев до той поездки в Париж меня крепко избили в Москве, недалеко от метро «Выхино». Мы шли с моим приятелем Володей, очень хорошим боксером, когда на нас напали какие-то неплохо подготовленные малолетки. Первую смену мы отутюжили: я одного, а он троих. Я еще смутно помнил, что их было пятеро и, чуя неладное, сказал Володе, что надо отсюда поскорее убираться. Но он потерял кепку, которую счел ниже своего достоинства оставить на поле боя.
Как и следовало ожидать, пятый прибежал с подмогой. На этот раз их было человек двенадцать-пятнадцать. Их было так много, что они мешали друг другу. Они разбили нас, и последнее, что я увидел, – это то, что мой могучий друг упал.
Я понимал, что мне от них не отбиться, и решил, что это конец. Малолетки, судя по всему, были настроены серьезно. Помню, как сквозь сыпавшиеся на меня удары и контуры нападавших я увидел блестевший в свете фонарей асфальт и подумал: как странно, что вот здесь закончится моя жизнь, я даже как будто видел свое застывшее тело на этом асфальте.
Я не раз рассказывал об этом, и далеко не все и не всегда мне верили. Некоторые даже осторожно замечали, что в горячке драки я вряд ли мог подумать что-то подобное и не то чтобы вру, но, наверное, домыслил это уже потом, задним числом.
По-моему, просто не все понимают, что происходит в голове думающего интеллигентного человека, когда его бьют по морде, так как либо сами не думающие и не интеллигентные, либо их никогда не били по морде, что плохо, так как это все равно когда-нибудь случится, а этот опыт – чем позже приходит, тем тяжелее дается.
Я успевал подумать всегда: и тогда, когда тонул в восемь лет и озадачился вопросом: как странно, что я вытерпел дикую боль, когда мне вырывали гланды и аденоиды, а вот теперь тону в прекрасный летний день, почему и зачем все это было? Ответ пришел в виде моей теперь уже давно покойной тети, которая меня вытащила.
Когда в двадцать пять лет я попал в осыпь и свалился со скалы на Кавказе, я успел подумать, что это логичное завершение очень тяжелого периода моей жизни. До удара о землю я успел смириться с судьбой, в результате чего упал расслабленный, как пьяный, и получил минимальные повреждения. Я должен был переломаться весь, а у меня был только компрессионный перелом первого грудного позвонка и еще какого-то отростка, куча ссадин и, в качестве веселой шутки, вывихнутый мизинец на ноге.
Когда я попал под машину, уже совсем в другой жизни, через несколько лет после той поездки в Париж, у меня были доли секунды на то, чтобы что-то подумать. Я подумал и почему-то увидел горизонтально зависший в воздухе лист бумаги. Прыгая через капот, я задался очень уместным в этой ситуации вопросом, откуда он тут взялся. Из-за этого я опять как-то расслабился, почти насквозь пробил головой ветровое стекло и рухнул на асфальт. Когда я через секунду-другую сел и посмотрел на сильно покореженную столкновением со мной машину, мою уже истекающую кровью голову посетила еще одна умная мысль: кто же это ее так? Не голову, а машину.
Так что нет ничего удивительно в том, что я не только разглядел освещенный фонарями асфальт, но еще и успел подумать о нем как о своем месте успокоения.
Но главное здесь другое. Я был уверен, что это конец, и не испытывал ни малейшего страха. Я держался молодцом, дрался, неплохо отвечал, кого-то сбил с ног. Челюсть я грамотно утопил в плече, пах прикрыл уличной стойкой, которую когда-то сам для себя придумал, и довольно спокойно ждал, когда меня все-таки собьют с ног и затопчут.
Голова уже раскалывалась, когда эти подонки решили сыграть «по-честному». Они неожиданно расступились, встали в круг, в центр которого вышел свежий, до того не принимавший участия в драке, высокий длиннорукий и длинноногий парень, который стал уже бить меня в одиночку.
Боец он был хороший, судя по всему, кикбоксер, так как хорошо работал ногами, но не уличный, а спортзальный. Ничего удивительного. Тогда почти все стремились в подонки, потому что только подонство ассоциировалось с силой, обладать которой все хотели. По-моему, этот малый плохо представлял себе, чем драка голыми кулаками отличается от драки в перчатках. В зале я бы наверняка проиграл ему в одну калитку, а здесь, когда в меня полетел очередной удар, по-моему, прямой справа, который я увидел заранее, я чуть присел и верхней частью головы, той, что надо лбом, немного вскользь принял этот удар и, по-моему, то ли сломал ему руку, то ли выбил пальцы.
Почти тут же он куда-то делся, а его друзья сомкнули ряды и принялись бить меня дальше с прежним воодушевлением.
Однако на мое счастье их ярость благородная стала угасать. Я краем уха услышал что-то вроде: «Да хватит с него», – и понял, что, кажется, меня сегодня не убьют. Малолетки оказались к этому не готовы, да и место было достаточно видное со всех сторон. И вот здесь я замельтешил. До того так спокойно смирившийся с тем, что умру здесь и сейчас, я ужасно захотел жить и почти перестал отвечать на удары, говоря себе: «Ну что в этом позорного? Мне ведь их всех не побить. Так – убьют, а если я спущу все на тихую волну, может, отпустят. Вон Вовку уже, наверное, убили».
Я не ответил на несколько последних ударов. Может быть, поэтому меня и не свалили, но мне стыдно за это даже сейчас, когда я это пишу, хотя с тех пор прошло уже намного больше двадцати лет, а как мне стыдно было тогда – всего через несколько месяцев! Не было дня, чтобы я об этом не вспоминал. И этому нисколько не мешало то, что, как показало развитие событий, я был прав.
Володя от своих отбился. Он был настоящий супермен. Оказывается, когда его сбили с ног, он успел вскочить и не дал себя забить. Просто его часть битвы проходила за каким-то кустарником, куда он как опытный боец завернул, так как там к нему не могли подобраться со всех сторон. Им приходилось атаковать фронтально. Володя хорошо настучал своим противникам, и кончилось дело тем, что они от своей бессильной ярости достали ножи. Он как-то вывернул ко мне, прикрыл, успев сказать: «Я думал, тебя убили», – на что я ответил: «А я думал, тебя», – после чего мы рванули. Бежали мы так, что эти мальцы с ножиками быстро отстали.
Вот за наше бегство мне было нисколько не стыдно. Бежать от кучи подонков с ножами – это нормально. Но почему, почему я перестал отвечать на удары, пусть никаких шансов у меня и не было? Никогда себя за это не прощу и никогда больше так не сделаю, если снова окажусь в такой ситуации.
Хотя, может, я зря так из-за этого переживаю? Как-то перед одним боксерским турниром, на который я пришел, казачий хор здорово исполнил песню «Не для меня». Я ее тогда, как ни странно, впервые услышал и был совершенно потрясен. Зачем, отправляясь в бой, петь о том, что ты из него не вернешься? И тут в памяти я увидел тот асфальт, блестевший в свете фонарей, и сразу все понял. Ну, конечно! Если ты идешь в бой, не рассчитывая выйти из него живым, страх уходит, и это дает тебе дополнительный, пусть и очень небольшой, шанс выжить. Чего тебе бояться, если ты уже покойник, по крайней мере в своих мыслях? Мне показалось, что я понял тогда, почему на войне люди, которые в обычной жизни не посмеют мелкой шпане в глаза взглянуть, поднимались в безнадежную атаку.
Но тогда в Париже я ни о чем подобном не думал. Тогда у меня опять в памяти возник только этот асфальт в свете фонарей, и меня переклинило еще до того, как я успел повернуть голову.
Итак, я с некоторой задержкой оглянулся назад и увидел парня, наверное, араба, совсем молодого. Мне хотелось бы сказать, что он был огромен и могуч. Но он таким не был. Очень средний малый, чуть выше меня, но гораздо жиже, сильный только своей наглостью и уверенностью в безнаказанности. Он весело смотрел на меня. Сама мысль, что этот щенок, эта мелкая человеческая грязь приняла меня за ничтожество, которого можно вот так толкнуть только за то, что он идет с девушкой, с которой он сам хотел бы идти, за долю секунды довела меня, уже и без того бешеного, до самого безумного состояния, которое я испытал в своей жизни. Это не художественное преувеличение. Я действительно больше никогда, ни до ни после, не был так готов к убийству.
Мари повисла у меня на руке. Я вырвался. Точнее, просто стряхнул ее с руки, успев подумать, что потом надо будет за это извиниться. Наверное, я недопустимо долго считал ворон, поглощенный свалившейся на меня любовью, но этот малый этим не воспользовался. Слишком уверен в себе был. Он успел уйти на несколько шагов, а теперь остановился, как я понимаю, чтобы полюбоваться нашими испуганными лицами. Но то, что он увидел, очень скоро нравиться ему перестало. Когда его взгляд упал на меня, то, как говорят плохие романисты, «по его лицу пробежала тень». Между прочим, правильно говорят, просто слишком много раз сказали.
Я пошел на него с очень интересно прозвучавшим на парижской улице: «Убью, сука!» Я был без очков, и я хотел сначала въехать ему головой в нос и сломать его к чертовой матери. Потом подумал, что расстояние между нами приличное, и идти яйцами вперед – не самая лучшая идея. Причем «подумал», как всегда в таких ситуациях, не очень точное слово. Все происходит как-то очень быстро, и мысль не успевает оформиться в слова. Я встал в свою обычную стойку и, подтягивая заднюю ногу, прошел последний метр, вскинул правую руку, он дернулся, а я уклонился влево, завернув корпус, и с подшагом ударил слева по печени. Даже не помню, как именно я ударил, снизу или прямым вот с этим самым подшагом. Вспоминается то так, то сяк. Как бы то ни было, но он даже не успел напрячь пресс. Живот был мягкий, кулак вошел глубоко и куда надо, вот это ощущение я помню, и хотя от избыточной ярости ударил я хуже, чем мог бы, он мгновенно сложился. Я даже не успел добавить правый в голову.
В ту секунду я не думал о Мари. Все это я сделал не для того, чтоб произвести на нее впечатление, а ради себя. Но когда он, корчась, сел на землю, я тут же вспомнил о Мари, развернулся и пошел к ней, и само это движение было позерским и глупым. Нельзя поворачиваться спиной к такой свинье, как этот малый, не будучи на сто процентов уверенным, что он уже ничего не может сделать. Он не мог. Но проблема в том, что, даже если бы мог, я бы повел себя точно так же. Потому что я был с девушкой, на которую хотел произвести впечатление.
Я подошел к Мари преувеличенно спокойно, наверное, можно опять сказать, по-позерски, поднял ее сумку, забросил ее себе на плечо, вложив в это движение остатки подлинной ярости, отчего оно получилось слишком сильным, и сумка всеми своими учебниками, или что там в ней было, здорово хлопнула меня по бедру. И почему-то этот хлопок по окрестностям собственной задницы я помню лучше, чем свой собственный удар по этому говнюку. Причем, как многое из той ночи, помню даже не головой, а телом. Потом я засунул руку Мари себе под руку и мы пошли.
Господи, откуда берутся такие дни, когда с тобой происходит все сразу? За десятки лет шастаний по Европе, а теперь уже и жизни там, я всего два раза был в такой ситуации, и вот в первый раз она случилась именно в этот день!
Во второй раз она произошла лет через десять в Страсбурге. Все было очень похоже, вплоть до «убью, сука», только я был один, и поначалу на мне были очки, которые я успел заранее снять. Благодаря обоим этим обстоятельствам там обошлось без ударов. Просто я толкнул человека, который хотел толкнуть меня, и на лице у него было такое же потрясение от того, что кто-то смеет с ним вести себя так, как он вел себя с презираемыми им аборигенами.
Вот и вся краткая история моих боев на полях Европы.
Я все никак не мог успокоиться и, сам того не замечая, шел очень быстро. «Ты куда бежишь?» – спросила Мари по-французски почему-то почти шепотом, и ее голос мгновенно вернул меня в ту страну, где я пробыл несколько последних часов и откуда совершенно не собирался никуда уезжать. Но не до конца. Какая-то часть меня все еще дралась.
Меня все еще потряхивало от возбуждения, и я предложил зайти в кафе. Я еще почему-то ничего не мог сказать ни на каком языке и просто показал на него рукой. Мари улыбнулась. По-моему, ей понравилась моя аудиобеспомощность, хотя не могу понять, что тут могло понравиться. Как не понимаю и того, почему меня вдруг поразила эта немота. Я бывал в куда более опасных переделках и до, и после, но такого никогда больше не случалось.
Я выпил подряд несколько чашек кофе. Это был крепчайший эспрессо, но он входил в меня, как вода. Мари странно смотрела на меня. Так смотрят на симпатичного, при этом не очень понятного и, возможно, опасного, но не для смотрящего, пришельца. Не из космоса, а из другой страны, но при этом не иностранца, а именно пришельца, настолько он чужд всему окружающему. Как продолжение этого странного взгляда прозвучал ее вопрос: «А откуда у тебя все эти…» – дальше она сказала французское слово, которое я не понял. Тогда она провела пальцем по одному из моих шрамов на лице, которые тогда были гораздо свежее, а потому и ярче, чем сейчас, и от ее прикосновения во мне разом обмякло все, кроме… Да, все, кроме.
Пару секунд я не мог говорить. В тот день это происходило со мной много раз. Потом открыл рот и все равно ничего не мог сказать. Мари засмеялась, глядя на меня с каким-то умилением. Наверное, я был похож на рыбу. Меня разрывало от желания рассказать что-нибудь о своих подвигах, но я не мог ей врать. Хуже того, я не мог даже хвастаться. Я не мог рассказать ей и то, что действительно было. И я сказал то, что было правдой, но лишь отчасти, причем от той части, что была не в мою пользу: «Это память не о смелости, а о глупости».
Мари заулыбалась. По-моему, ей понравился мой ответ. Она была такая красивая с этими глазами непонятного цвета, разбросанными темными волосами, приоткрытыми губами. Я хотел прикоснуться к ее губам рукой, но не решился. Опять, уже в который раз, побоялся разрушить то тонкое и хрупкое, что между нами было.
Потом Мари как будто помрачнела. Вообще, у нее все время менялось настроение, а я как бы шел в ее фарватере. Так вот, она помрачнела немного и сказала сначала по-французски, но я не понял, тогда повторила по-английски:
– Тебе было все равно, жив он или мертв, не убил ли ты его.
– Одним ударом не убьешь, – ответил я, даже помню, как пожал плечами при этом.
Я был собой очень доволен, но почувствовал, что не надо это слишком откровенно демонстрировать.
– Но тебе понравилось, что ты сделал. Я видела это, когда ты пошел ко мне, – сказала Мари.
Приметила то мое движение. Кажется, я ошибся в своей попытке произвести впечатление. Надо было проявить милосердие к поверженному врагу. Знал бы, проявил, хотя брать мне его было неоткуда. Я ведь действительно был готов убить этого подонка.
– Мари, – сказал я, чувствуя немыслимое наслаждение от того, что произношу ее имя, уже плотно вошедшее в мою жизнь, – Мари, – повторил я просто для собственного удовольствия и потому, что мне все еще не хватало воздуха, – Мари, мне это не понравилось. Это просто надо было сделать.
Я сказал то, что думал, и понял, что сказал то, чего от меня ждали, то, что нужно было сказать. Это просто удачно совпало. Мари улыбнулась. Я даже не знаю, как она улыбнулась. Хорошо улыбнулась.
Я как раз собирался растечься тупой мыслью по древу и сказать еще что-то о том, что нельзя же было просто так уйти, что она бы сама меня после этого перестала уважать, но ее улыбка вмиг перекрыла этот ненужный фонтан. Все, что нужно, уже было сказано. До поры до времени в тот день я как будто перехватывал ее настроение и чувствовал, что надо делать и, особенно, чего делать не надо.
Мари еще раз подняла глаза, а потом опустила их, отчего мне показалось, что она погладила своими длинными ресницами все мое тело от лица и шеи до паха.
Официант, кажется, обеспокоился, что я выдую весь кофе в заведении, и что-то добродушно сказал по этому поводу. Мари ему ответила, я не понял, что она сказала, но лицо у официанта весело вытянулось, и он взглянул на меня с каким-то новым и очень доброжелательным интересом. Я не спросил ее тогда, что она ему сказала, а придумывать не хочу.
Там произошел еще один эпизод, даже не помню, когда именно. Кажется, уже после всех наших разговоров из обрывков фраз и междометий на двух языках. Я как раз подумал о том, как же чудовищно жаль, что я могу так мало себя донести до нее, а уж сам с ней просто пытался чайной ложкой вычерпать реку, которая все текла и текла.
И тут у Мари вдруг округлились глаза, почти как там на бульваре, она испуганно посмотрела на меня и сказала по-французски: «Дай мою сумку». Я понял только со второго раза, и то лишь потому, что она показала мне на нее глазами. Сумка висела на спинке моего стула. Я протянул ее Мари, подумав, что она все время боится что-то потерять, и мне это почему-то понравилось.
Она быстро вытащила простенький недорогой ноутбук, включила его, но он тут же вырубился. Она запаниковала еще больше, хотя было ясно, что у него просто села батарея, мы нашли розетку, включили его, и он заработал.
Мари, очаровательно смущаясь, посмотрела на меня:
– Прости, я вдруг подумала, что он сломался, когда… когда упал, – она не хотела вспоминать о драке. – В нем же вся моя жизнь.
Она покраснела. Я показал глазами на ее раскрытую сумку, в которой было еще несколько книг и тетрадей, компьютеризация наших будней тогда только начиналась, и сказал:
– Ну, там еще кое-что от твоей жизни осталось. И потом: я остался.
Мари засмеялась и опять погладила меня по лицу. Не надо говорить, какое действие это возымело. Еще я тогда подумал, что после драки прошел уже, наверное, час, а то и больше, и она только сейчас вспомнила о компьютере. Все это время мой вызвавший определенные сомнения моральный облик и здоровье того говнюка были для нее важнее. Господи, что же я буду делать со всей этой чистотой?
Тут в моих чувствах все было как-то смешано: и молодецкое самодовольство, и то, как я был тронут этой ее непрактичностью, и, конечно, жалость к ней, куда же без нее, от того, каким скромным было вместилище ее мира, и даже какой-то страх от того, что попало в мои не самые нежные руки. Мари была вся, как изящный сосуд из тончайшего стекла, и чем дольше я изучал этот сосуд, тем тоньше казались мне его стенки. В какую-то долю секунды я испугался, что он рассыплется у меня в руках.
Но я не хотел этого чувства, и оно ушло. Так далеко ушло, что я очень долго не мог его вспомнить.
Мы вышли довольно нескоро. Уже было совсем темно. Мы пошли по улице и под каким-то фонарем поцеловались. Кажется, в первый раз. У нее было легкое дыхание молоденькой девушки и мягкие губы. Я впился в нее, а Мари, прежде чем впустить меня, как-то поездила своими губами по моим. Меня опять заколошматило, а потом еще сильнее, когда она после поцелуя выдохнула на меня через нос. Почему-то я больше всего запомнил эту струйку воздуха, попавшую куда-то мне на щеку, отзвук которой опять прошелся волной по всему моему телу. О голове я уже и не говорю. Голова была совсем в плену, совсем в тумане и даже как будто не моя вовсе, потому что я как бы вышел из тела. Даже не знаю, как это объяснить. Не вышел и ушел, а вышел за границы, стал как будто больше своего тела.
Я не предлагал отвезти ее домой, а Мари не просила. Разговор потихоньку увядал, просто потому, что нам не хватало общего языка. Мари неплохо говорила по-английски, но ее это утомляло. А мои отношения с французским хоть и все время улучшались в плане понимания, но говорить свободнее я, разумеется, не стал. Зато мы теперь целовались почти под каждым столбом. И каждый раз все повторялось.
Париж погружался… ну да, погружался в ночь. Как еще об этом скажешь? Растворялся в ней, таял. Зажигал огни, чтобы и в этой ночи остаться самим собой. Было необычно тепло для этого времени суток и времени года. В какой-то момент я предложил поехать в Сите. Мари чуть поморщилась и сказала, что это очень туристский выбор. Я сказал, что люблю Нотр-Дам и вообще готику. Она спросила меня, где я уже побывал и что видел. Я ответил, что в Шартре и в Реймсе, не считая Сен-Шапель, конечно. Потом перечислил все соборы, которые собирался увидеть, и сказал, чем они отличаются друг от друга. Тут уже она многого не поняла, так как ее довольно скромного английского просто не хватало на все эти готические тонкости. А я так много говорил не из желания блеснуть эрудицией, а потому что мне надо было хоть как-то утихомирить мою давно взбесившуюся плоть. Мари удивленно посмотрела на меня и спросила, не искусствовед ли я. Она еще сказала «искусствовед» по-французски, но слово, хоть я его до этого и не знал, было уж какое-то совсем понятное и прозрачное. Я ответил, что нет, и еще сказал, что с удовольствием поехал бы прямо сейчас в Шартр, но уже поздно. Может, завтра. Для меня как-то само собой разумелось, что мы поедем туда вместе. Я не собирался больше быть в Париже один. Никогда. Я вообще нигде не собирался больше быть один. Я думал, что мое одиночество закончилось.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































