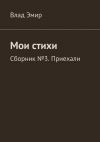Текст книги "Наезды"

Автор книги: Александр Бестужев-Марлинский
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Глава VIII
Ужели сердца тайный страх
Нам семена грядущей муки?
Ужели вестницей разлуки –
Дрожит слеза в твоих очах?
Вечеринка шла своим чередом, шумно и весело. Хозяин, хлопая в ладоши, велел музыкантам играть мазурку.
– Польские косточки и в гробу запрыгают от этой музыки, – сказал он, подстрекая молодежь к танцам. Круги сомкнулись, и кавалеры, побрякивая не шпорами, которых не носили на сафьянных сапогах, но подковами, загнутыми на закаблучье, пустились то по двое с своими дамами, то по трое попеременно в средину и снова свивались в цепи, в круги, в кресты. Трудно вообразить что-нибудь живее и живописнее мазурки, и если польский есть танец войны, то мазурка – танец победы. В ней отпечатан дух народа более отважного, нежели скромного, более пылкого, чем нежного. По смелости своей он принадлежит наиболее военным, по живости – одним юношам; и точно, старики, окружа танцующих, поглядывали только, сверкая очами, друг на друга, как будто говоря: «бывало, и мы гарцевали!»
Многие из них, однако же, припевали куплеты, не имеющие связи между собой, которых в Польше и до сих пор бесчисленное множество. Вот те, которые были в устах старика Колонтая.
Милы полякам
Битвы, беседы;
Храброму лаком
Кубок победы!
Любит он звон мечей,
Любит он блеск очей,
Стройные пляски,
Нежные ласки!
Хором
Кубок и сабля!
Сабля и кубок!
Сладостна капля
С розовых губок!
Молодые люди выбирали куплеты понежнее и позамысловатее этих, но старик Колонтай любил все, что напоминало ему его время, что дышало старинною простотою и удальством напольным.
Князь Серебряный, улучив время, когда все ноги, и глаза, и сердца заняты были мазуркою, сошел вниз, отыскал своего Зеленского и, отведя его на сторону в саду, спросил, нет ли каких новостей.
– Покуда самое хорошее, что перестал дождик, а самое худое, что Мациевский в околице и не сегодня завтра нагрянет сюда. Про тебя, сударь князь, слухи, будто убит в наезде!
– Я докажу этим сорванцам, что я живехонек. Отправлены ли рейтары Колонтаевы под Опочку?
– Ушли недавно; только они так хмельны, что нам не трудно будет обогнать их. У них в каждой корчме привалы.
– Тем лучше… мне хоть умереть, а поспеть домой для отражения. Я поссорился с молодым Колонтаем, но частные ссоры можно отложить и потом разведаться на границе. Осмотрел ли ты сбрую и оружие?
– Даже подковные гвозди в исправности – этот прокля…
– Тсс! тише – мне кажется, кто-то мелькнул за деревьями!
Оба замолкли, прислушиваясь, но только остальные капли падали с кровли в лужу – все было безмолвно.
– Это тень из окон, – сказал, ободрясь, Зеленский.
– В исходе десятого, по моим часам (князь отдал их Зеленскому), ты проведешь коней для нас и для Варвары Михайловны за садовою стеной к старой башне. Я с ней выйду туда – и поминайте как звали. Надеешься ли ты сделать это незаметно?
– Теперь если бы конюхов положить в пушку и выстрелить, так они и тогда бы не проснулись от хмеля.
– Условный знак – два свистка, ответ – удар в ладоши!
Оба потихоньку прокрались в разные стороны.
– Ну что же, homo di poco fede (маловерный), каковы женщины? – сказал, засмеявшись, хорунжий Солтык Льву Колонтаю, подслушав тайну беседы. – Этот Маевский, право, лихой малый – он в один миг обернул около пальца твою суровую красоту; ей-ей, я хочу проситься к нему в ученики!
– Кровь! – произнес Колонтай едва внятно; так гнев задушил его голос. – Коварная обымет труп своего обольстителя!
– Полно дурачиться, милый друг! Если бы мстить за каждую неверность жен и любовниц, так польскому королю пришлось бы набирать амазонские дружины, чтоб воевать с неприятелями. Последуй мне: я с отчаяния глотаю рюмку венгерского, выучиваю новую песню, влюбляюсь снова – и утешен!
– Но кто этот злодей? Как мог он?..
– Это мне самому любопытно узнать, diletto amico mio [5]5
возлюбленный друг мой (ит.)
[Закрыть]. Однако ж здесь сыро – и мне хочется сказать пани Ласской, что она танцует, как ангел, если ангелы танцуют. До свидания.
Несколько минут стоял Колонтай неподвижен от гнева и огорчения – и мстительные замыслы вращались в голове его. Наконец он пришел в себя – и тихо возвратился к дому.
Не предчувствуя грозы, готовой разразиться над его головою, князь Серебряный, строя воздушные замки, полон надеждою и любовию, поглядывал на большие стенные часы, которые, будто краковская ратуша, стояли в углу, разукрашены фольгою и резьбою. Душа его прильнула к самой стрелке, и всякий раз, когда раздавался звон четвертей, – высоко билось сердце наблюдателя. Уже была половина десятого, но чем ближе подходила медленно переступающая стрелка к желанной мете, тем сильнее теснился страх в грудь его, – то хотелось ему отдалить роковую минуту, то видеть ее далеко за собою. В это время он заметил Льва Колонтая подле Варвары в жарком объяснении. Казалось, он укорял ее, она уговаривала его с нежностию – сомнения снова проникли в сердце князя и умножили тоску ожидания. Сложа накрест руки и грозно бросая взоры то на Колонтая, то на часы, – стоял он, будто прикован к одному месту.
– Пан Яромир так пристально смотрит на часовую доску, как будто хочет на ней прочесть судьбу свою, – сказала ему пани Ласская мимоходом.
Князь вздохнул.
– Пани Элеонора угадала, – отвечал он, – время и женщины для меня непонятные письмена.
– Говорят, что время разгадывает нас, а я разгадаю пану время: оно – крылатый червяк, который то ползет, то летит летом. Кто хочет поймать его – тот не верь будущему часу!
– Этот урок для меня напрасен, – отвечал князь Серебряный и, видя, что пани Ласская успела посадить с собою за карты Льва Колонтая, как тот ни отговаривался, – очень доволен ускользнул из залы, блистающей огнями, где тщеславие и остроумие, красота и любезность спорили о победе.
Стрелка всходила на десять.
Пробравшись до старой башни, князь долго ходил взад и вперед, волнуем нетерпением и опасениями. Трудно было решить, для какого употребления выстроена была в том месте башня. В старину не помещали в садах развалин замков, никогда не существовавших, не оклеивали мохом пещер, сбитых из сосновых досок и убранных устричными раковинами на гвоздях; а замок, казалось, не был никогда назначаем выдерживать осаду, – и примыкающие к ней садовые стенки были очень невысоки и надстроены частоколом. Как бы то ни было, только верх древней этой башни занят был теперь голубятнею, – а железная дверь, ведущая вниз ее, стояла настежь, – по всему видно было, что там уже издавна никто не жил. Заглохшие дорожки, мрачно и однообразно обсаженные липами и дубами, тянулись в обе стороны.
Скоро послышался князю топот коней за стеною. «Это мой Зеленский», – подумал князь, не смея, однако ж, подать ему голоса.
Через пять минут быстрые шаги кого-то привлекли его внимание, – он слушал не переводя дух, – видеть было невозможно.
– Здесь ли? – прошептал робкий голос, и рука Серебряного встретила трепещущую руку Варвары. – Поспешим, – сказала она, – земля горит под моею стопою – Колонтай так страшно следил меня взорами… спаси меня от плену – от собственного сердца!
– Одно слово, Варвара, прежде чем пустимся на жизнь и смерть; слово надежды, если Бог нас вынесет, слово отрады, если моя доля – пасть: скажи, любишь ли? можешь ли ты любить меня?
– Как брата, князь! Не могу обещать более. Сердце не вольно в выборе – оно любило Льва Колонтая!
Князь Серебряный от этих слов оцепенел, как будто наступил на змею.
– Скорее, скорее, – говорил им Зеленский, сбивая замок, – двери заперты изнутри!
– Мы погибли! – вскричала Варвара, сплеснув руками, – этого никогда не бывало… Боже мой, я вижу свет!
– Теперь мне красна смерть, – сказал князь, обнажая саблю.
Зеленский напрасно рубил частокол, взобравшись на стену: жерди были крепки, темнота и торопливость мешали ему.
Крики приблизились – кровавый отблеск озарил башню – Лев Колонтай задыхался от бешенства.
– Стой, стой! – восклицал он. – Ты не уйдешь, робкий злодей, от моего мщения – я и в аду найду тебя!
– Ступай туда искать себе подобных! – отвечал, вспыхнув, князь, встречая саблею саблю.
Бледная, как мрамор, упала между ними Варвара бесчувственно, но, не внимая ничему, кроме своей ярости, они еще злобней схватились над телом ее в битву. Колонтай нападал с запальчивостию, оглашая воздух проклятиями неверной и угрозами обольстителю. Князь рубился молча от злобы – и уже кровь текла из ран обоих на несчастную виновницу их гнева.
Картина была ужасна. Колонтай махал саблей и пламенником, в левой руке его пылающем; голуби, пробужденные шумом и светом, хлопая крыльями, вились около и, натыкаясь на острия, падали, трепещась, на землю. Робкая толпа, озаренная зеленоватым огнем факелов, и, наконец, женщина, распростертая у ног сражающихся, побелевшая от холода смерти, – все наводило трепет на сердце. Появление устрашенного отца было уже поздно для отвращения кровопролития – Лев с разрубленной головою упал к ногам его!!
– Спасайся, – вскричал князь Серебряный Зеленскому, который невольно был только зрителем битвы, притаясь за частоколом, – и во что бы то ни стало уведомь обо всем Агарева. Пусть он не думает обо мне, пусть он заботится только об отражении набега – вот последняя воля моя – спеши!
– Это он, это он! – произнес Зеленский, когда толпа гостей окружила князя, и скрылся из виду.
Опершись на саблю, вперив неподвижные очи на соперника и любезную, простертых у стоп его, – на два предмета его ненависти и привязанности, теперь для него уже не существующих, поражен безнадежностию в ту минуту, когда, казалось, он хватал за крыло счастие, – князь не замечал, что новое лицо – высокий, сурового вида мужчина вглядывался в него пристально.
– Я не ошибаюсь, – сказал он наконец, – этот удалец – князь Серебряный, тот самый, с которым я был знаком в Москве, с которым дрался под Москвой и который третьего дня сделал набег в наши границы от Опочки!
– Стрелецкий голова?.. – вскричали многие голоса, – повесить его как разбойника, как лазутчика!
Князь медленно, но гордо поднял очи, с усмешкой презрения окинул ими собрание и снова впал в задумчивость. Какая угроза, какая беда могла увеличить его злополучие!
Но если зловещий голос лисовчика не произвел никакого впечатления на князя, зато он пробудил всю злобу отчаянного отца, который напрасно старался привести в чувство любимого сына. Горесть его превратилась в ярость и потоком проклятий излилась из сердца.
– Схватите его, скуйте его, бросьте этого самозванца в сарай сырой, в самый душный погреб, чтоб оттуда был один шаг до ада, – кричал он неистово. – Злодей русской породы, – тебе мало было грабить в границах польских, в моих деревнях, губить и похищать во мраке ночи – нет, ты дерзнул еще вкрасться в дом мой, насмеяться над гостеприимством и, наконец, убийством сына заплатить за хлеб-соль хозяина. Бедный мой Лев, единственная моя утеха… кому теперь передам я имя Колонтаев!
Старик сплеснул руками над головой, и рыдания прервали речи его. Но скоро любовь родительская зажгла в нем опять воспоминание обиды и жажду мести за кровь…
– Но если на старости лет мне придется лечь в гроб сиротою, – воскликнул он, – ты, Серебряный, ты, убийца моего сердца, моего имени и племени, ты бесчестною смертью умрешь на могиле, в которой схоронят все мои надежды; ты будешь первым памятником моей любви к сыну… Тогда!.. нет, всегда – жив он или мертв – ты все-таки не избегнешь погибели; в этом клянусь моей честью и отчизною! Ничто, никто не спасет тебя – я не возьму бочки золота за твой выкуп… Ты падешь на жертву моей мести, на страх всем врагам моим. Сорвите с него польскую одежду, – примолвил он, сверкая взорами, – которую он позорит, и киньте злодея в эту башню. Шесть человек часовых мне жизнию отвечают за его тело – а душу его я с наслаждением вырву завтра!
Во всяком состоянии есть низкие люди, готовые в радости сердца исполнить самые бесчеловечнейшие, самые бесчестнейшие приказания торжествующей силы, отравляя насмешками побежденное несчастие. Многие из шляхтичей надворных кинулись обрывать и вязать окруженного князя, и хотя благородные поляки с негодованием смотрели на это, но они знали, что противоречия только раздражили бы Колонтая, – и молчали. Сопротивление со стороны князя было бы безрассудно – он не произнес ни звука, не сделал ни одного движения в защиту свою – он только бросил презрительный взор на хозяина. Наглые челядинцы грубо втолкнули его в темный погреб и со смехом захлопнули двери.
Глава IX
Во мгле непробудимой ночи,
Казалось, блещут злые очи,
Внимает влажная стена
И будто шепчет тишина;
Порой лишь капля водяная
Сквозь плит холодною слезой,
На миг безмолвие смущая,
На звонкий пол спадала мой,
Как память жизни, воли милой,
Цветущих над моей могилой.
Медленно течет время узника. Князь Серебряный, брошен на сырую землю, полураздетый, окованный, тоскуя, смотрел на одинокий солнечный луч, как змея ползущий по стене. Описывая полкруга, он подымался выше и выше, по мере того как западало солнце, – сверкнул на потолке и померк, будто звезда надежды. Отчужденная от мира стенами темницы, душа любит утешаться ничтожным подобием счастия, лестными гаданиями о будущем – и огорчена малейшею неудачею, случайною мечтою сна. Так было и с князем. Покуда сиял ему луч дня, он будто видел в нем друга, делящего с ним скуку заключения, будто читал в нем обет свободы; но когда мраки ранней ночи охватили его – невольный холод пробежал по членам, и мысль о безвременной погибели бросала его то в ярость, то в отчаяние. Неизвестность будущего напрягает душу, как тетиву, и малейшее дуновение исторгает из нее грустные звуки – она дрожит, готовая расторгнуться. Но когда к скорби неволи присоединяется еще ожидание смерти, томление ревности и раскаяние в своих ошибках, тем горестнейшее, потому что оно поздно, – то муки нетерпения пронзительны и глубоки… они, как зубристое жало, впиваются в сердце. Князю будто слышался голос злого духа: «ты не любим – она в объятиях другого!» И он в припадке бессильного гнева потрясал цепями и, снова пораженный безнадежностью, упадал, как хладный камень между каменьями.
Почти сутки протекли его заключению – но к нему только однажды входил страж с кружкой воды и куском хлеба. Кругом было темно, как в душе его, и тихо, будто в могильном склепе. Взор напрасно напрягался уловить предметы, ухо напрасно ждало каких-нибудь звуков для развлечения. Башня разделена была стеною надвое, и в передней комнате, за дверью, поместились караульные. Порой раздавался только мерный шум шагов часового, и порой слышалось храпенье его товарища… и вот ропот разговора привлек любопытство узника. Казалось, говорил тот, который проснулся:
– Проклятые каменья! и сквозь солому ребра переломали – а уж так сыро, что я обрасту мохом, если еще ночь здесь заночую!
– Экая неженка! от одних суток размяк, словно пряник от дождя. Потерпи немного – здесь не век вековать. Коли не в ночь, так уж, верно, к свету этого русского забияку – в землю, а мы – в постель! спи хоть до преставления света!
– Черта с два в землю: паны гости за него взъерошились, да и сам пан Лев в упрос просит старика!
– Слышь ты, старик и слышать не хочет: рвет и мечет встречного и поперечного. Заклялся его извести, так не спустит. Уж двенадцати рейтарам велено в исправе ружья держать… хочет на вороты, да и «циль-паль».
– Хоть бы посмотреть, как его распалят, я отродясь не видывал, как добрых людей расстреливают.
– Нет, я так, слава Богу, и видел, и сам палил; было смеху вдоволь, когда жида Берку за разводку вина потянули к Иисусу; бедняжка не успел перекреститься, ан хлоп – и как не было!
– Тут, брат, и православному не до креста, не то что еврею – да полно, верно ли это сбудется?
– А вот так-то верно, что я готов о кварте водки заклад держать! Старый пан при мне наказывал ловчему, чтобы все было готово, покуда гости спят!
Князь Серебряный был мужествен от природы и от привычки, и только одно сомнение, одна неизвестность могли волновать его, но когда опасность превратилась в достоверность неизбежную – он хладнокровно встретил весть о смерти, с которою так свыкся в семилетние мятежи. Правда, природа взяла свое после борьбы различных страстей и опасений – слезы градом покатились из его очей, когда он вздумал о родных, о родине, о славе, для коих он жил, для которых уже погибнет в цветущем возрасте. Но подумал уже без страха.
«Я сожалею только об одном, – сказал он самому себе, – что умру бесславною смертию, а не на стене Опочки. Я виновен, что слушался более сердца, чем долга, – но кто бы не сделал того же для выручки несчастной сироты… Прочее в руке Бога. Не в моей воле было забыть ее, не в ее власти любить меня – пусть будет то, что нам обоим написано на роду».
Он занят был такими мыслями, когда в передней послышался отголосок шагов многих особ, – свет блеснул в щели дверей – ключи брякали – замок скрипнул пружиною… Князь перекрестился с биением сердца.
Неожиданное появление Мациевского, который спешил попировать на праздник к Колонтаю, но опоздал, изломав на дурной дороге бричку, так поразило Зеленского, что он, схватя в завод только одного коня, ускакал, не оглядываясь. В суматохе никто и не думал за ним гнаться, но он, никем не гонимый, все-таки летел во весь опор, воображая, что слышит за собой преследование, и шорох каждой ветки, взлет испуганной им птицы бросали его в жар и холод. Окрестными дорогами, которые от дождя слились в топкое болото, он скоро утомил коней своих. Поневоле пришлось ему ехать рысцою, хотя испуганное сердце скакало в груди беглеца. Крепко ему было жаль своего доброго князя, и, воображая о горькой доле, его ожидающей, всякий раз он ронял на ветер пару слез и каждый раз запивал свое горе водкою из дорожной фляги, с которою три дня не здоровался. При этом, желая исполнить скорее поручение князя и надеясь, что Агарев его выручит, он очень усердно отвешивал коню своему несколько ударов плетью, как будто он водкою подкреплял его, а не себя. Видя, однако ж, что и эти убеждения перестали действовать на четвероногих, он скрепя сердце заехал нарочно в самую бедную деревушку, чтобы не встретиться с рейтарами Колонтая. Войдя в одну пустую избу – потому что хозяева разбежались со страху, издали завидя всадника, от которых им не было ни житья, ни покою, – Зеленский отыскал в поставце и в печи кой-чего позавтракать; заложил некупленного корму коням и потом, запершись кругом, залез на сено под самый конек кровли и заснул там сном богатырским.
Солнце перекатилось далеко за полдень, когда он проснулся, а ему еще оставалось верст двадцать дороги. Он поспешно оседлал коней, пересел на подручного, чтобы уравнять силы обоих, и, очень счастливо никого не встречая на дороге, приближался к Великой. Предполагая, что Жегота изберет обыкновенную переправу ниже Опочки, он нарочно взял вправо, чтобы с ним не столкнуться, и уже сквозь деревья ему мелькали на закате солнца холмы противоположного берега, уже он стал спускаться к реке, как вдруг двое с ног до головы вооруженных людей с двух сторон выпрыгнули из орешника и схватили под уздцы его лошадь.
– Ни с места, – произнес один из них.
– Если ты пошевелишь языком или оружием, я приколочу тебя, как бляху, к седлу, – произнес другой.
«В хорошие руки я попал», – подумал Зеленский: но он не хотел, однако ж, показаться перед ними трусом.
– Да как вы смеете, да почему вы осмелились остановить вольного шляхтича? – вскричал он, подымаясь на стременах.
– Полно шуметь, товарищ, – отвечали ему, – ты видишь, как, а почему – узнаешь.
Сказав это, один повел его в чащу, между тем как другой, держа короткое ружье наготове, шел сзади. Зеленский недоверчиво поглядывал на обоих. Против всякого чаяния его привели к Жеготе.
Панцерные дворяне были учреждены еще при Ягеллонах, во время войн с крестоносцами и русскими, и – за обязанность садиться на коня по первой тревоге – пользовались всеми привилегиями шляхетскими. Как всегда случается с военными кастами, панцерники любили более грабеж, чем работу, и пограничное положение их давало к тому тысячи способов. Правда, и русские не оставляли их в покое кушать добычу, отплачивая набегами за набеги, отмщая личные обиды или выручая свои убытки, но так как панцерники были наездниками по природе и ремеслу, то выгода почти всегда оставалась за ними. За недостатком законного грабежа эти рыцари ночи выезжали нередко вблизь и вдаль на дороги облегчать от лишнего грузу своих соотечественников, а истинное или мнимое хищничество русских служило им предлогом и отговоркою.
Пан Жегота был одним из самых удалых рубак и самых беспощадных разбойников; два качества, которые в те времена феодального безначалия почти всегда сливались воедино, и ему недоставало только знаменитого сана, чтобы подвиги его были прославлены. Зато, если высшее дворянство обходилось с ним едва не презрительно, – окружные, дробные шляхтичи, вербовщики конфедераций, охотники до перекапывания гранных столбов и до заездов на соседние пашни, снимали шапки, произнося его имя, – так между ними был славен этот атаман забияк.
На небольшой поляне несколько человек спали в вооружении – кругом раздавались звуки топоров по соснам. Сам Жегота сидел на сброшенном седле. Под серым широким плащом сверкала кольчуга, но голова покрыта была рысьею надвинутою на брови шапкою. Он варил в котелке молоко с пивом и, помешивая его ложкою, жарко разговаривал с другим поляком, против него лежащим. Самопал и сабля лежали под рукою, и между ними выглядывала фляга – как будто и она принадлежала к числу оружия. Усатый шляхтич, с которым он разговаривал, потягивался на другой стороне костра, в контуше, на котором можно было привести в известность каждую нитку; зато, конечно, никто не решился бы взять греха на душу – сказать, какого он был цвета. Огромный палашище качался поперек его туловища, как весы. Они продолжали разговор, не замечая новоприбывших.
– Ты черт, а не человек, пан Жегота, – у тебя в жилах водка с порохом… лихая выдумка, ради борова святого Антония, славная выдумка! – сказал шляхтич.
– Небось не дадим промаха, – отвечал Жегота. – Вместо того чтобы обирать крестьян, у которых, признаться, и лишнего пера в петушьем хвосте не оставлено, мы, словно горшком воробьев, накроем русских в самом замке. Половина засадных ратников выслана с сотником в погоню за моим сыном, которого я нарочно послал выманить их из крепости, а остальные ни сном ни духом не чуют, каким завтраком мы их попотчуем с лезвия. Зная, что вблизи нет строевых шведов, ни поляков, они спустя рукава сторожат стены – а нам не привыкать стать лазить по-кошачьи. А уж ворвемся туда – гуляй душа, своя рука владыка. Только смотри, пан Плевака, подплывши потихоньку на плотах к острову, – кроши всех и реви пуще всех.
– Ради Валаамова осла, пан Жегота, да я что за рыба, чтобы не кричать во все горло; а горло у меня, не хвастовски сказать могу, что твоя труба, – рявкну, так на ногах не устоишь. На будущем сейме за него мне не один червонец перепадет, а уж что касается до палаша, – бассама те теремте – человека пополам, как тыкву.
– Ну, то-то же, пан Плевака, сам помни, да и другим скажи: кто идет с Жеготою, тот не оглядывайся – у меня провожатый к старому замку – пуля. Я не люблю шутить.
– Ради краковского колокола, пан Жегота, разве мы не родовитые шляхтичи, разве наша храбрость не известна всей земле? Слово гонору – осмелься кто покривить рожу, сомневаясь в этом, – так в один миг у него будет двумя усами менее… да мы готовы в самый ад прыгнуть за славою!
– Припеки тебе лукавый язык, пустомеля, хоть тебе не миновать аду – только, верно, совсем за другие причины. Ты не за славой ли лазил в карман к подсудку Дембеку?
– Тише, пан Жегота, ради бесовского хвоста потише – что нам за охота связываться с ябедою; я по сию пору боюсь пустить его злоты плясать по корчемному столу – они и в кошельке гремят доносом.
– Давно бы так. Кажется, пан Плевака, и я чего-нибудь да стою, как ты думаешь?
– А почему мне знать, пан Жегота. Лукавый лучше ценит, почем у тебя продается душа и сабля!
– Ах ты, осиновое яблоко! шутник, собачья голова, – а все-таки о прежнем речь. Я не кинулся бы в петлю, не видя поживы. И теперь меня взманило свезенное жителями в Опочку добро. Да, кроме того, сказывают, у нового головы много своей драгоценной посуды – мы ей протрем глаза… а самого этого князька Серебряного, будь я холоп, а не вахмистр, если не перечеканю в деньги.
– Ха, ха, ха! сперва надо сделать выжигу, пан Жегота, а в этом положись на меня – ради борова святого Антония, на меня!
Зеленский не проронил ни слова – но люди, которые привели его, видя, что атаман не обращает на них внимания, наконец громко сказали Жеготе, что они перехватили этого шляхтича, когда он хотел бродиться за реку. Пан Жегота поднял глаза и чуть двинул шапкою на поклоны пришельца.
– Черт меня согни в бараний рог, если где-нибудь я не видел васана добродзея, – сказал он.
Зеленский напомнил ему, что они вместе пили у эконома в замке Колонтаевом.
– Так зачем же нелегкая несет тебя в Русь, и еще со вьюком?
Зеленский, видя, в каком обществе находился, кивнул значительно Жеготе головою и, подлаживаясь под его стать, сказал на ухо, что он имел честь служить у пана Маевского, который имел неприятность быть убитым, ранив на поединке Льва Колонтая, а что он, пан Стребала, имел благоразумие, оставшись сиротою, убраться с чемоданами и конями подалее.
– А, а, понимаю, имел честь бежать. Это лихо, это по-нашему, пан Трепала, пан Стрекала, пан Стребала, – как бишь ты назвал себя? Милости прошу к моим молодцам в науку – между глаз нос украдут. Только извини, приятель, хочешь не хочешь, а оставайся здесь до завтра. Сегодня ни одной души не перепущу за реку; у нас там будут свои счеты, так надобно врасплох пожаловать. Пан Плевака, что ж не потчуешь гостя!
Фляга пошла гулять по рукам – и Зеленский, поглядывая волком к лесу, не переставал, однако ж, улещать хозяев своих и шутливостью очень им полюбился.
– Ради бечевки святого Францишка, пан Стребала, ты за полверсты пахнешь пенькою! Пршистан, Юрка, до вербунка! И с нами в наезд!
– С вами в огонь и в воду, – отвечал Зеленский, притворяясь пьяным.
– Кохаймыся! От пана до пана! – возгласил Жегота, – а между тем не видал ли ты рейтарии Колонтая?
– Мне было не до них, – а, кажется, вдали тянулись вершники…
– Растянул бы их в проволоку – этих женских прихвостней: как танцевать – то их на цепи не удержишь, а драться, так ленивы. Да я радехонек: белоручка, их ротмистр, пришел бы надо мною распоряжаться да величаться, а я не больно жалую чужие указы – а всего меньше подел добычи. У волка не тронь оглодка!
– К черту всех колонтаевцев! У нас и без них сотня таких рубак, что на каждый мизинец по пяти русских мало, – добре бьют и добре пьют! Бассама те теремте!
Зеленский, боясь, чтобы ему не потерять головы прежде времени, свалился на траву и захрапел, будто сонный.
– Удалой парень! – сказал про него Плевака.
– Да, если б дрались языками, так вы оба богатырями бы прослыли! хорош гусь, коли с кварты кувыркнулся!
– Не всем за тобой тянуться, пан Жегота; скорее напоишь воронку, чем тебя. А чемоданчики-то умильно глядят, товарищ… Как ты думаешь?
– Что тут и раздумывать! Его совестно отпустить к русским – беднягу оберут, как липку. Когда начнется переправа – ему толчок в бок, и концы в воду. Это твое дело, пан Плевака: ты ведь рыцарь добродетели и славы!
– Ха-ха-ха! Я его опохмелю осетринного настойкою, ради самого пана Твердовского опохмелю. А коли вынырнет, так еще и благословлю на дорогу молотком своим!
– Однако месяц сегодня зайдет перед утром, так нам можно и отдохнуть до тех пор: работы ножевой будет вдоволь.
Жегота, отдав нужные приказания, завернулся в плащ, ему последовал и Плевака. Через четверть часа они уже храпели во всю ивановскую.
У Зеленского сердце билось, как рябчик в петле, слыша, какую участь готовили ему злодеи… он робко поднял голову: все спали, огонь чуть дымился, месяц тихо всходил на небо.
Тогда и в устроенных войсках военный порядок наблюдался очень плохо; мудрено ли же, что не было стражи у этой вольницы? Желая сохранить тайну своего похода, Жегота велел останавливать проезжих днем, но в ночь их не могло быть – в смутные те поры не только на дорогу, но и на улицу не выходил никто.
Зеленский, трепеща, дополз до своих коней, потихоньку отвязал их и потихоньку повел к реке… но в это время один панцерник проснулся, привстал – беглец замер на месте, склонясь за конем, и тот, никого не видя, опять склонил голову… Зеленский мимо и мимо – и вот уже на берегу.
Великая, вздувшись от дождей, сверкая и гремя, катила волны по каменной луде; прибой плескал между грядами валунов. Зеленский стоял в нерешимости: брод был ему неизвестен, а река, по сказкам, в этом месте была глубже и быстрее; но опасность грозила ему сзади, долг благодарности звал вперед, участь крепости и спасение князя зависели от одного его слова – и он решился. Спугнув заводного коня вперед, он съехал и сам в воду; глубже, глубже – волны с шумом кипели, неслись, плескали на седло, голова его кружилась, в глазах рябило – и вдруг конь и всадник исчезли в крутящемся омуте.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.