Читать книгу "Праздник лишних орлов (сборник)"
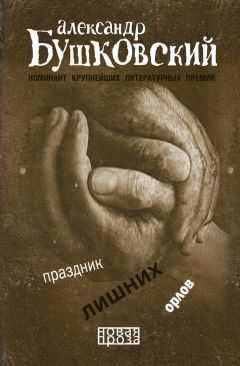
Автор книги: Александр Бушковский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Да ничего, кроме того, что он на острове. Чую спиной, что-то не так. Ты же его знаешь, по голосу не поймешь, что у него происходит. Перезваниваю – телефон отключен.
– Ладно, поехали на заправку. Я на всякий случай взял бутылку водки. Дашка какие-то бутерброды положила. Денег, честно говоря, впритык.
– Ничего, хватит. В святую землю едем, авось не пропадем. Я потому и ружье не взял. Не хватало еще по монастырю с ним болтаться. И на пароход могут не пустить.
– Удивляюсь я тебе, братуха! – заговорил Горе, когда выехали со двора. – С детства тебя знаю, а ты все, наивный, в сказке живешь. Не будь у нас тогда ружья, шли бы мы домой пешком. Да еще и собирали бы, как ты говоришь, выбитые зубы сломанными руками.
– Может быть. Кто его знает…
Горе
…В тот раз, возвращаясь из больницы от Фомы, часа в два ночи они остановились поесть в бревенчатом придорожном кафе возле древней заправки. Машину оставили прямо у крыльца. Им хотелось выпить по сто пятьдесят, похлебать горячего и чуть-чуть покемарить в машине. Девушка за стойкой налила им борща, водки и, подперев щеки ладошками, ласково на них глядела.
– Ты заметил? – спросил Горе вполголоса.
– ?..
– Куда ни приедешь, одна лучше другой. И чем хуже дыра, тем девки краше! Вот страна северная!
Пух кивнул.
В кафе они были одни. Горе уселся так, чтобы лучше ее видеть, и поднял пластмассовый стаканчик:
– За гостеприимную хозяйку.
Хозяйка скромно улыбнулась. Только они выпили и стали размешивать в тарелках сметану, в кафе уверенно вошли три молодых человека. Сели за соседний стол. Было видно, что они здесь даже не завсегдатаи, а просто хозяева. Крупные, в темной одежде. Уже спокойные, хотя еще и не матерые.
– Кать, налей нам два пива и Сереге чай, – сказал самый крупный и темный – как видно, главный.
Катя принялась выполнять команду, а парни ненавязчиво оглядели Пуха с Горем. Все присутствующие молчали.
– Привет, парни, – начал главный. – Издалека?
– Здорово. Соседи ваши, – ответил Горе.
– То-то мы глядим – машина с другими номерами. Ваша?
– Наша. – Горе разговаривал легко, по-доброму.
– Хорошая машина. Вроде не новая, а выглядит. Не продается?
– Хотите купить? – Тон Горя нисколько не изменился.
– Может, и купили бы. Какого года-то?
– Не старая еще.
– И сколько хочешь за нее? – Главный перешел на «ты».
– У тебя денег не хватит. – Горе продолжал за разговором хлебать борщ.
Лидер помолчал немного и снова спросил:
– А все-таки? Вдруг хватит?
Горе зажмурился, как от удовольствия, и отрицательно мотнул головой.
– Ну, как хотели. – Главный говорил негромко и будто лениво. – Просто места у нас тут глухие, вдруг чего случится? Сгорит, к примеру, и жаловаться некуда.
– Ладно, парни, давайте обсудим, – почти без паузы ответил Горе.
Пух опешил от того, как легко он соглашался с беспределом.
– У меня там в машине пяточка запарена[1]1
Запарена пяточка – спрятана папироса (жарг.).
[Закрыть], пойдем курнем, покалякаем. – Горе встал, оставил недоеденный суп, недопитую водку и, не глянув на Пуха, пошел к выходу.
Пух как можно спокойнее отправился за ним.
Молодые люди переглянулись, главный кивнул, и все трое двинулись следом. На крыльце они полукругом встали рядом с Пухом. Горе жестом притормозил их, сказал: «Щас, пацаны!» – и спустился к машине. Быстро открыл багажник и обернулся, держа ружье наизготовку. Очень тихо щелкнул предохранитель. Пух еле успел приоткрыть рот, чтоб не оглушило. Навскидку Горе выстрелил сначала в неоновую вывеску над головами, а через секунду – в крыльцо под ногами. Дробь жестко хлестнула по доскам, выстрелы зазвенели в ушах, а с вывески посыпалось стекло с пылью. Все, стоящие на крыльце, втянули головы и чуть присели. Свет погас. Горе открыл затвор, гильзы хлопнули и покатились по асфальту. Он быстро вставил новые патроны, снова приложил приклад к плечу и поднял стволы в лицо главному.
– Ну, чё, бледина, все еще хочешь купить? – сквозь зубы, негромко спросил Горе, но услышали его все.
Ответа не было. Никто не двигался.
– Тогда никого не держу… – сказал он вроде бы спокойнее, но вдруг слегка поднажал голосом: – Ну!
Трое быстро ушли обратно в кафе. Пух тряс пальцем в ухе. Вкусно пахло порохом.
– Поехали, Пух! Вот ключи, садись за руль.
Пух завел машину, Горе сел с ружьем на сиденье справа, и они тронулись.
– Не гони, рули спокойно, – велел Горе, и Пух сбросил газ.
Ночующие в кабинах дальнобойщики уже заводили моторы и, не зажигая фар, уезжали со стоянки.
Километра два они проехали молча, потом Горе закурил.
– Далеко отъезжать не будем, – заговорил он, – вдруг кто в ментовку позвонил, а мы выпивши, и ружье при нас. Сворачивай на проселок – и в лес.
Пух остановил машину под низкой раскидистой сосной на опушке и погасил фары. Трассы отсюда не было видно, но они все же курили в кулак.
– Как думаешь, поедут нас искать? – спросил Пух, лишь бы что-нибудь сказать.
– Да ну!.. Пожрать не дали нормально… бандиты, бля!.. – Горе вдруг озорно улыбнулся. – Хорошо, ружье было собрано!
– Ты давай покемарь, а я пока посижу, погляжу вокруг, – предложил Пух.
Удивительно, но Горе довольно быстро уснул. Проснулся от холода, когда стало светать. Ясно и роса. Пух спал, откинувшись на сиденье. Ружье лежало между ними. Жизнь продолжалась, свежа и ярка. Горе завел мотор и включил печку на полную. Пух заворочался, поежился, но не проснулся. Горе решил его не будить…
Пух и Горе
И вот снова на север. Миновали посты, оставили за спиной освещенный город, Пух добавил скорости и включил дальний свет. Спать не хотелось, наоборот, было тревожно и радостно. Отчего?
– С детства люблю дороги, – сказал Горе, потирая ладони, – с «малолетки» еще. Даже раньше, еще с тех пор, как твой брат научил меня на мотоцикле ездить. Полный бак, чай-курить есть, жить можно! Даже бутерброды с собой, чего еще надо?
– Да уж, нам лишь бы из дому сорваться. Уже праздник. Почему с «малолетки»?
– Потом как-нибудь приколю… Праздник не праздник, а все веселее. Да и чё не радоваться? Хоть одного нормального человека повидаем. Устал я уже от всяких хапуг. Только боюсь, как бы он там не постригся уже. А то приедем, а он к нам выйдет в рясе, поклонится, перекрестит и скажет: «Вай ком диос, амигос!»[2]2
«Ступайте с богом, друзья!» (ломаный исп.).
[Закрыть] Что тогда?
– Он бы тогда не звонил, – возразил Пух. Его такой итог не устраивал, и он не хотел об этом думать, достал из сумки диск и включил рок.
– Ну вот нахер тебе это кино с дустом? – Горе скривился, услышав. – Тебе что, шестнадцать лет?
– Просто привык. Хочешь шансона?
– Хочу покоя. Поставь какой-нибудь релакс или расскажи страшную историю.
– Какую?
– Любую. Про баб, например. Или как вы с Фомой познакомились.
Пух и Фома
А как они познакомились… Утром, перед тем как идти в горящий от обстрела Город, в лощине все отряды построили в каре. Лицами внутрь. Большая часть личного состава была с похмелья и украдкой старалась освежиться. Думали, будет не так страшно, ан нет. Похмеляться командиры запрещали, и это удавалось не всем. Пуху, например, не удалось, и он решил терпеть.
Откуда-то из темноты во внутреннем квадрате строя появился священник. Батюшка был высок, дороден и чернобород. В руках он держал чашу и веничек. Молитву запел голосом такой густоты и мощи, что дизеля вокруг приглохли. Обмакивая веничек в чашу и взмахивая им, почти как шашкой, батюшка разбрызгивал воду на строй. Пух, низкорослый, замыкал свой отряд, но и на него попало несколько холодных капель. Дрожь от их попадания он воспринял как духовный подъем.
Почти рассвело. В строю соседей Пух заметил бойца, спокойно стоящего среди переминающихся с ноги на ногу товарищей. Его лицо было так же серо, как у других, но без партизанской бороды, принятой на вооружение подавляющим большинством. Среднего роста, подтянутый, ранец на плечах. Ни банданы, ни беспалых перчаток, только ботинки хорошие, натовские. И автомат в походном положении, за спиной, по уставу – стволом вверх, а не болтается на шее, как у эсэсовца. Гвардия, подумал Пух. На «аминь» гвардеец мелко перекрестился и с прищуром оглянулся кругом. Встретил взглядом Пуха и пожал плечами, объясняя крестное осенение.
По команде «Разойдись!» Пух достал сигареты. Курить не хотелось, было даже противно, но казалось необходимым. Сунув незажженную сигарету в рот, Пух взял паузу для настройки. Гвардеец подошел, на ходу вытаскивая из ранца пластиковую «полторашку» с прозрачной жидкостью.
– Фома. – Он протянул руку.
– Михаил, – ответил Пух.
– Надеюсь, на «ты»?
Пух кивнул.
– Нужна тара, – объяснил Фома, – кружка не годится, нет ли чего поменьше? Спирт.
– Есть! – обрадовался Пух.
Был у него наменянный набор из четырех стопок полированной нержавейки в кожаном чехле. Он вытащил его из кармана.
– О! То, что надо. Водки неохота, много надо таскать, да еще закусывать, сухпай дербанить, – размеренно продолжал Фома, аккуратно наливая, – а так тридцать граммов залил, потерпел чуток, и все в порядке. Только часто нельзя, может срубить неожиданно. Надо заливать, не глотая, чтоб не обжечься. Ну, за знакомство!
Они коснулись стопками, подняли повыше подбородки и влили спирт внутрь. Пуху показалось, что с губ в желудок потек кипяток. Выступили слезы, он зажмурился и только усилием воли не сделал глотательное движение. А когда открыл глаза, мир вокруг стал мягче и добрее. Теперь закурить уже хотелось. Пух достал пачку и предложил Фоме.
– Не, спасибо, и так нормально. – Фома слегка улыбался.
– А со своими что? – Пух мотнул головой на соседей. – Не хотят?
– Почему, хотят. Просто я с ними уже причастился, но они как дети малые, хорохорятся, думать сейчас не могут со страху.
– Думать?
– Ну да. Как дальше действовать. Ситуации разные прощупывать. Говорят, там видно будет.
– Разве нет?
– Не совсем.
– А например?
– Ну, когда колонну обстреляют, надо спрыгнуть, загаситься, а потом ползти в сторону огня, чтобы в мертвую зону быстрее попасть. Не бежать в разные стороны, как тараканы. Это, думаю, помнишь?
– Ясно.
– А мои подзабыли…
– А что об этом думаешь? – Пух показал бровями на место уже ушедшего батюшки.
– Это не помешает. Богу молиться всегда пригодится…
Раздалась команда «К машинам!», и Фома поднял ладонь:
– Ладно, давай! – Он улыбнулся и подмигнул. – Держись меня и будешь под кайфом!..
Пух и Горе
– А дальше? – спросил Горе.
Пух отмахнулся.
– Что ты как девочка? – ухмыльнулся Горе.
– Да я тебе уже рассказывал. Дальше всякое говно. Фома только, молодец, ни разу не подвел. Выручал. Ну еще бы, он в том же училище учился, что и Славян, только за драку выгнали.
– Знаю я, знаю.
– Ну…
– Погоди, звонит кто-то. – Горе достал телефон. – Да. Привет. Да, все в порядке, едем. Не волнуйся, будем на месте, позвоню… Хорошо. Целую, пока.
Горе нахмурился и закурил. Пух задумался.
– Не парься ты… – сказал он наконец, вспомнив недавний разговор.
– Не парься ты!
– А я и не парюсь.
– Не-ет, ты паришься.
– Да не парюсь я! Просто не понятно… Живу с ней, с одной, только ее вижу матерью моих детей. Все у нас хорошо. Ты же знаешь!
– Знаю. Что ж тебе не понятно? Она просто молодец – умная, красивая, дома у вас все чисто, светло, уютно.
– Мне с ней не скучно, главное. Умница, понимает меня с полуслова. А сейчас уже и вовсе без слов…
– И не ссоритесь никогда, что ли?
– Нет, почему, ссоримся иногда, конечно. Она мучится, переживает, пытается мне нервы трепать.
– А ты?
– Ну, я тоже… Вроде нервничаю. Не так сильно, как она, но…
– Из-за чего ссоритесь-то?
– Мало внимания ей уделяю. Говорит, не чувствует любви.
– И?
– Мне хорошо с ней! Что это, не любовь? Да и других дел полно, так ведь?
– Не знаю…
– Я хочу ее даже чаще, чем она меня, хоть она моложе… Погоди, звонит кто-то. Да. Привет. Нет, сегодня нет. Завтра позвоню. Да точно, точно… Все, пока, целую… Так, о чем мы?
– Она?
– Нет. Другая. Ты ее знаешь.
– А-а… Да. Тоже красавица.
– Представляешь, а с этой мне даже говорить не о чем. Я же их обеих давным-давно знаю, обе еще школьницами были, когда знакомился. Одна умная, другая… Не смог бы с ней жить. Через неделю убил бы. Дома все кувырком, одни тряпки на уме. Пока маленькая была, жалел, берег. Она нескладная такая, коленки торчали, хвосты в разные стороны. Потом выросла, сколько-то не видел, а как встретил… Главное, не люблю ее. Что в ней такого? Стерва она, что ли? Вроде нет. Скромно себя ведет. Но как притронусь, думать больше ни о чем не хочу. А она еще меня успокаивает и сама переживает. Грустит. Но как-то несерьезно грустит или виду не показывает…
– Что говорит?
– Говорит, любит меня. С детства. И всегда, мол, будет.
– Ну, это еще бабушка надвое…
– Может быть, и так.
– Ты все-таки что сам думаешь?
– Жду, когда все это кончится. Противно иногда.
– Ничего, когда-нибудь кончится, когда сам себе окончательно опротивеешь. Или старым станешь. Да ладно, не парься ты!
– А я и не парюсь…
– А я и не парюсь. С этими бабами кому как повезет, – поддержал Горе, – любого запутать могут. Вот Фома тоже ведь неспроста развелся. И ничего не говорит, все в себе. Хоть бы рассказал, что да как, авось не так тоскливо было бы.
– Ты же знаешь его, он ни в чьих советах не нуждается. Все сам, упрямый, как… – Пух не нашел подходящего слова. – Мне тоже ничего не говорил, самому надо догадываться. Жена у него красивая, образованная, на должности. Характер под стать Фоме, пальца в рот не клади. Видать, где-то нашла у них коса на камень, и всё. Никто не отступит. Дочка между двух огней.
– В натуре, только девку мучают. Зачем рожали, если никто ей не занимается, не воспитывает?
– Тебя-то много воспитывали? – Пух удивился таким речам.
– Я – другое дело.
– Там такая девушка, сама кого хочешь воспитает. Выше мамы.
– Все равно, ребенок еще. Вспомни себя. – Горе был серьезен. – В армии небось плакал по ночам без мамы?
– Ты вообще сидел в эти годы. – Пух оставался спокойным.
– Поэтому и жалею, что ребенка упускают. Будь у меня в детстве нормальная семья, жизнь по-другому бы сложилась. Не пришлось бы на голых пятках бычки гасить! У вас, пижонов, настоящее детство было, а вы все приключений ищете! – Его по-тихому закусило.
– Ты давай не обобщай! Что завелся-то? – Пух старался говорить мягче. – Люди разводятся. Это их дела. Нам ничего не изменить. Фома тоже с четырнадцати лет в суворовском училище, сам мне рассказывал. Попал в казарму, и детство кончилось.
– Знаю, извини. Что-то злость берет. Мало есть людей, кому добра желаешь, так и у тех все не слава богу. – Горе устало сморщился и вздохнул.
– Выпить тебе надо, братан, граммов сто! – предложил Пух. – А лучше двести.
– Доедем до моря – выпьем, – согласился тот. – Лучше расскажи что-нибудь, а то усну.
– Что рассказать-то?
– Про штурм Города, например. Всегда отмахиваешься…
– Ладно, только ты мне потом про дороги. Или про Горе?
* * *
Как по-дурацки, плохо тогда все началось, так и дальше шло. Как ни старался он отмазаться от этой командировки, все равно пришлось ехать, да еще и не со всем своим отрядом, а вдвоем с напарником, снайпером. И вместо того, чтобы отсидеться где-нибудь на блокпосту, угораздило попасть на штурм.
Первое, что он вспомнил, это зачистка улицы Шефской в Старых Промыслах. Самая окраина Города. Рядом на холмах огромными желтыми факелами горят нефтяные скважины. Жирный черный дым от них смерчами поднимается вверх и наклоняется к Городу. Небо от этого делится надвое. Одна часть – белый зимний день, другая – пыльные предгрозовые сумерки. Группе спецназа, в числе которой он бежит на полусогнутых вдоль стен, приказано проверить левую сторону улицы на предмет «обнаружения и уничтожения остатков незаконных вооруженных формирований». Левая сторона – частный сектор, одноэтажные дома с садами, отделенные друг от друга каменными или из листового железа заборами. Правая – полуразрушенная пятиэтажка, бывшее ПТУ, пустырь с разнокалиберными воронками и котельная с черной трубой. Пятиэтажка вроде бы наша – пулеметчик с четвертого этажа прикрывает, простреливая пустырь и кочегарку. Идет крупный сырой снег, с трудом пробиваясь сквозь дым и цементную пыль, висящую в воздухе после артподготовки. Где-то в соседнем квартале осторожная перестрелка, еще дальше ухают большие и маленькие взрывы – туда перенесли огонь артиллеристы. Ни одного целого дома, почти все с пробоинами от снарядов и мин, многие горят медленным желтым огнем.
В отделении их восемь человек. Согнувшись в спине и коленях, буквально стелясь по земле, группа медленно и осторожно подкрадывается к первому забору. У ворот «большой» Вадик ложится с пулеметом прямо в грязь возле скамейки, а снайпер, кое-как спрятавшись за посеченным осколками деревом, пытается схватить в прицел всю противоположную сторону улицы, как будто это возможно. Остальные сквозь щели и пробоины в заборе стараются разглядеть двор. Пустой… Дверь в воротах не заперта. Пух плавно толкает ее автоматным стволом и замирает в ожидании щелчка растяжки. Нет щелчка. Они осторожно заходят во двор. Андрюха с Бурым держат под прицелом окна, еще двое обходят дом против часовой стрелки, наклоняясь под оконными проемами. Чисто вроде. Теперь подвал и чердак. На чердак достаточно простой гранаты. Подвал в глубине двора. Он привязывает к люку веревку и, отбежав назад, сдергивает его… Тишина. Не подходя близко, командир с не соответствующим могучей внешности позывным «Скворец» вполголоса спрашивает:
– Есть кто внизу?
В ответ слышен женский голос:
– Есть! Ребята, не стреляйте, мы русские!
– Выходим по одному! Сначала женщины, потом дети. Мужчины последними, руки за голову!
Из подвала суетливо выбирается непонятного возраста тетка в платке и сцепляет руки за головой. Следом, держа одну руку над головой, появляется мужчина. Другую, скрюченную и обмотанную какими-то серыми тряпками, он осторожно прижимает к груди. Лица обоих черны от копоти и напряжены до предела.
– Все? – спрашивает Скворец.
– Больше никого. Мы двое, – отвечает мужик, затравленно глядя в лицо командира.
– Надо проверить.
Женщина получает в руки фонарик и снова спускается в подвал, освещая все его углы. Пух ложится у края люка, достает маленький самодельный перископ, собранный из кусков карманного зеркальца, и следит в него за лучом фонарика. В тесном подвале с цементным полом, помимо двух матрацев, керосиновой лампы и банок с соленьями, ничего нет.
– Что с рукой? – спрашивает Скворец у мужчины.
– Осколком зацепило. Солдатики подствольник закинули из училища.
– Почему солдатики?
– Да их же видно. После обстрела мы из подвала вылезли, глядим, бородатые ушли, а на училище вроде наши, так они, как нас увидали, давай шмалять.
– Пух, крикни Виталика, – говорит Скворец.
Подходит доктор, на ходу доставая из сумки ИПП. Пока он обрабатывает рану и перевязывает мужику руку, группа быстро осматривает дом и двор.
– Тут на этой улице раньше ингуши жили. Почти все ушли перед войной, но, может, кто и остался, – рассказывает раненый. – Русских, наверное, никого нет. Кого бородатые убили, кто сам ушел. Дома побросали. Бородатые все пограбили, дома пожгли.
– А вы чего не уехали?
– Нам некуда. Всю жизнь здесь прожили. Слава богу, дети взрослые, уехали устраиваться… Две недели уже в подвале сидим, ночью ведро выливаем.
– Ладно, отец, нам некогда. Как кончится зачистка, двигайте-ка к шестой поликлинике, мы там закрепились. Знаешь? Подлечим, сухпай выдадим, – говорит Скворец.
Тот кивает, а потом мотает головой:
– Не, не пойдем. Неровен час, свои же и кончат.
– Ну как знаешь.
Скворец и пацаны разгружают из РД-2 консервы, доктор Виталик кладет сверху бинты и таблетки. У мужчины вздрагивает подбородок. Женщина молча плачет. Слезы оставляют дорожки на закопченном лице. Уходя на улицу, Пух слышит ее глухой голос:
– Ребята, режьте их всех, не берите в плен…
Несколько следующих домов пусты. В подвалы и на чердаки – гранаты. Вот в одном дворе воронка от разрыва мины, а на стене следы окровавленных ладоней. Бурой с Пухом доходят по этим следам до летней кухни. На кухне стол, на нем лужа темной крови. Под столом – видно, сполз – лежит старик в папахе и галошах. Рубаха у него на животе задрана, на мертвой белой коже большая неровная рана. Ладони в крови, пытался зажать рану.
– Всё, пошли, осколок в печень, – говорит подошедший доктор, и они уходят.
Во дворе снайпер знаком останавливает Скворца и показывает на другой конец улицы:
– Какие-то с оружием, может, наши, может, и нет. Человек десять.
Все замирают, и тут по забору и стене дома начинают колотить пули, и только потом доносятся звуки очередей. Пух даже не успевает понять, как заскакивает в оконный проем, готовый обороняться. А испугался он жестоко. Как, впрочем, и все.
– «Липки», «Липки», ответьте «Печоре», – вполголоса вызывает Скворец по радиостанции. В эфире молчание.
– Федя, ракету!
Длинный жилистый Саня по кличке Федя быстро высовывается и выпускает вверх зеленую ракету – сигнал, что мы свои. Скворец, конечно, рискует. Но стрельба прекращается, и с той стороны улицы тоже взлетает зеленая ракета.
– Я «Печора», я «Печора», иду по Шефской, нечетная сторона. Кто меня слышит?
– «Печора», я «Воин», иду навстречу. Все целы?
– Да вроде…
«Воин» – соседи из Южного СОБРа. Медленно и аккуратно две группы приближаются друг к другу, проверяя дома и развалины, и наконец встречаются у ворот двора, центрального на этой улице. Первыми в него заходят южане, затем Скворец с группой, оставив снаружи, как обычно, пулеметчика и снайпера. От увиденной во дворе картины обе группы, забыв про осторожность, молча встают и сбиваются толпой. Возле каменного забора на свежем снегу лежат тела трех женщин. У железных ворот тело девочки лет восьми. В центре двора – широкий приземистый пень, на котором рубят мясо. В него воткнут большой разделочный тесак с деревянной ручкой. Рядом с пнем – обезглавленное тело старика, а чуть подальше – голова с короткими седыми волосами вокруг лысины. Трупы ничуть не напоминают еще недавно живых людей, они похожи на сломанные манекены, испачканные кровью.
– Видно, ингуши, – говорит командир южан, невысокий коренастый темноволосый офицер, сам немного похожий на нацмена. – Из пулемета их.
Он показывает на россыпь пулеметных гильз у ворот.
– Нахера так-то? – Злобно плюнув в снег, он дает своим команду уходить.
Заканчивается зачистка встречей с БМП федералов. Солдаты держат важный перекресток, рядом «китайская стена», длинная пятиэтажка на пустыре, за которую вчера шел ожесточенный бой. Рядом обгоревший бронетранспортер. «Стена» в пробоинах от прямой наводки и тоже чадит. «Как в хрониках Сталинграда», – думает Пух.
Солдаты ведут пленных. Двое – это мужчины призывного возраста в норковых шапках, старых кожаных куртках и спортивных костюмах. Руки и верхняя половина лиц у них темные, а подбородки посветлее. «Бороды сбрили», – догадывается он. У одного руки за головой, второй толкает перед собой кресло-каталку, в котором сидит древняя старуха.
– Стой там, – кричит сержант в относительно чистом бушлате, командир БМП, и группа останавливается метрах в десяти.
– Что там? – спрашивает командир у подбежавшего солдата.
– Двое бородатых бабушку катят, якобы местные, из-под обстрела. Документов у них нет. Она тяжело ранена.
– Ясно. Связь! – кричит он в люк БМП.
Оттуда высовывается связист, на ходу вызывая:
– «Кентавр», «Кентавр», я «Двадцать второй».
– «Двадцать второй», «Кентавр» на связи, – слышится из «брони».
Связист передает тангенту командиру.
– «Кентавр», я «Двадцать второй», у меня абориген «трехсотый-два», надо бы в тыл переправить. Подошлете «коробочку?»
– У меня своих трехсотых некуда девать, и коробочек лишних тоже нет, – еле слышен сквозь треск и помехи далекий «Кентавр». – Разберись на месте! Конец связи.
– Ясно. Конец связи. – Сержант возвращает связь, на минуту задумывается, а потом кричит: – Большой! Давай… Снайпер! – И машет рукой в сторону пленных.
Пулеметчик устанавливает свою машинку и командует мужчинам:
– Эй! Отошли к гаражам! Руки за голову!
О том, чтобы дать им помолиться, речь не идет. Пуху кажется, что пленные умирают еще стоя, может быть даже не дождавшись выстрелов. Снайпер, тщательно прицелившись, добивает старуху выстрелом в голову. На фоне звуков боя и гула моторов эти выстрелы почти не слышны.
Никто не смотрит друг на друга, все отводят глаза. Солдаты, у тех вообще глаза сумасшедшие, веселые и какие-то свинцовые. Много ребят вчера погибло у этой «китайской стены», и их товарищи до сих пор находятся в состоянии длящегося болевого шока. Когда он пройдет, неизвестно. Пуху вдруг становится невыносимо жалко этих несчастных жестоких пацанов, всех этих бессмысленно погибших людей, особенно ту девочку у ворот, жаль себя, оказавшегося таким слабым и жалостливым. Он снова ощущает себя салагой, новобранцем, тоскующим по дому, по маме, по родным лицам, мечтающим о тишине и покое. Он с отвращением закуривает и тут же ощущает, что, выдавив из себя плачущего от жалости и горя ребенка, начинает наполняться какой-то бешеной, холодной яростью, слепой ненавистью ко всему окружающему, к себе и даже к своим товарищам. Убить бы, застрелить как собаку, того, кто сказал, что жалость унижает человека. Кого она унижает? Того, кто жалеет, или того, кого пожалели?..
* * *
– Эх, горе ты, горюшко!.. Ладно, слушай сказку про дороги. За них-то и прозвали меня. Еще с «малолетки». Дороги – это межкамерная связь. Запрещены строго. За них – ДИЗО. Дисциплинарный изолятор. В общем, сидишь ты в хате, ну, в камере, и нет у тебя ни чаю, ни сигарет. Посылок тебе никто не шлет, поскольку ты сирота казанская. В хате, кроме тебя, нормальных пацанов тоже нет. Всех по разным рассадили. Остались одни матрасы. Матрасы – это такие, беспомощные, что ли, сидельцы, которые ничего не могут. Просто в депрессии лежат на нарах, а когда кормушка открывается, за баландой к ней слетаются, как чайки. И обратно на нары. Нет у них ничего хорошего. Тогда ты берешь, делаешь ружье. Сначала отбираешь у матраса газету… Почему отбираешь? Ну, сам-то ты газет не читаешь, приходится забрать. Скатываешь ее в плотную трубку, склеиваешь мылом хозяйственным, мусолишь-мусолишь, потом сушишь-сушишь. Потом для прочности обматываешь нитками, вот так вот, крест-накрест. Дальше делаешь пулю. Скручиваешь маленький, но длинный кулек из этой же газеты, точно под калибр ружья, пихаешь в него шарик из хлебного мякиша, потом маляву – записку с просьбами – и еще одним шариком затыкаешь. К нему привязывается нитка. Делать все надо точно и аккуратно, иначе что-нибудь не сработает. Откуда нитки? Это еще одна история. Ладно, коротко. Раз в неделю тебе положены нитки и даже иголка. Даже ножницы. Зашить-пришить. Дают ненадолго. Если ножницы с иголкой не вернуть, устроят такой шмон – себе дороже, потому возвращаешь. А нитки выдают так: стоит мусор возле кормушки и в окошко протягивает кончик нитки. Тот, кто берет их, должен быстро на что-нибудь наматывать. Тебе надо много, так вот ты заставляешь матрасов построиться вдоль стены возле кормушки в очередь, и, как только кончик нитки просовывается, первый матрас хватает его и бежит с ним в дальний угол камеры. Добегает, нитку возле кормушки подхватывает другой матрас и бежит за первым. И так вся очередь. Ты стоишь возле кормушки и мента отвлекаешь разговорами. Командир, командир, говоришь, у нас мыло кончилось. Выдай, не впадлу. Ну или в этом роде какую-то такую глупость. Бывало, когда мент добрый или тугодум, матрасы не один раз успеют пробежать с нитками. Потом он, конечно, отрывает нитку, он же понимает, что, пока он не оторвет, ее будут сматывать и всю вымотают. Но, в общем-то, ниток особо мусора не жалели.
Ну вот. Привязываешь нитку к пуле, к стрельбе готов. Теперь надо проделать в окне амбразуру. На окнах ведь решетки, а за решетками – «реснички». Это такие жалюзи, только из толстого железа. Между ними пальца не пропихнешь, не то что ружье. Их разогнуть нелегко, но есть разные способы. Ладно, разгибаешь «реснички», вставляешь между ними доминошку или шахматную пешку – есть амбразура. Теперь надо состучаться с соседями, чтоб не просто так, в никуда, стрелять. Тут наступает первый ответственный момент. Если мент услышит стук, может внезапно открыть кормушку или глянуть в глазок, тогда пять суток ДИЗО. Три стука в стену – приглашаешь к разговору. Потом два стука – налаживаем дорогу. И один – готов, славливаемся. После этого соседние пацаны сквозь свои «реснички» пропихивают длинную палочку, связанную из прутьев от веника, а ты пулю в ружье – и дуешь, стреляешь через нее пулей. Запулить можно далеко, бывает, до самой воли пуля долетает. Они ее подхватывают, подтягивают к себе. Ниточка натянута, но это еще не дорога. Теперь берешь у кого-нибудь свитер, ну да, обычно у матраса, распускаешь его на нитки и сплетаешь канатик. Ладонями его крутишь-крутишь. Хороший канатик два здоровых мужика не порвут. Привязываешь его к нитке, и соседи его затаскивают. Вот теперь дорога готова. По ней отправляешь пыж. Это тоже трубочка из газеты, но внутрь засыпаешь чай, запихиваешь плотнячком сигареты, всякие мелочи нужные. Иногда приходится гнать дорогу через унитаз. Что ты удивляешься? Бывает, в старых тюрьмах параши в камерах – очко, как в привокзальном туалете. Вот они находятся в разных камерах, но рядом, через стенку. И слив у них один. Тогда шарик с ниткой опускаешь прямо в очко, стучишь в стену, они то же самое делают. Потом вместе сливаете воду, и ваши нитки перекручиваются в сливе. Опять дорога. Но тут уж надо в полиэтилен пыжи запаивать. На пыже пишешь, например: «Камера три два, Пуху от Горя» – и прибавляешь для смеху: «Не морозить!» Это пометка срочности. Вот. Человек, что дороги налаживает, называется дорожник. Дело уважаемое, уметь надо и не бояться. Менты часто ловят, потому что матрасы боятся глазок рукой закрыть или перед кормушкой стоять, тусоваться, чтоб не видно было. Тогда дверь открывается, а-а-а, это опять ты, горемыка, ну, пойдем к офицеру-воспитателю. Там допросик, рапорток, «межкамерная связь», пять суток ДИЗО. Изолятор – тюрьма в тюрьме, почти всегда маленькая одиночка, в которой нет ничего. Только пень, обитый железом. Чтоб удобнее сидеть, наверное. Нары пристегиваются к стене цепями, с десяти вечера до пяти утра их отстегивают и дают матрац. Пустой чехол. Ваты там почти нет. Нары тоже железные, рамка с двумя перемычками. Матрац сквозь них проваливается, и спишь на железе, а задница висит между этими пластинами-перемычками. Кормят так: в день полбуханки хлеба и кружка кипятка. Зачем кипяток без чая? Не знаю. Баланда не всегда. Самое противное – холод и «шуба» на стенах. Стекла-то за решетками почти всегда разбиты, а под дверью в камере обязательно широкая щель. Это специально так устроено у мусоров, для сквознячка. Особенно после баланды, когда в сон клонит, они в коридоре уличную дверь открывают, и тогда по полу в камере аж метель свистит. Чтоб не расслаблялись. А «шуба», ты же знаешь, стена так цементом обляпана, что голову не прислонить к его острым волнам. Да и между волнами слой пыли в полпальца толщиной. А в пыли столько клопов – мама, не горюй! Кажется иногда, что «шуба» шевелится. Когда в изолятор попадаешь, свою одежду снимаешь, выдают тебе робу. Она короткая, рваная, почти без пуговиц. На спине хлоркой надпись «ДИЗО». И тапки получаешь – засаленная войлочная подошва, как от стоптанного валенка, и кирзовый ремешок, куда ногу просовывать. Все. Когда невмоготу и хочется лечь, ложишься на пол, под голову одну тапку, а под почку, чтоб не отморозить, – другую. И вот когда так насидишься, выходишь в общую камеру, как с Великого поста, тонкий, звонкий, бледный и с горящим взором. Мы вот в Кемь едем, а я тут сидел, тут в Кеми в тюрьме всего три камеры, одна женская, а в двух других сидят все подряд. И малолетки, и взросляк, и больные всякие. Заходишь ты в такую камеру после изолятора, тебе чаю нальют, закурить дадут, если найдется, и поесть чего… И вот один старый каторжанин говорит тебе, малолетке, ласково: «Ну что, сынок, сколько у тебя уже ДИЗО?» Ты ему отвечаешь: «Сорок пять». А он вздохнет: «Эх, горе ты, горе. В зону приедешь, будешь как злостный в БУРе сидеть». Это типа с уважухой. За что я столько в ДИЗО сидел? Межкамерная связь. Нарушение режима содержания. Отказ от работы. Я с самого начала себе сказал: «Ты сюда не работать приехал, а сидеть». Никогда не работал. Да и работа-то рабская, из стальной болванки напильником выточить молоток, например. Такая, чтоб зэк помучился. Я лучше тайком заточку сделаю. Из супинатора от кирзача. Это такая пластина стальная. Точишь, точишь ее. Сначала об кровать, об железо. Потом о цементный пол. Острая получается. Сало режет хорошо. Это главное. А матраса шугануть особой остроты не требуется… И самое сволочное – это «тюремный спецназ». В последние годы появился. Заскакивают в камеру мужики в масках с дубинками, днем или ночью – все равно, и устраивают резиновый дождь. Дубинами так обстругивают, что весь синий вылетаешь в коридор через узкую щель в дверях. На построение. Они в это время в камере шмонают, все твои вещи ломают и рвут, как псы, а что не сломают, раскидают по камере. Потом ищешь под нарами. Или в параше увидишь. Вот это, брат, честно тебе скажу, никогда простить нельзя. До сих пор их презираю. Люди, от своей мнимой силы и вшивой власти дошедшие до скотского состояния. Когда могут просто так человека унизить, опустить или вообще сломать. Ладно, хватит грузиться. Твоя очередь рулить.









































