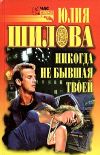Читать книгу "Побег в зону"
Александр Чернобровкин
Побег в зону
1
Из кабины подъемного крана я вижу много чего, даже волю. Она начинается за увенчанным колючей проволокой забором, огораживающим недостроенную пятиэтажку – жилой дом для военнослужащих частн 9593/26 или попросту – двадцать шестой зоны, колонии усиленного режима, в которой я оттянул три с половиной года из семи, подкинутых мне судом. Обычно за территорией зоны работают только те, кому до выхода осталось всего-ничего, но начальничкам, видать, надоело по чужим углам кантоваться, захотели до зимы заиметь по собственной квартире, а опытней меня крановщика на зоне не найдешь. Поэтому вот уже пятый месяц по рабочим дням с восьми утра и до пяти вечера с часовым перерывом на усваивание пайки сижу я в железно-стеклянном «скворечнике» в полутора десятке метров от земли и в свободное время любуюсь свободными людьми, разгуливающими по свободным улицам свободного города.
Стройплощадка расположена на окраине, среди приземистых частных домов. Ближе к центру город как бы подрастает, переходит в кварталы трехэтажных «трущоб», потом – панельных девятиэтажек брежневскик времен. Ну, девятиэтажки мне до одного места, а вот трехэтажки очень интересуют, особенно та, крайняя слева. Вывеску отсюда я не могу разглядеть, но уверен, что там на первом этаже столовая, потому что на пустыре рядом с домом в полдень скапливается до двух десятков грузовых автомобилей. Знаю я эти столовые на окраинах – зачуханные и дешевые, с поварихами в грязных халатах и пережаренными котлетами, – сам когда-то шоферюгой работал. В таких столовках не едят, а брюхо набивают, чтоб язву не заработать, с удовольствием в другую бы сходили, но эта – единственная по дороге, связывающей город с домостроительным комбинатом. Комбинат расположен километрах в пяти от меня, но я его вижу, слишком большой он, много корпусов, похожих отсюда на коробки хозяйственных спичек, выкрашенных в палевый цвет. Чуть ближе ко мне около комбината дымит трубой маленький заводик. С комбината продукцию умудряются вывезти с помощью двух десятков автомобилей, а с заводика не только машинами, но и поездами отправляют. Видать, хитрый советский завод, так называемый «почтовый ящик»: малость цехов, изготовляющих ложки-плошки, на поверхности и немножко – раз в пять поболее – под землей, изготовляющих что-нибудь секретное. Ну, мне секреты страны родной до того же места, что и девятиэтажки, меня больше поезда интересуют. Отходят они всегда в одно и то же время: один в восемь пятнадцать, а второй в час пятнадцать дня. Может есть еще третий и четвертый, но я не сутками торчу в «скворечнике». Отправляются поезда в неизвестном мне направлении. С тех пор как я попал на зону, у меня появилась странная тяга к неизвестному, особенно к тому, что находится как можно дальше от любимых нар. Подумал-подумал я и решил не ждать три с половиной года, прямо сегодня ублажить свою тягу к неизвестному, узнать, куда едут поезда. На утренний я не успел, придется дневным отправиться. И сделаю это сегодня или буду сидеть до звонка – и не рыпатъся.
А все из-за квартиры. Работал бы себе и дальше на металлургическом заводе, не знал бы, почем пайка на зоне, так не ужилась моя «ненаглядная» с собственной матерью, захотелось самой кастрюли по печке двигать. Сняли квартиру – дорого. Тут какая-то сволочь и подкинула жене идейку, чтоб устроился я в автобазу Минтяжстроя, там, мол, квартиру через пять лет дают. Только не предупредил, что там еще и семь лет можно получить. Я до армии закончил автошколу и полгода работал шофером, но за пятнадцать лет растерял навыки. Мне бы дождаться весны, по сухим дорогам восстановить их, а я в ноябре ухватился за баранку. Зима сначала слякотная была, не дороги – каша манная. И вдруг в одну ночь, благодаря двадцатиградусному морозу превратились дороги в катки. Ну, я и покатался. Впереди меня «жигуленок» шел, за рулем резвый сопляк сидел. Газанул он – и развернулся поперек дороги. Я – по тормозам и руль вправо. Меня как крутанет – и кидануло на левую обочину, на деревянную будку автобусной остановки. Я в эту будку на своем автокране как в гараж въехал. Автобусы ходили плохо, народу в будке валом было. Почти все успели выскочить. Адвокат успокаивал меня после суда: мол, семь лет – это тьфу за трупы женщины и ребенка…
Адвокату легко плеваться: не ему сидеть. А мне половины срока с ушами хватило. Сейчас не могу даже понять, как я умудрился на действительной почти столько без особого напряга отслужить, ведь на атомной подлодке житуха похуже, чем на зоне. Молодой был. И теперь вроде бы не старик, а невмоготу без воли…
Вот и машина с обедом. И зеки, и солдаты охраны узнают ее по звуку двигателя, никогда не путают. Братья-зеки повставали с самодельных лежанок, где загорали, ожидая подвоза кирпича, потягиваются, разминаются, готовясь к работе ложкой. Зашевелился и часовой на вышке, “молодой” по прозвищу Губошлеп, конопатый и толстогубый деревенский парень. Он торчит на вышке весь рабочий день, как и положено «молодому», и обед для него – единственное развлечение за девять часов. Сейчас откушает “дед” по прозвищу Битюг и подменит его на пятнадцать минут. И не дай бог Губошлепу задержаться хотя бы на минуту – сразу получит пинок под зад, а если на две – то и кулаком в толстые губы. С зеками “дед” себе не позволил бы такое, те бы ответили.
Машина въехала на территорию стройки, выгружают бачки. И нам, и солдатам готовят на одной кухне, и есть будем одинаковыми черновато-серыми ложками из черновато-серых алюминиевых тарелок, только охрана чуть в стороне, поближе к воротам. Братва, выстроившись у бачков, ждет, когда выдадут солдатам. Жду и я, но ие обеда.
– Эй, на кране! – орет прапорщик Потапенко, толстый и красномордый: насосался зековской крови.
– Чего? – отвечаю я, высунувшись из кабины.
– Давай вниз – обед!
– Сейчас, кран сломался, надо доделать.
– Потом доделаешь, слазь! – грозно приказывает прапорщик и тут же забывает обо мне, потому что его тарелки бачковой наполнил лучшими кусками, а Потапенко не может на них смотреть равнодушно: слюной захлебывается.
Я сижу в кабинке еще минут десять, глотаю слюну и стараюсь не смотреть вниз, на солдат и братву. Успею поесть, все-таки последний обед в неволе, можно и потерпеть. И успокоиться надо, потому что сердце вдруг заколотилось так, словно лечу вниз головой с крана.
Когда я получил свою пайку, Битюг, отобедав, разминал сигарету с фильтром. Деньги у «деда» водятся, подрабатывает «пассажирством» – носит зекам с воли чаек, водочку и все такое прочее. Я нерешительно потоптался на месте, точно никак не мог выбрать, где бы присесть, а потом устроился на ящике из-под стекла, поближе к охране. И лениво ем. Так медленно, что Губошлеп успевает прибежать, справиться с первым – жиденьким борщом – и с жадностью принимается за второе – «конский рис» – перловую кашу. Голодный блеск в глазах солдата пропал, черновато-серая ложка пореже летает от миски ко рту. Губошлеп поглядывает на часы на руке прапорщика и прислушивается к разговорам. Бедолага, соскучился на вышке по человеческой, речи!
– Слышь, начальник?! – обращаюсь я к прапорщику Потапенко. – Мне на кран надо, лебедка барахлит.
– Вали, – разрешает прапорщик, подобревший после сытного обеда.
– Трос все время травится сам по себе, – продолжаю я объяснять, будто получил отказ, – надо опустить чуток, а он метра на три проваливается…
– Я же сказал: иди, – благодушно произносит прапорщик и широкорото зевает, показывая черные, прокуренные зубы.
–..А когда подымаешь, тоже проскакивает, – рассказываю я, вставая с ящика. Понимаю, что прапорщик вот-вот разозлится и отменит разрешение, но продолжаю. Мне надо, чтобы объяснения застряли в дырявой голове Губошлепа, а случится это только тогда, когда они переплетутся с раздражением прапорщика.
Я своего добился. Потапеико захлопнул пасть на половине очередности зевка и рявкнул:
– Катись на свой долбанный кран, пока я не передумал!
Губошлеп, словно приказ относился к нему, запихивает в рот целый ломоть хлеба, допивает одним глотком компот и бежит к вышке.
Я же не спеша перехожу на противоположиую сторону дома и лезу на краи. Наверху выкуриваю сигарету, наблюдая за Губошлепом. Вернулся он на пару минут раньше, под зад или в морду не получил и поэтому, подражая прапорщику, зевает. Минут десять будет зевать и потягиваться, а потом заснет. Облокотится на перила, прислонится головой и плечом к стойке, поддерживающей крышу, пристроит автомат, чтобы не падал, – и заснет. Кроме меня никто пока не догадывается об умении Губошлепа кемарить стоя. Я случайно узнал, когда в ветреный день чуть не зацепил железобетонной плитой вышку. Плита прошла в полуметре от головы солдата, а он даже не пошевелился. В обеденный перерыв я спросил Губошлепа:
– Не испугался?
– Чего? – не понял он.
Я объяснил.
– Да?! – удивился он, пошевелил толстыми губами и строго произнес: – Ты это, поосторожней, а то еще убьешь!
– Да я пошутил, она метрах в двух прошла, – соврал я, догадавшись, что не видел Губошлеп плиты. Не видел, потому что спал.
– Ну, ты все равно поосторожней, – еще раз посоветовал он и посмотрел на меня настороженно: знаю ли о его тайне и не выдам ли?
Знаю, салага, знаю, зелень подкильная! Но закладывать тебя не собираюсь, сам попользуюсь твоей любовью поспать. Тогда и появилась у меня мысль о побеге. Два месяца я ее вынашивал, изучал местность вокруг стройки, подмечал все, что может пригодиться: и столовую, и заводик, и эшелоны. Сегодня я проверю, насколько толково все продумал и правильно ли рассчитал время.
Я развернул стрелу крана к дому, затем к забору. Нижний конец стропа, висевшего на крюке, болтался в нескольких сантиметрах над колючей проволокой. Я опять повернул стрелу к дому, затем вынес чуть за забор и потравил трос. Губошлеп уже обнимал автомат, наверно, спит. Я свистнул на всякий случай. Сморило беднягу! Сегодня “деды” отобьют у него не только охоту спать на посту, но и почки. Отобьют и мне, если поймают. Я видел, какими привезли двоих беглецов. Их минут на десять положили между бараками, чтобы вся зона могла полюбоваться. Один до сих пор в больнице лежит, а второй, в ожидании, когда выпустят подельника и накинут срок, по вечерам сидит на нарах и почесывает на руках и ногах жуткие сине-красные шрамы от собачьих укусов. На солдат он зыркает с такой лютой ненавистью, что от них после каждого взгляда должна бы оставаться только кучка пепла да облачко дыма вонючего.
Я вылез из “скворечника”, перебрался на стрелу. Правду говорят, что произошли мы от обезьяны, по крайней мере, когда висишь на порядочной высоте, цепкость в руках появляется звериная. На всякий случай я повозился немного с тросом, будто подтягиваю его (это руками-то!), полез дальше, к концу стрелы, к шкиву, с которого свисает трос. Стрела порядком проржавела, не поймешь, в какой цвет была выкрашена в последний раз. Шкив тоже ржавый по бокам, но паз отшлифован тросом, поблескивает.
Я посмотрел на Губошлепа, на дом. Никому до меня дела нет: спит часовой, кемарят прапорщик и «деды». Да им и не видно меня, кран закрывает. Ну, с богом!
Чего я не учел – это количества лопнувших проволочек на тросе. Слишком их много оказалось. Рукам ничего, в перчатках были, а бедра ободрал здорово. Хорошо, что не счесало то, что между ними! Кавалерийской походкой добрался я через пустырь до проулка между одноэтажными приземистыми домами и упал в серую от пыли траву у забора, ожидая крика “Стой!” или выстрела. Сердце у меня колотилось так, что, наверное, не услышал бы их. Но я так ничего и не дождался и крикнул сам, шепотом:
– Свобода!
2
Стоило мне закрыть глаза, как сразу вспоминал детство, первую поездку по железной дороге. Мне тогда было десять лет, но до сих пор помню переполненный общий вагон, пыль на бледно-желтой оконной раме в купе, двойное толстое грязное стекло и круглое женское лицо с бородавкой на подбородке и ярко-красными напомаженными губами, которые оставляли розовые пятнышки на белке сваренного вкрутую яйца, постепенно исчезающего в ее рту. Еще было душно и хотелось пить, и от вида жующей напомаженной пасти тошнило, но вставать нельзя было, потому что место сразу же займут, и стук колес нагонял тревогу и подозрение, что дорога никогда не кончится.
Сейчас стук колес нагонял радость, и чем бойчее они спотыкались на стыках рельс, тем веселее становился я и мысленно подгонял тепловоз, чтобы ехал как можно быстрее и как можно дальше. Я сидел в углу товарного вагона без крыши, на одном из двух погруженных в него ящиков, курил папиросу за папиросой, и в промежутках между затяжками помахивал рукой в такт колесам. Красный огонек вычерчивал в темноте дуги, постепенно тускнел, тогда я делал затяжку и, словно не вдыхал дым, а выдыхал огонь, заряжал кончик папиросы жаром. Когда надоедало махать или начинало подташнивать от курева, я съедал заварное пирожное, хрупкое и липкое, и запивал кисловатым виноградно-яблочным соком из трехлитровой банки, крышка которой в двух местах была пробита гвоздем. Все это я приобрел в магазине по пути от столовой к заводу. Маленький такой магазин, разделенный на две половины, в одной торгуют промышленными товарами, в другой – продовольственными. Покупал без очереди, приговаривая:
– Машина ждет! Слышите – тарахтит под окном?
У обочины напротив входа в магазин стоял с работающим двигателем “зил”-самосвал с бело-серым от присохшего раствора кузовом. Обзавелся я машиной на пустыре у столовой. Привлекла она мое внимание тихо гудевшим под капотом масляным фильтром: двигатель остановили минуты две-три назад. Значит, водитель только что пошел обедать, вернется не скоро. Дверцы не были заперты, в кабине еще стоял запах дешевых сигарет и одеколона «Шипр». На крючке между спинками сидений висели авоська с пустым термосом и скомканной газетой и замасленная кепка. Кепку я надел на голову, чтобы короткая стрижка не бросалась в глаза. Уж слишком я привлекал внимание прохожих, когда шел к столовой, хоть на мне и была одета обычная рубашка в зеленую и коричневую клетку, а не зековская “фланка" и ничем я не отличался от работяги-строителя, бегущего в обеденный перерыв в магазин. Прохожие смотрели на меня кто испуганно, кто сочувствующе, а одна бабка сначала себя перекрестила, а потом меня, причем как-то воровато, словно макала пальцы в чужой компот и боялась, что застукает хозяин. С замком зажигания “зила” я справился быстро, этому меня еще в автошколе научили. Трогаясь, забью снять машину с ручного тормоза и чуть не заглушил двигатель. Водитель, видать, слишком увлекся жратвой, потому что не заметил, как угоняют машину, по крайней, из столовой не выскочил, но на всякий случай я немного проехал к центру города, а затем повернул в сторону хитрого завода, куда, отоварившись по пути в магазине, и добрался благополучно за десять минут до отправления поезда.
Вот уже половину дня и часть ночи вагон, добросовестно отсчитывая стыки на рельсах, увозил меня курсом на северо-восток, и все большим становилось расстояние между мной и зоной усиленного режима, и все меньше оставалось шансов у охраны и милиции поймать меня. Наверняка я уже за пределами области и здесь меня пока не ищут, во всесоюзный розыск объявят недельки через две-три. Значит, можно спокойно развалиться на ящике, как собака на жужжалке, и обстреливать струями папиросного дыма бледную, перепуганную луну, надбитую слева.
На северо-востоке, куда едет поезд, находится Белорусия, а в Белорусии – Беловежская пуща, а в пуще – деревянная, избушка лесника. Живет в этой избушке мой сослуживец по подводной лодке Мишка Драник. Два с половиной года прожили мы с ним в одном отсеке и продежурили на одном боевом посту. За службу мы стали даже не друзьями, а братьями и не представляли, как сможем жить порознь. Еще как смогли, в гости и то не удосужились приехать друг к другу! То-то он мне обрадуется: свалился беглый зек на голову! Нет, Мишка не подведет – на то он и друг! – укроет и документами поможет обзавестись. Только бы добраться до пущи. Мишка мне столько рассказывал о ней, что, кажется, стоит мне попасть в пущу, с закрытыми глазами найду его избушку…
Поезд замедлил ход, облегченно погудел и остановился, лязгнув буферамн. Где-то вдалеке забрехали собаки и, как бы подразнивая их, прокукарекал петух. Что-то громко хлопнуло, словно порывом ветра распахнуло огромную дверь. Такое впечатление, будто поезд остановился на окраине деревни, сейчас машинисты попьют парного молочка, купленного у местной старушенции и поедут дальше.
Мимо вагона прошел человек. Шаги были твердые, гравий жалобно поскрипывал под ногами, словно его толкли в ступе. У соседнего вагона человек остановился, закашлял надсадно и часто схаркивая, совсем по стариковски, что не вязалось с молодецкой походкой. Вновь заскрипел под ногами гравий и вскоре шаги затихли в направлении головы поезда. Оттуда послышался перезвон переезжающего по рельсам подъемного крана и голос, отдающий короткие команды. Что это были за команды я понял, когда услышал удар чего-то тяжелого, наверное, одного из ящиков, погруженных в вагоны, о железо. Сотрясение от удара передалось и мне. Кажется, разгружают поезд.
Я встал, выглянул из вагона. Впереди, у тепловоза горели яркие прожектора, освещающие погрузо-разгрузочную площадку и нижнюю часть подъемного крана. Стрелы не было видно, и казалось, что большой светлый ящик висит в воздухе сам по себе, а четыре устремленные вверх стропы – его лапки, тонкие и несгибающиеся. Ящик плавно долетел до кузова грузовой автомашины и медленно опустился в него. В кузов залез человек, оторвал у ящика подогнувшиеся лапки – стропы. Машина, казалось, присела от нагруженной на ее спину тяжести и так и не смогла выпрямиться, поэтому натужно, возмущенно взревела и на брюхе поползла прочь, а на ее место бодро закатилась другая. Марку машин я не знал: военные, на таких не ездил.
Не успели погрузить вторую машину, как из-за длинного пакгауза с заколоченными накрест окнами появилась третья. Здорово работают! На то они и вояки! А если вояки, значит, милиция останавливать и обыскивать не будет – почему бы мне не воспользоваться услугами министерства обороны? На станции мне делать нечего, там постоянно дежурят наряды «легавых», которые нюхом чуют сбежавшего зека, натасканы. Болтаться где-то поблизости и ждать попутный товарняк тоже смысла нет, потому что уже светает, заметят и сообщат куда надо. Да и неясно, где я нахожусь, может никуда больше ехать и не надо. По крайней мере лесополосы здесь не такие, как в моих краях, сосны и ели в них попадаются. Была не была, прокачусь на автомобиле, а будет не по пути, вернусь сюда ночью и воспользуюсь опять услугами министерства путей сообщения.
Я отошел подальше от погрузо-разгрузочной площадки, выбирая на дороге самое раздолбанное место, – все в рытвинах и кочках, да еще и подъемчик тут был небольшой, – засел в кустах и стал поджидать. Оказывается, не так уж и просто запрыгнуть на машину, даже если она едет очень медленно. В третью из погруженных на площадке мне вскочить не удалось, пришлось ждать четвертую. Она была последней и если бы и с ней промахнулся, пришлось бы ждать возвращения первой. К счастью, водила на четвертой неопытный, не переключился на нижнюю передачу и застрял в глубокой колдобине. Я с пацанячьей резвостью сиганул в кузов, уселся позади, упершись спиной в ящик, а ногами в задний борт. Как бы ящик не поехал на кругом подъеме в мою сторону, не размазал по борту. Халтурщики чертовы, могли бы закрепить ящик в кузове, веревок пожалели.
Ехали не спеша, все больше лесом и полями, изредка попадались села, как бы присосавшиеся белыми опухолями аккуратненьких домов к дороге. На улицах было пусто, в домах не светилось ни единого окна и придорожные фонари бездельничали. Казалось, что села мертвы, покинуты людьми. И животными: хоть бы одна шавка загавкала вслед машине. Все обленились, только жрать и спать умеют. А может вру на них, может устали за день и теперь набираются сил для новых трудовых подвигов. Хлеба здесь знатные, пшеница стеной стоит, кажется, никакой косилкой не возьмешь. Лишь колосья немного колышатся при порывах ветра, и в утренних сумерках поле становится похожим на серое с белесыми полосами пены море после шторма.
Вскоре стало совсем светло, над лесом появилась багровая макушка солнца. Било оно справа от меня, значит, едем на север. Такой курс меня устраивал. Если бы мог, крикнул бы водителю: «Так держать, военный!». Осталось определить, в каких краях мы находимся. Дорожные указатели мне не видны, привстать надо, а делать это рискованно, могут заметить со встречной машины. Поэтому я изредка выглядывал из-за борта автомобиля, пока на обочине встречной полосы не заметил большой синий щит с написанными белой краской названиями трех населенных пунктов и расстояниями до них. С географией у меня в школе слабовато было. На службе чуток натаскали, но не настолько, чтобы сразу догадаться, что такое Припять и где она находится. Вроде бы речка такая есть и вроде бы на Украине, а может и не речка, а город, и не на Украине, а в Белорусии. В общем, где-то что-то такое есть в тех краях, куда мне надо. Да и в ломку было вылезать из машины и пешодралом добираться до Беловежской пущи. Когда-нибудь все равно приедем, тогда и отправимся топтать землю.
Машина начала сбавлять ход, посигналила. Я подполз к правому борту, прильнул к щели между досками. Чуть впереди белела будочка из свежеоструганных досок Из нее вышел солдат с автоматом на плече. Правой ладонью солдат хлопал по рту, наверное, зевал. Трудная у бедолаги служба – не дают спокойно поспать. Автомобиль ехал все медленнее, видимо, водитель выжал сцепление. Солдат вышел на дорогу и исчез из поля зрения. Зато теперь мне стал виден щит на обочине. На белом фоне большимн красными буквами было написано:
стой!
ОПАСНАЯ ЗОНА!
РАДИОАКГИВНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ!
Доездился! Видать, на ракетную точку попал. И из машины не выпрыгнешь, солдат заметит. Вот он – морда заспанная, придерживает рукой поднятый шлагбаум – свежеоструганный брус с поперечными красными полосами – и зевает. Ничего, мимо такого я как-нибудь проскочу. Впрочем, и проскакивать незачем, ведь забора или колючей проволоки не видно, ракетная точка не огорожена. Странно…
И тут меня осенило: Припять – это ведь Чернобыльская атомная электростанция, взрыв на ней был в конце апреля! Вот так-так! Ну и влип же я – из одной зоны сбежал в другую!..
Я перебрался на насиженное место у заднего борта, уперся в борт ногами и закурил папиросу. Да, делишки! Назад топать – далековато, вперед – рентгенов нахватаешься под завязку. Хотя все не так уж и плохо. Радиации я не шибко боюсь, служил на атомной подлодке и ничего – не лысый и жена не жаловалась. Приходилось даже реактор ремонтировать. Ну, не сам реактор, а какую-то там систему, труба в ней треснула, утечка была охлаждающей жидкости. Работали по полчаса. Одели меня в скафандр, сунули в руки тазик со спиртом – вперед! Тазик оставляли в «предбаннике», а когда возвращались из реакторного отсека, обтирали спиртом скафандр. В “предбаннике” я по совету годков снял шлем и отхлебнул из тазика самую малость, на пару пальцев. Спиртуган чистый, градусов под сто и в отсеке температура тоже под сто – вставило меня так, что через полчаса не только руками и ногами, а и языком еле ворочал. Выходит, что не из-за радиации, а из-за опьянения так мало работал каждый. Пили же все, потому что пьяного никакие нейтроны-протоны не берут. Меня во всяком случае не взяли и Мишку, другана моего, тоже: уже двух пацанов настрогал, как сообщил мие лет десять назад в письме. Эх, Мишаня, топать мне еще до тебя и топать, и неизвестно, доберусь ли. С такой иричесоном, как у меня, трудно будет проскочить. Самое лучшее – отсидеться где-нибудь пару месяцев, пока стану похож на нормального человека и милиция обо мне подзабудет. И безопасней этой опасной зоны ничего не придумаешь.
А почему бы и нет? Радиации не боюсь, к станции лезть не буду, не пацан – бестолково рисковать разучился; людей здесь нет, выселили всех, если верить газетам; уверен, что все шмотки и жратву с собой они не утащили, можно будет одежонку подобрать понриличней и чуток поднажрать мордень. Одна беда – опять под охраной жить, опять в зоне. Но теперь я ведь свободный человек: хочу – здесь живу, не хочу – свалю, куда хочу.
Грузовик, набирая скорость, покатился по длинному спуску. Мимо нас просвистела встречная машина, первая за все время езды. Я привстал и увидел пятнистый, приземистый, похожий на надувшуюся лягушку бронетранспортер. Кажется, приближаемся к месту разгрузки. Пора мне десантироваться. Я подождал, пока бэтээр скроется из виду, а мой грузовик, взбираясь на подъем, окончательно выбьется из сил и будет ползти еле-еле. Выпрыгнул удачней, чем запрыгнул, – с первой попытки! И сразу нырнул в придорожные кусты, успев заметить, что машина чуть вильнула вправо. Увидел меня военный или нет? Кажется, нет, по крайней мере, не остановился, покатил дальше, постепенно исчезая, будто всасывался в дорогу. Счастливого ему пути – семь километров асфальта под колесами! А мне – безлюдных тропинок вроде той, что шла по лесополосе параллельно дороге. Я пошел по ней вниз: вниз всегда легче, а меня что-то на сон потяиуло, сказывалась пробеганная ночь.
Солнце уже припекало вовсю, от ночной прохлады не осталось и следа, даже в тени деревьев жарко, словно лучи отражались от земли, как от зеркала, и попадали под кроны. Сильно пахло цветами. Их тут – море. То-то коровам раздолье. Я бы с удовольствием попил местного молочка. Или хотя бы воды. Но даже паршивого ручейка нет. Пришлось перебиваться ягодами, гледом, кажется. Терпкие какие-то, от таких не только пить, а и есть перехочешь. Чтобы приглушить неприятный привкус во рту, я закурил папиросу. Идти дальше сламывало, я присел у кустов, потом прилег.
Эх, красота-то какая – солнце, небо голубое, чистый воздух, как бы чуть вспрыснутый цветочным одеколоном! И главное – свобода!
Я лег поудобней, лениво досмоктал папиросу и чуть не заснул. Нет, так нельзя: вдруг какая-нибудь сволочь заметит с дороги. Я, превозмогая лень, встал, нарвал травы, постелил между кустами, там, где кроны их почти смыкались. Завалившись на ложе из травы, отвязал от левой руки авоську с папиросами, положил рядом. Даже если и буду прыгать во сне, авоська не потеряется, значит, пусть отдохнет от меня.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!