Текст книги "Белые и синие"
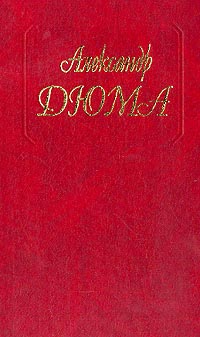
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
VI. МЕТР НИКОЛА
Эта сцена произвела на гостей большое впечатление, и каждый ощутил ее воздействие в меру своей впечатлительности, но больше всех она взволновала нашего школяра; он, разумеется, уже видел много женщин, но впервые перед ним предстала такая женщина. Мадемуазель де Брён, как мы уже говорили, была наделена изумительной красотой, и эта красота явилась юноше при обстоятельствах, сделавших ее еще более неотразимой.
Поэтому он испытал странное потрясение, почувствовал нечто вроде болезненного укола в сердце, когда после ухода девушки Шнейдер объявил, подняв свой бокал, что мадемуазель де Брён его невеста и вскоре станет женой.
Что же произошло в приемной? Слыша уверенный тон хозяина, Шарль даже не усомнился в том, что девушка дала согласие. С помощью каких убедительных доводов Шнейдер сумел добиться от нее столь быстрого согласия?
Значит, она попросила у него эту мимолетную аудиенцию, чтобы принести себя в жертву?
О! В таком случае лишь безграничная самоотверженность дочерней любви могла побудить эту чистую лилию, эту благоуханную розу связать свою жизнь с таким колючим остролистом, с таким грубым чертополохом. Шарлю казалось, что если бы он был отцом этого божественного создания, то предпочел бы сто раз умереть, нежели спасти свою жизнь ценой счастья дочери.
Он не только впервые восхищался женской красотой, но также впервые оценивал глубину пропасти, которой уродство может разделить двух людей разного пола.
Уродство Евлогия, которому Шарль раньше не придавал значения, было наиболее отвратительным: его ничем нельзя было затушевать, ибо оно усугублялось нравственной мерзостью, зловонной мерзостью, присущей монашеским лицам, на которых с юных лет лежит печать лицемерия.
Казалось, что Шарль, погруженный в свои раздумья и мысленно находившийся там, куда скрылась девушка, в силу того же притяжения, которое заставляет гелиотропы поворачиваться в сторону солнечного захода, с открытым ртом и раздувающимися ноздрями вбирал в себя благовонные атомы, что она оставила на своем пути.
Нервные струны юности затрепетали, и, подобно тому как в апреле человек полной грудью вдыхает первые запахи весны, его сердце расширялось, вбирая в себя первые веяния любви.
Это был еще не день, а рассвет; это была еще не любовь, а ее провозвестник.
Он уже собрался встать и последовать за этим магнетическим потоком, он был готов брести неведомо куда, подобно всем юным сердцам, охваченным смятением, но тут Шнейдер позвонил.
Звук колокольчика заставил Шарля вздрогнуть; мальчик спустился с высот, на которых оказался.
Появилась старая кухарка.
– Здесь ли гусары-дневальные? – спросил Шнейдер.
– Двое, – ответила старуха.
– Пусть один из них съездит за метром Никола, – сказал он.
Старуха молча затворила дверь; она несомненно знала, о ком шла речь. Шарль этого не знал, но было очевидно, что, раз за уходом мадемуазель де Брён последовал тост, за тостом – звонок, а за звонком – приказ, только что отданный Шнейдером, значит, предстояло узнать еще нечто новое.
Также было ясно, что трое гостей знали, кто такой Никола, поскольку они, будучи на короткой ноге со Шнейдером, не задали ему никаких вопросов.
Шарлю очень хотелось спросить об этом человеке своего соседа Монне, но он не решился, опасаясь, что его вопрос услышит Евлогий и ответит на него.
На миг воцарилась тишина, во время которой, казалось, гостей Евлогия охватило гнетущее чувство; все ждали кофе, но даже появление на десерт этого бодрящего напитка не смогло развеять тягостного настроения, воцарившегося в комнате после столь простого приказа Евлогия.
Десять минут прошли при всеобщем молчании.
По истечении десяти минут послышались три характерных размеренных удара.
Гости вздрогнули – Эдельман застегнул свой распахнувшийся на мгновение фрак, Юнг закашлялся, а Монне стал таким же бледным, как воротник его рубашки.
– Это он! – сказал Евлогий, нахмурив брови, и встревоженному Шарлю показалось, что голос его изменился.
Дверь отворилась, и старуха объявила:
– Гражданин Никола!
Она посторонилась, пропуская объявленного гостя и стараясь, чтобы он никоим образом ее не коснулся.
В комнату вошел худой, бледный серьезный человек невысокого роста.
Он был одет как все, и в то же время, непонятно почему, в его костюме, манерах и во всем его облике чувствовалось что-то странное, заставлявшее насторожиться.
Эдельман, Юнг и Монне отодвинули свои стулья, и только Евлогий подвинул свой стул навстречу вошедшему.
Коротышка сделал два шага в глубь комнаты, поздоровался с Евлогием, не обращая внимания на остальных, и остался стоять, устремив на него свой взгляд.
– Завтра, в девять, – сказал ему Евлогий, – мы уезжаем.
– В какие края?
– В Плобсем.
– Мы там задержимся?
– На два дня.
– Сколько помощников?
– Двое; твоя машина в порядке?
Коротышка улыбнулся и пожал плечами, как бы говоря: «Что за вопрос!» Затем спросил:
– Ждать ли мне у Кельских ворот или зайти за тобой сюда?
– Зайдешь за мной сюда. Ровно в девять я буду тебя ждать.
Коротышка сделал шаг к двери.
– Постой, – сказал Шнейдер, – ты уйдешь только после того, как выпьешь с нами за Республику.
Коротышка поклонился в знак согласия.
Шнейдер снова позвонил, и тут же появилась старуха.
– Принеси бокал гражданину Никола, – велел он. Шнейдер взял первую попавшуюся бутылку и слегка, чтобы не взболтать жидкость, наклонил ее над бокалом – несколько капель красного вина упали на дно.
– Я не пью красного вина, – сказал коротышка.
– В самом деле! – вскричал Шнейдер. Затем он спросил со смехом:
– Так ты, как всегда, нервничаешь, гражданин Никола?
– Как всегда.
Шнейдер взял другую бутылку; это было шампанское.
– Ну-ка, – промолвил он, показывая на бутылку, – гильотинируй эту гражданку.
Он расхохотался.
Эдельман, Юнг и Монне попытались последовать его примеру, но у них ничего не вышло.
Коротышка даже не улыбнулся. Он взял бутылку, вытащил из-за пояса прямой, широкий и ровный нож, провел им несколько раз по стеклу ниже края ее отверстия и одним махом того же ножа отсек горлышко с пробкой, привинченной к нему проволокой.
Шипучая пена вырвалась из бутылки, подобно крови, брызжущей из отрубленной шеи, но Шнейдер держал бокал наготове, и ни одной капли не пролилось.
Коротышка разлил шампанское всем гостям, но лишь пять бокалов из шести оказались заполненными.
Бокал Шарля остался пуст, и мальчик благоразумно не стал просить вина.
Эдельман, Юнг, Шнейдер и Монне чокнулись с коротышкой.
То ли удар был слишком сильным, то ли это было предзнаменование, так или иначе – бокал Шнейдера разбился вдребезги.
Все пятеро воскликнули:
– Да здравствует Республика!
Но лишь четверо смогли выпить за ее здоровье: в разбитом бокале Шнейдера ничего не осталось.
На дне бутылки было еще немного вина; Шнейдер схватил ее лихорадочным движением и быстро поднес горлышко ко рту, но еще быстрее он отдернул бутылку – ее острые края рассекли ему губы.
Из окровавленного рта Шнейдера вырвалось богохульство, и он разбил бутылку об пол.
– Значит, завтра в назначенный час? – невозмутимо спросил метр Никола.
– Да, и убирайся к черту! – вскричал Шнейдер, поднося платок ко рту. Метр Никола поклонился и вышел.
Шнейдер, бледный как полотно, едва не теряя сознание при виде крови, не перестававшей течь, упал на стул.
Эдельман с Юнгом подошли к нему, чтобы оказать помощь. Шарль дернул Монне за полу фрака.
– Кто такой метр Никола? – спросил он, все еще дрожа от волнения после странной сцены, разыгравшейся на его глазах.
– Разве ты его не знаешь? – спросил в ответ Монне.
– Как я могу его знать? Я приехал в Страсбур только вчера.
Монне молча провел ребром ладони по шее.
– Я не понимаю, – сказал Шарль. Монне понизил голос.
– Ты не понимаешь, что это палач? Шарль вздрогнул.
– Значит, машина – это…
– Что же еще, черт побери!
– А что он будет делать с гильотиной в Плобсеме?
– Он же тебе сказал, что собрался жениться!
Шарль пожал холодную потную руку Монне и бросился прочь из столовой.
Правда приоткрылась ему как бы сквозь кровавый туман!
VII. «ЛЮБОВЬ К ОТЦУ, ИЛИ ДЕРЕВЯННАЯ НОГА»
Шарль со всех ног помчался к г-же Тейч, чей дом служил ему укрытием, подобно заячьей норе или лисьему логову; добравшись до цели, он почувствовал себя в безопасности; как только он переступил порог гостиницы «У фонаря», все его страхи остались позади.
Он спросил, где его юный товарищ. Тот находился в своей комнате и занимался там фехтованием со старшим сержантом из полка, расквартированного в Страсбуре.
Этот старший сержант служил еще при его отце, маркизе де Богарне, которому два-три раза случалось награждать этого воина за его беспредельную храбрость.
Узнав, что сын собрался в Страсбур, чтобы разыскать там нужные бумаги, отец посоветовал ему не прерывать занятий, составляющих часть воспитания молодого человека из хорошей семьи, и велел ему выяснить, по-прежнему ли служит в этом городе сержант Пьер Ожеро, и, если служит, он рекомендовал ему время от времени заниматься с ним фехтованием.
Эжен навел справки и разыскал сержанта Пьера Ожеро; правда, когда он нашел его, тот был уже старшим сержантом и занимался фехтованием исключительно ради собственного удовольствия; однако, как только он узнал, что мальчик, который хотел брать у него уроки, – сын его бывшего генерала, Пьер Ожеро заявил, что с радостью скрестит с Эженом шпаги в гостинице «У фонаря».
Усердие, с которым относился к занятиям старший сержант, объяснялось прежде всего тем, что юный ученик оказался не школяром, а почти мастером, превосходно отражавшим резкие и неожиданные удары старого вояки; не стоило сбрасывать со счетов и то, что всякий раз, когда они сражались на шпагах, ученик приглашал учителя пообедать, а еда у гражданки Тейч была вкуснее, чем в казарме.
Пьер Ожеро, служивший в полку, который вышел утром из города, чтобы прогнать австрийцев, заметил на крепостной стене своего ученика с ружьем в руках. Он всячески приветствовал его, размахивая саблей, но мальчик столь увлеченно стрелял вслед убегавшим австрийцам, что не обратил внимания на телеграфические знаки, которые посылал ему храбрый сержант.
Он узнал от гражданки Тейч, что Эжена чуть не убили; она показала ему фетровую шляпу, пробитую пулей, и рассказала, как юноша дал отпор австрийскому драгуну и нанес ему смертельный удар.
Поэтому, придя к своему ученику, Ожеро осыпал его похвалами, и тот, по своему обыкновению, пригласил старшего сержанта к трапезе, которая в Германии подается между вторым завтраком, по сути обедом, и ужином (обычно он бывает в десять часов вечера).
Когда явился Шарль, ученик и учитель уже салютовали друг другу шпагами: поединок был окончен; Эжен проявил силу, ловкость и расторопность, так что Ожеро был вдвойне горд своим учеником.
Стол был накрыт в том самом кабинете, где юноши завтракали утром.
Эжен представил сержанту своего нового друга (увидев, что мальчик столь бледен и тщедушен, Ожеро остался невысокого мнения о нем) и попросил г-жу Тейч поставить еще один прибор. Однако Шарль, недавно вставший из-за стола, еще не проголодался и заявил, что только выпьет за продвижение сержанта по службе.
Чтобы объяснить причину не отсутствия аппетита, о чем он коротко заявил: «Я пообедал» – а своей тревоги, он рассказал о сцене, только что разыгравшейся на его глазах.
Пьер Ожеро поддержал разговор рассказом о себе. Он родился в предместье Сен-Марсо в семье рабочего-каменщика и зеленщицы; с самого детства он проявлял явную склонность к фехтованию и овладел этим искусством, подобно всем парижским мальчишкам, которые учатся всему подряд; переменчивая судьба забросила его в Неаполь, где он поступил на службу к королю Фердинанду в качестве карабинера; затем он стал учителем фехтования и, сочетая приемы неаполитанской школы с французской, сделался чрезвычайно грозным для своих соперников; однако в 1792 году, когда всем нашим соотечественникам было приказано покинуть город, он вернулся во Францию через несколько дней после второго сентября и успел вступить в ряды волонтеров, которых Дантон посылал с Марсова поля в действующую армию и которые столь блестяще проявили себя в битве при Жемапе. Ожеро получил тогда свой первый чин, затем перешел в Рейнскую армию, где маркиз де Богарне произвел его в сержанты и где только что ему присвоили звание старшего сержанта. Ему сейчас тридцать шесть лет, и он страстно желает дослужиться до капитана.
Эжену нечего было рассказывать; он предложил пойти в театр, чтобы отвлечь Шарля от грустных мыслей, что было встречено с восторгом.
В тот день в зале Брей труппа гражданина Бержера играла «Брута» Вольтера и пьесу «Любовь к отцу, или Деревянная нога» гражданина Демустье.
Все поспешили закончить ужин; ровно в шесть оба мальчика под охраной старшего сержанта (он был выше их на голову и обладал парой мощных кулаков, готовых послужить не только ему, но его друзьям) вошли зал, уже заполненный зрителями, и с трудом отыскали три свободных места в седьмом или восьмом ряду партера. В ту пору еще не было кресел и зрители сидели на деревянных скамьях.
Благоприятный исход утреннего сражения превратил этот день в подлинный праздник, и трагедия «Брут», которую по случайности играли в тот вечер, казалась данью уважения мужеству жителей Страсбура. Зрители указывали друг другу на некоторых героев дня, и все знали, что молодой актер, исполнявший роль Тита, сражался в первых рядах и был ранен.
Посреди шума, неизменно предшествующего представлению, число зрителей которого превосходит количество мест в зале, по сигналу постановщика прозвучали три удара, и тотчас же как по волшебству в зале воцарилась тишина.
По правде говоря, тишина была вызвана не только этими тремя ударами, но и громогласным окриком Тетреля, преисполненного гордости после триумфа, одержанного им в «Пропаганде» над Шнейдером.
Шарль узнал своего ночного покровителя и указал на него Эжену, разумеется ничего не рассказывая ему ни о своей встрече с ним, ни о совете, что тот дал ему.
Эжен также узнал Тетреля, поскольку не раз встречал его на улицах Страсбура; он слышал, что этот человек был одним из тех, кто выдал его отца, и поэтому относился к нему с достаточным предубеждением.
Что касается Пьера Ожеро, он видел Тетреля впервые, и, будучи насмешником, как истинное дитя городской окраины, прежде всего обратил внимание на его гигантский нос, на ноздри столь больших размеров, что они упирались в щеки; сей нос напоминал один из огромных гасильников, прикрепляемых церковными служками на конец палки для того, чтобы гасить большие свечи, которые они не могут задуть.
Маленький Шарль оказался почти у ног Тетреля; Ожеро, сидевший дальше, рядом с Эженом, предложил мальчику поменяться с ним местами.
– Зачем? – спросил Шарль.
– Затем, что ты можешь попасть в атмосферу гражданина Тетреля, – ответил тот, – и я боюсь, как бы, вдыхая, он не втянул тебя своим носом.
Тетрель внушал скорее страх, чем любовь, и эта довольно грубая шутка вызвала всеобщий смех.
– Молчать! – рявкнул Тетрель.
– Как? – отозвался Ожеро с особенным лукавством, присущим детям Парижа.
Он встал, чтобы посмотреть в лицо тому, кто на него прикрикнул, и тут все увидели на нем мундир полка, атаковавшего утром противника, и разразились аплодисментами, а также возгласами:
– Браво, старший сержант! Да здравствует старший сержант!
Ожеро отдал публике честь и снова сел на свое место; в тот же момент поднялся занавес, внимание зрителей переключилось на представление, и все позабыли и о носе Тетреля, и о реплике старшего сержанта.
Действие открывается, как вы помните, заседанием римского сената, где Юний Брут, первый консул Рима наравне с Публиколой, возвещает, что Тарквиний, который ведет осаду Рима, направил посла.
С самого начала было заметно воодушевление зрителей, когда, прочитав первых тридцать восемь строк, Брут произнес стихи:
Рим знает, для меня его свобода краше Всего на свете, но различны чувства наши. Я вижу, как послы везут монархов весть И римским гражданам оказывают честь. Приучим же царей, надменных сих деспотов, С республикой дружить и чтить права народов До той поры, пока, как Небеса велят, Колени перед ней они не преклонят.
Грянул гром аплодисментов (можно было подумать, что Франция, подобно Риму, предвидит уготовленный ей высокий жребий): Брута прервали посредине монолога. Он был вынужден остановиться примерно на десять минут.
Во второй раз его прервали с еще большим пылом, когда он дошел до следующих стихов:
Под игом деспота томившийся народ Вновь мужество обрел, воспрянув средь невзгод. Тарквиний нам вернул права святые наши, Когда уже полна была терпенья чаша. Пускай тосканцам же послужит сей пример С тираном поступить на наш манер.
В этом месте актеры сделали паузу; консулы направились к алтарю вместе с сенатом; шествие сопровождалось возгласами и криками «Браво!»; затем публика замолчала, внимая обращению к богу войны.
Актер, исполнявший роль Брута, произнес громким голосом:
О Марс! Ты бог войны, героев и сражений,
Ты с нами в бой идешь, ты Рима добрый гений,
Мы присягнем тебе на алтаре святом,
Твои сыны, сенат и я обет даем.
Коль будет хоть один изменник в лоне Рима,
Кто, о царях скорбя, возжаждет властелина,
Пусть среди адских мук коварный раб умрет
И ветер прах его презренный разнесет,
Чтоб только имя здесь его не забывали
И вечно, как тиранов гнусных, проклинали!
Во времена, когда бушуют политические страсти, мы аплодируем лишь тем стихам, которые отвечают нашим чувствам, не задумываясь об их качестве. Трудно представить более плоские тирады, чем те, что слетали с уст актеров в этот вечер, и никогда великолепнейшие стихи Корнеля или Расина не были встречены с подобным восторгом.
Но восторг, казалось, достигший высшего накала, сделался беспредельным, когда поднялся занавес во втором акте и зрители увидели, как молодой актер, игравший роль Тита, брат мадемуазель Флёри из Французского театра, вышел на сцену с перевязанной рукой: австрийская пуля пронзила ему бицепс.
Казалось, что на этом спектакль и закончится.
Несколько строк, содержащих намек на победы Тита и его патриотизм, были исполнены на «бис», как и слова Тита, отвергающего предложение Порсены:
Я за римлян умру, ведь средь них я рожден,
И суровый сенат мне милее, чем трон!
Пусть жесток он ко мне и завистлив, быть может,
Не предам я его ради жезла вельможи.
Я, сын Брута, храню в своем сердце не зря
Дух свободы святой и презренье к царям.
Дальше шла сцена, где Тит, отрекаясь от своей любви, восклицает:
Бесплодную мечту мой разум прогоняет,
Ведь в Капитолий Рим меня уж призывает.
Под славным сводом сим собрался весь народ:
Присягу чтоб принять, давно меня он ждет.
И грозные слова восставшего народа
Залогом будут нам немеркнущей свободы!note 3Note3
Перевод Н.Паниной
[Закрыть]
И тогда наиболее пылкие молодые люди бросились на подмостки, чтоб обнять актера и пожать ему руку, в то время как женщины приветствовали его, размахивая своими платочками и бросали к его ногам цветы.
Триумф Вольтера и Брута был велик, но б первую очередь это был успех Флёри, который стал подлинным героем вечера.
Как уже было сказано, вторая пьеса, принадлежавшая перу нашего земляка Демустье, называлась «Любовь к отцу, или Деревянная нога». Это была одна из тех идиллий, на которые не скупилась республиканская муза. Следует отметить, что никогда еще драматические произведения не были более слащавыми, чем в 92, 93 и 94-м годах; к этому периоду относятся пьесы «Смерть Авеля», «Примиритель», «Женщины», «Добрая фермерша»; можно было подумать, что после кровавых уличных событий люди нуждались в Подобных незатейливых зрелищах, чтобы восстановить душевное равновесие. Так Нерон увенчал себя цветами после того, как сжег Рим.
Однако одному событию, также связанному с утренним сражением, было суждено омрачить представление этой беркинады. У г-жи Фромон, которая исполняла роль Луизы (единственную женскую роль в пьесе), в утренней схватке убили отца и мужа. Следовательно, было почти немыслимо, чтобы в подобных обстоятельствах она играла роль возлюбленной и вообще какую бы то ни было роль.
В антракте между двумя пьесами подняли занавес и на сцене вновь появился Тит – Флёри.
Зрители приветствовали его аплодисментами, вскоре смолкнувшими, ибо все поняли, что он собирается сообщить публике нечто важное.
В самом деле, он вышел со слезами на глазах, чтобы от имени г-жи Фромон спросить у публики, не разрешит ли она дирекции театра заменить оперу «Любовь к отцу» оперой «Роза и Кола», поскольку г-жа Фромон оплакивает отца и мужа, отдавших жизнь во имя Республики.
Со всех сторон раздались возгласы «Да! Да!» и дружные крики «Браво!». Флёри уже кланялся публике, перед тем как удалиться, как вдруг Тетрель поднялся с места и показал жестом, что хочет говорить.
Тотчас же несколько голосов воскликнули:
– Это Тетрель, друг народа! Это Тетрель, гроза аристократов! Дайте ему слово! Да здравствует Тетрель!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































