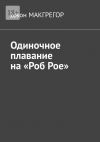Текст книги "Приключения Джона Девиса"

Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Боб сошел, не говоря больше ни слова, и Дэвид занял его место. Плеть поднялась и упала, и девять ремней отпечатались синяками на плечах несчастного; раздался второй удар, и девять других полос скрестились с первыми, при третьем ударе кровь выступила каплями, при четвертом…
– Довольно! – сказал капитан.
Мы вздохнули, потому что у всех дыхание было стеснено. Дэвиду развязали руки, хоть он ни разу не вскрикнул, однако был бледен, как умирающий, и, обращаясь к капитану, сказал:
– Дай вам бог здоровья, капитан, я не забуду ни о милости, ни о мщении.
– Не забывай только своих обязанностей, – сказал капитан.
– Я не матрос, – произнес Дэвид глухим голосом, – я муж и отец, Бог простит меня, что я не исполняю теперь обязанностей мужа и отца, – это не моя вина.
– Отведите наказанных в трюм и скажите доктору, чтобы он осмотрел их.
Боб подал руку Дэвиду.
– Спасибо, любезный друг, я и сам сойду, – сказал тот.
Глава X
Часа через два после этого я сошел в кубрик. Дэвид сидел на своей койке. У него была горячка. Я подошел к нему:
– Ну что, брат Дэвид, каково тебе?
– Хорошо! – сказал он отрывисто, не оборачиваясь.
– Ты не знаешь, с кем говоришь. Я Девис.
Дэвид обернулся.
– Мистер Девис, – сказал он, поднимаясь на одной руке и устремив на меня глаза, которые блестели от лихорадки, – мистер Девис, если вы точно мистер Девис, – вы мой благодетель. Боб сказывал, что вы просили капитана выпустить меня из тюрьмы. Без вас я бы вышел оттуда не раньше других, и мне не привелось бы в последний раз взглянуть на Англию… Воздай вам Бог за это!
– Полно отчаиваться, брат Дэвид, ты еще увидишь Англию и по-прежнему заживешь с женой и детьми. Капитан наш – человек прекрасный, он обещал, что отпустит тебя, как только мы вернемся.
– Да, прекрасный человек! – сказал Дэвид с досадой. – А позволил этому злодею лейтенанту бить меня, как собаку… А ведь капитан-то знал, что я ни в чем не виноват.
– Он не мог совсем избавить тебя от наказания, любезный друг, на службе старший всегда прав – это первое правило дисциплины.
Видя, что мои слова не успокаивают, а, напротив, только злят его, я подозвал Боба, который сидел на свернутом канате и потягивал водку, выданную для примочек. Я велел ему потолковать с Дэвидом, а сам пошел на палубу.
Там все было спокойно, как будто ничего чрезвычайного не произошло; даже воспоминание о сцене, которую я описал, изгладилось у всех из памяти, как след корабля в ста футах за кормой. Погода была прекрасная, ветер свежий, и мы делали по восемь узлов. Капитан прохаживался по шканцам, видно было, что его что-то тревожит. Я остановился на почтительном расстоянии от него, он раза два или три подходил ко мне и опять возвращался; наконец, он поднял голову и заметил меня.
– Ну, что? – спросил он.
– У него горячка и бред, – ответил я, чтобы в том случае, если Дэвид будет высказывать какие-нибудь угрозы, их приписали болезни.
Мы ходили некоторое время рядом, не глядя друг на друга, потом, помолчав несколько минут, капитан вдруг сказал:
– Как вы думаете, мистер Девис, на какой мы сейчас высоте?
– Я думаю, почти на высоте мыса Монтего, – сказал я.
– Именно так, для новичка это очень много. Завтра мы обогнем мыс Сент-Винсент и, если вот это облачко, похожее на лежащего льва, не подшутит над нами, послезавтра вечером будем в Гибралтаре.
Я посмотрел в ту сторону, куда указывал капитан. Облако, о котором он говорил, представляло собой бледное пятно на небе, но я в то время был еще несведущ и не мог сделать никакого заключения из этого предзнаменования. Меня волновало лишь то, куда мы пойдем, когда исполним данное нам поручение. Я слышал как-то, что наш корабль прикомандирован к эскадре в Леванте, и это меня очень радовало. Я опять завел разговор со Стенбау.
– Позвольте вас спросить, капитан, долго ли вы думаете пробыть в Гибралтаре?
– Я и сам не знаю, любезный друг. Мы будем ждать там приказа от Адмиралтейства, – прибавил он, посматривая на облако, которое, видимо, очень беспокоило его.
Я подождал немного, думая, что он снова заговорит, но капитан молчал; тогда я поклонился и пошел. Он дал мне сделать несколько шагов, потом остановил.
– Послушайте, мистер Девис, велите принести из моего погреба несколько бутылок хорошего бордо и передайте Дэвиду.
Это меня так тронуло, что я схватил руку капитана и чуть не поцеловал. Он, улыбаясь, вырвал ее.
– Позаботьтесь об этом несчастном, любезный. Что бы вы ни сделали, я на все согласен.
Уходя, я еще раз взглянул на облако. Оно изменило свою форму и походило на огромного орла с распущенными крыльями, потом одно из крыльев растянулось от юга к западу и покрыло весь горизонт черной полосой. Между тем на корабле все было по-прежнему. Капитан ходил по шканцам, лейтенант сидел, или, лучше сказать, лежал на лафете каронады[16]16
Каронада – короткое гладкостенное орудие, впервые появилось в английском флоте в XVIII веке. Каронады стреляли ядрами и разрывными снарядами, которые при попадании в борт деревянного судна образовывали большие трещины, широкие пробоины.
[Закрыть], вахтенный стоял на брам-стеньге, а Боб, опершись на обшивку правого борта, наблюдал за пеной у борта корабля. Я сел подле него и, видя, что он все больше углубляется в свое занятие, начал насвистывать старинную ирландскую песню, которой миссис Денисон убаюкивала меня, когда я был ребенком. Несколько минут Боб слушал молча, но потом, обернувшись ко мне, снял свой синий колпак и начал мять его в руках – заметно было, что он хочет, но все не решается сделать мне не совсем почтительное замечание.
– Я слышал, старики говорили, ваше благородие, – сказал он наконец, – что негоже призывать ветер…
– То есть, – засмеялся я, – моя песня тебе не нравится и тебе хочется, чтобы я перестал?
– Не мне учить ваше благородие, напротив, я готов выполнить любой ваш приказ и никогда не забуду, что вы сделали для бедного Дэвида, но, право, сударь, лучше не будить ветер, пока он спит. Ветерок дует береговой и порядочный, северо-восточный, а доброму фрегату больше ничего и не нужно.
– Но, любезный Боб, – сказал я, чтобы заставить его разговориться, – отчего же ты думаешь, что погода должна перемениться? Сколько я ни смотрю, я вижу только эту темную полосу. Небо чисто и ясно.
– Читать Божью книгу в облаках наш брат моряк всю жизнь учится.
– Да, я тоже вижу, что там что-то затевается, – сказал я, посмотрев снова на горизонт, – но не думаю, чтобы в этом была опасность.
– Мистер Джон, – сказал Боб с таким видом, что я невольно задумался, – кто купит это облако за простой шквал, тот получит сто на сто барыша. Это буря, ваше благородие, страшная буря.
– А мне кажется, что это только шквал, – сказал я, радуясь случаю научиться от этого опытного моряка угадывать погоду.
– Это оттого, что вы судите односторонне. Повернитесь-ка к востоку, мистер Джон, я еще не глядел туда, но не сойти мне с этого места, если там нет чего-нибудь!
Я оглянулся и – точно – увидел гряду облаков, которые, как острова, поднимались из моря. Теперь и я видел ясно, что мы попали между двух бурь. Но пока буря еще не разыгралась, делать было нечего, и потому все продолжали свои занятия: кто играл, кто прохаживался, кто разговаривал. Мало-помалу береговой ветер, с которым шел корабль, начал дуть неровно, стало темнеть, море из зеленоватого сделалось серым, и вдали загрохотал гром. В таком случае на океане все умолкает, разговоры в ту же минуту прекратились, и мы услышали шелест верхних парусов, которые начинал полоскать ветер.
– Эй, вахтенный, – закричал капитан, – есть ли береговой ветер?
– Есть еще, капитан, но только порывами, и каждый порыв слабее и теплее прежнего.
– Пошел вниз! – сказал капитан.
Матрос поспешно спустился по снастям и занял свое место. Он был явно рад, что ему не пришлось оставаться наверху. Капитан снова начал прохаживаться, и на корабле воцарилось прежнее безмолвие.
– Видно, вахтенный ошибся, – сказал я Бобу, – видишь, паруса снова наполняются, и фрегат пошел.
– Это последние вздохи берегового ветра, ваше благородие, – ответил Боб. – Еще раз, два, три – и баста.
И точно, корабль прошел еще с четверть мили, а потом ветер совершенно стих. Теперь фрегат еле двигался, покачиваясь на волнах.
– Все наверх! – крикнул капитан.
В ту же минуту изо всех отверстий корабля появились остальные матросы.
– Ого! – пробормотал Боб. – Капитан заранее готовится. Я думаю, мы еще с полчаса не узнаем, с которой стороны ждать ветра.
– Смотри, он поднял даже лейтенанта Борка, и тот встает, – сказал я.
– Лейтенант и не думал спать, ваше благородие.
– Да посмотри, как он зевает.
– Зевают не всегда оттого, что спать хочется, мистер Джон, спросите хоть у доктора.
– Так отчего же?
– Видно, на сердце тяжело. Посмотрите-ка на нашего молодца капитана, тот, небось, зевать не станет… А его-то благородие… видите, платком утирается… знать, пот прошиб. С чего бы ему палку взять? Видите, пошатывается…
– И что же ты думаешь, Боб?
– Ничего, ваше благородие, я так просто болтаю.
Борк подошел к капитану и заговорил с ним.
– Смирно! – закричал капитан.
При этом слове, произнесенном посреди глубокого молчания звучным, сильным голосом, весь экипаж вздрогнул. Окинув зорким взглядом весь корабль, капитан продолжал:
– Цепь громоотвода в воду! Налить ведра и пожарную трубу! Высыпать порох из затравок! Закрыть люки и порты! Чтобы нигде не было сквозняка!
В это время снова послышался гром, еще ближе, чем прежде, и долго грохотал, как будто молния сердилась, что против нее принимают меры предосторожности. Через несколько минут все приказания были исполнены, и все вернулись на палубу.
Между тем море совершенно успокоилось. Не было ни малейшего ветерка, паруса печально повисли, медно-желтое небо будто опускалось все ниже и ложилось на наши мачты. Воцарилась мертвая тишина, которая лишь изредка прерывалась грохотом грома, но ничто еще не показывало, откуда налетит ветер. Словно буря еще не решилась обрушиться на нас. Наконец, легкие вихри, которые наши матросы зовут «кошачьими лапами», налетая с востока, начали местами рябить поверхность моря и шуметь в парусах. На востоке, между морем и облаками, появилась светлая полоса, будто поднялся занавес, чтобы пропустить ветер; раздался ужасный шум, словно выходивший из морских недр, поверхность моря взволновалась и покрылась пеной, словно ее вспахали огромным плугом, потом с востока налетела прозрачная пелена тумана. То пришла, наконец, буря.
– Радуйтесь, ребята! – воскликнул капитан. – Ветер с суши, и мы набегаемся вдоволь, не наткнувшись на скалу… Руль по ветру!.. Пусть буря за нами погоняется!
Приказ был тотчас исполнен, и руль положен на ветер. Корабль, послушный, как выезженная лошадь, повиновался воле рулевого. Дважды большие его мачты нагибались к горизонту, так что концы рей окунались в воду и дважды красиво поднимались. Наконец, паруса приняли прямой ветер, и фрегат понесся по волнам, как кубарь под хлыстом школьника, опережая волны, которые, казалось, гнались за ним и, не догнав, разбивались позади него.
– Ничего! – пробормотал Боб себе под нос. – «Трезубец» – ходок знатный, не сразу его обгонишь, а капитан знает его, как кормилица своего ребенка. Поучитесь у него, мистер Джон, – прибавил он, оборачиваясь ко мне, – только поторопитесь, потому что урок будет коротким. Мне сдается, что буря еще не совсем разыгралась. Как вы думаете, сколько узлов ветер делает в секунду?
– Двадцать пять или тридцать.
– Браво! – изумился Боб. – Похвально для человека, который только две недели назад познакомился с морем! Но ветер становится все быстрее и быстрее и вот-вот начнет опережать нас.
– Ну что ж, мы поставим еще паруса.
– Гм! Мы и так несем столько, сколько можно, на дерево ведь нечего полагаться. Посмотрите, крюйсель[17]17
Крюйсель – ближайшая к корме мачта на трехмачтовых судах, то же, что бизань.
[Закрыть] гнется, как прутик.
– Спустить малый стаксель[18]18
Стаксель – треугольный парус.
[Закрыть] и лисель[19]19
Лисель – прямоугольный парус, поднимаемый с боков марселей.
[Закрыть] бизань-мачты! – закричал капитан.
Команда была исполнена в ту же минуту, и скорость «Трезубца» еще увеличилась. Но так как новые паруса накренили его вперед, то он сначала погрузился форштевнем[20]20
Форштевень – носовая оконечность судна (продолжение киля в носовой части).
[Закрыть] в валы, которые рассекал, подобно Левиафану, и все матросы, стоявшие на носу, несколько секунд были по пояс в воде. Но фрегат тотчас поднялся и, как добрый конь, который, споткнувшись, сердится и трясет гривой, понесся еще быстрее.
Вопреки предсказаниям Боба, корабль с час шел таким ходом, и ни одна веревочка не порвалась. Между тем буря все усиливалась, наконец, волны начали заливать фрегат, и один вал, огромный, как гора, поддал с кормы и пронесся по деку. В то же время тучи, будто подпираемые верхушками мачт, разошлись, и над нами показалось небо, пылающее, как кратер вулкана, раздался гром, будто пушечный выстрел, огненная змейка пробежала по гроту и скользнула по громоотводу в море.
После этого взрыва воцарилась на минуту ужасная тишина, и буря, как бы истощенная страшным усилием, казалось, утихла. Капитан воспользовался этой минутой покоя – среди всеобщего оцепенения снова раздался его голос:
– К гроту, ребята! Паруса обстенить [21]21
Обстенить паруса – поставить паруса так, чтобы ветер дул в их переднюю сторону и прижимал паруса к стеньгам. В этом случае судно имеет задний ход.
[Закрыть], все до одного, до последнего лоскутка, с кормы до носа. На гитовы! [22]22
Гитов – снасть такелажа, с помощью которой подтягивают углы парусов.
[Закрыть] Марсы долой! Лейтенант, марсы на гитовы! Руби чего не развяжешь!
Невозможно описать впечатление, которое произвел на приунывший экипаж этот голос, казавшийся гласом царя морей. Мы все сорвались с места и принялись за работу, влезая на мачты и едва ли не задыхаясь от запаха серы, который оставила после себя молния. Пять из шести парусов мигом спустились. Мы с Джеймсом встретились на грот-марсе.
– А, это вы, мистер Джон! Я думал, мы продолжим наше путешествие в хорошую погоду.
– Не угодно ли, я повожу вас по снастям, как вы водили меня по трюмной части? – сказал я, смеясь. – Вон там, на крюйселе, парус забыл спуститься. Не худо бы его закрепить.
– Буря и без нас с ним справится, мистер Джон. Спустимся лучше поскорее на дек.
– Все на дек! – крикнул капитан. – Кто-нибудь один пусть сорвет парус грот-брам-стеньги. Остальные вниз! Живо!
Матросы с радостью повиновались и мигом спустились по снастям, я один остался на грот-марсе и тотчас полез по винтам, чтобы добраться до паруса, но не успел я его достигнуть, как налетел шквал. Парус над моей головой надулся, как шар, и мог в минуту сломать мачту. Я сделал отчаянный бросок, уцепившись одной рукой за крюйсель, другой выхватил кинжал и принялся пилить канат, которым был привязан угол паруса. Нескоро бы я с этим справился, если бы ветер мне не помог. Я не успел перепилить и трети каната, как он оборвался, другой тоже не удержался, парус; удерживаемый только наверху, развевался надо мной, как саван, потом раздался треск, и он унесся в бездну небесную. В ту же самую минуту корабль страшно вздрогнул, и мне послышался голос Стенбау, перекрывавший бурю: он окликнул меня по имени. Огромная волна поддала корабль с борта, я почувствовал, что он ложится на бок, как раненый зверь, я изо всех сил уцепился за ванты, мачты накренились к морю – я увидел, как оно бушует прямо подо мной. Голова закружилась, мне почудилось, что бездонная пропасть проревела мое имя. Я смекнул, что ног и рук моих не довольно, чтобы удержаться, ухватился за канат зубами, закрыл глаза и ждал, что меня обдаст смертельный холод воды. Однако же я ошибся. «Трезубец» был не из тех кораблей, которые сдаются с первого раза: я почувствовал, что он поднимается, открыл глаза и приметил под собой дек и матросов. Я схватился за канат и мигом очутился на шканцах между капитаном Стенбау и лейтенантом Борком. Все уже считали меня погибшим.
Капитан пожал мне руку, и опасность, которой я подвергся, была забыта. Что касается Борка, то он только поклонился мне и не сказал ни слова.
Скорость ветра принудила Стенбау положить корабль в дрейф, вместо того чтобы нестись все дальше от земли; для этого пришлось совершить оверштаг[23]23
Оверштаг – поворот парусного судна против ветра, при котором нос судна пересекает линию ветра.
[Закрыть] и подставить буре корму. При этой перемене положения вал поддал нам с борта и принудил меня описать в воздухе красивую кривую линию, за которую капитан пожал мне руку.
Стенбау не терял времени. Вместо больших парусов он велел распустить только три малых. При этом мы не подставляли борта ветру, и валы не могли бить в них. Маневр заслужил полное одобрение Боба, и он, похвалив меня за отважное путешествие по воздуху, принялся растолковывать мне, в чем дело. По его мнению, буря уже почти прошла, и ветер скоро должен был смениться.
Вышло так, как говорил Боб. Буря утихла, хотя волны еще страшно бушевали, к вечеру ветер подул с западо-северо-запада, мы мужественно приняли его правым бортом и на другое утро шли тем же путем, с которого вчерашняя буря нас сбила.
Вечером того же дня на горизонте показался Лиссабон, а на третий день, проснувшись рано утром, мы увидели одновременно берега Европы и Африки. Вид этих берегов, столь близких один от другого, был восхитителен: с обеих сторон возвышались покрытые снегом горы, а на испанском берегу местами расположились мавританские города, которые будто перескочили через пролив, оставив противоположный берег пустым. Весь экипаж вышел на палубу полюбоваться этим великолепным зрелищем. Я искал среди матросов беднягу Дэвида, о котором в последние дни совсем забыл, только он, безразличный ко всему, не вышел наверх.
Часа через три мы бросили якорь под пушками Гибралтара, салютовали двадцатью одним залпом, и форт вежливо ответил нам тем же.
Глава XI
Гибралтар не город, это крепость, в которой строгая воинская дисциплина распространяется на всех жителей. Высадив нового губернатора, мы стали дожидаться на рейде приказа правительства. По своей доброте капитан Стенбау, чтобы нам было не так скучно, позволял всякий день половине экипажа сходить на берег. Вскоре мы познакомились с несколькими офицерами из гибралтарского гарнизона, а они ввели нас в местное общество, приглашая в дома, в которые были вхожи сами. Эти визиты, прекрасная библиотека, имевшаяся в крепости, и прогулки верхом по окрестностям и были нашими развлечениями.
Я очень подружился с Джеймсом, мы везде бывали вместе, и поскольку у него, кроме жалованья, средств не было, то я всегда брал на себя бо`льшую часть расходов, но так, чтобы его это не оскорбило. К примеру, я нанял на все время нашей стоянки двух прекрасных арабских коней, и Джеймс, разумеется, пользуясь моей расточительностью, ездил на одном из них.
Однажды, прогуливаясь, мы увидели орла, который спланировал на павшую лошадь и пожирал падаль с такой жадностью, что подпустил меня к себе на сто шагов. Я часто видел, как наши селяне били зайцев в логове: они ходили вокруг зверька, все больше сужая круг, и, наконец, забивали его палкой по голове. Царь птиц сидел так неподвижно, что я вздумал попробовать то же средство. У меня были в карманах превосходные маленькие пистолеты, я вынул один из них, взвел курок и начал бешено скакать вокруг орла, а Джеймс стоял на месте, покачивая с сомнением головой. Кружение ли это произвело на птицу такое действие, что она не могла сойти с места, или орел в припадке обжорства до того наклевался, что ему трудно было подняться, – как бы то ни было, он подпустил меня к себе на каких-нибудь двадцать пять шагов. Тут я вдруг остановил лошадь и приготовился выстрелить. Осознав, что жизнь его в опасности, орел хотел было взлететь, но еще не успел взмыть в воздух, как я уже выстрелил и перебил ему крыло. Мы с Джеймсом вскрикнули от радости и соскочили с лошадей, чтобы взять добычу, но это было нелегко: раненый, казалось, решил не сдаваться без боя. Убить его было бы нетрудно, но нам хотелось взять его живым, чтобы отвезти на корабль, и мы повели продуманную атаку.

Я ничего не видал прекраснее этого царя пернатых, когда он с гордым видом посматривал на наши приготовления. Сначала мы хотели схватить его поперек туловища, загнуть голову под крыло и унести, как курицу, но два или три удара клювом, один из которых оставил у Джеймса на руке довольно глубокую рану, заставили нас отказаться от этого плана. Мы попробовали другой способ: взяли свои платки, одним я замотал ему голову, другим Джеймс спутал лапы, потом мы подвязали крыло, обмотали орла, как мумию, приторочили к седлу и, гордые своей добычей, вернулись в Гибралтар. Баркас ждал нас в порту и с торжеством повез на корабль.
Приближаясь к кораблю, мы показали сигналами, что везем нечто необычайное, и потому все оставшиеся на корабле ждали нас у трапа с нетерпением. Прежде всего мы позвали фельдшера, чтобы подрезать крыло, но поскольку закутанного орла трудно было отличить от индейки, то наш помощник эскулапов заявил, что это не его дело, а повара. Позвали кока, и тот в минуту отнял раненое крыло. Потом мы распутали орлу лапы, развязали голову, и весь экипаж вскрикнул от удивления при виде благородного пленника. С позволения капитана мы отвели ему место на корабле, и за неделю наш Ник стал ручным, как попугай.
В Плимуте я проявил свою сметливость, управляя вылазкой в Вальсмоут, во время бури доказал свою неустрашимость, срезав крюйсель, теперь я проявил свою ловкость, подстрелив из пистолета орла. И с этих пор на меня уже смотрели на «Трезубце» не как на новичка, а как на настоящего моряка.
Стенбау относился ко мне по-дружески, зато Борк, кажется, все больше меня ненавидел. Впрочем, это было общее несчастье всех моих молодых товарищей и других офицеров, принадлежавших, подобно мне, к аристократии. Делать было нечего, и я, так же как они, не обращал на это большого внимания. Я исполнял свои обязанности с величайшей точностью, во время нашей стоянки не дал лейтенанту ни одного повода наказать меня, и он, при всем своем желании, вынужден был отложить это до другого раза.
Мы стояли в Гибралтаре уже около месяца, ожидая предписаний Адмиралтейства, наконец, на двадцать девятый день вдали показался корабль, который маневрировал, чтобы войти в гавань. Мы тотчас рассмотрели, что это сорокашестипушечный фрегат «Сольсет», и были уверены, что он везет нам предписания. Весь экипаж обрадовался, потому что жизнь в Гибралтаре надоела уже и офицерам, и матросам. Мы не ошиблись: под вечер капитан фрегата привез на «Трезубец» долгожданные депеши. Стенбау сам вскрыл пакет: кроме предписаний Адмиралтейства, в нем было много частных писем, и, между прочим, одно к Дэвиду, капитан отдал его мне.
За все двадцать девять дней, которые мы провели в Гибралтаре, Дэвид ни разу не сошел на берег: он всегда оставался на корабле, мрачный и безмолвный, но между тем исполнял свои обязанности точно и ловко, что сделало бы честь настоящему матросу. Я нашел беднягу в парусном чулане: он чинил парус. Я отдал ему письмо, и он, узнав почерк, тотчас его распечатал. С первых же строк он страшно побледнел, его губы задрожали, и крупные капли пота покатились по лицу. Дочитав письмо, он сложил его и спрятал за пазуху.
– Что тебе пишут, Дэвид? – спросил я.
– Чего я ожидал, – ответил он.
– Однако, письмо, кажется, поразило тебя?
– Да, ведь, хоть и ждешь удара, от этого боль не меньше.
– Дэвид, – сказал я, – доверь мне свою тайну, как другу.
– Теперь никакой друг на свете мне не поможет, но я благодарен вам, мистер Джон. Я никогда не забуду, что вы и капитан для меня сделали.
– Не унывай, любезный друг Дэвид, не теряй мужества.
– Вы видите, я спокоен, – сказал он, принявшись снова зашивать парус.
И точно, он казался спокойным, но это спокойствие происходило от бессилия и безнадежности.
Я вернулся к капитану с тоской в душе, которую не мог скрыть. Я хотел сообщить капитану свои опасения насчет Дэвида, но он сказал мне:
– Я сейчас обрадую вас, мистер Девис. Мы идем в Константинополь подкрепить предложения, которые нашему послу, господину Эдеру, поручено сделать Блистательной Порте[24]24
Блистательная Порта – официальное название правительства султанской Турции.
[Закрыть]. Вы увидите землю «Тысячи и одной ночи», Восток, увидите его, быть может, сквозь пороховой дым, но это, конечно, не лишит его поэзии. Объяви`те об этом экипажу и прикажите, чтобы все были готовы к отплытию на рассвете.
Капитан угадал: ничто не могло быть для меня приятнее этой вести, она вытеснила из моей головы все прочие мысли. Я тотчас пошел сообщить лейтенанту приказ капитана. Со времени происшествия с Дэвидом Стенбау почти никогда не обращался к нему напрямую и обычно сообщал свою волю через меня. Борк не мог не заметить этого и еще больше невзлюбил меня. Как и всегда, я говорил с ним почтительно, он же отвечал холодно и с принужденной учтивостью.
Вечером мы начали готовиться к выходу в море, и, поскольку ветер был благоприятный, ночью подняли паруса и на другой день часа в четыре пополудни уже потеряли землю из виду. Первая вечерняя вахта, в которой состоял и я, сменилась, и я начал уже раздеваться, как вдруг на корме послышался шум и раздался крик: «Режут!» Я бросился на палубу, и меня поразило ужасное, неожиданное зрелище. Четыре матроса держали Дэвида, в руках у которого был окровавленный нож, а первый лейтенант, сбросив мундир, показывал широкую рану на правой руке. Как ни удивительно было это происшествие, но было ясно, что Дэвид хотел убить Борка. К счастью, матрос, стоявший поблизости, увидел, как блеснуло лезвие, закричал, и лейтенант отразил удар рукой; нож, направленный ему прямо в грудь, попал в плечо. Дэвид замахнулся было снова, но Борк перехватил его руку, между тем подоспели матросы и связали убийцу. Стенбау выбежал на палубу почти в одно время со мной и все это видел. Невозможно описать горе, которое отразилось при виде этого зрелища на лице почтенного капитана. В душе он всегда был больше расположен к Дэвиду, чем к Борку, но подобный поступок ничем не оправдаешь – это настоящее преднамеренное убийство. Капитан приказал заковать преступника в кандалы и посадить в трюм, потом назначил на третий день собрание военного суда.
Ночью накануне собрания капитан прислал за мной и спросил, не известны ли мне какие-нибудь подробности дела. Я знал не больше капитана и потому не мог сообщить ему никаких сведений. Я предлагал сходить в трюм, чтобы выспросить что-нибудь у самого Дэвида, но это было против военных законов: преступник до начала суда не должен ни с кем общаться.
На другой день после чистки оружия, то есть часов в десять, военный суд собрался в кают-компании. Там стоял большой стол, покрытый зеленым сукном, и в центре лежала большая Библия. Судьи расселись за столом напротив дверей: капитан Стенбау, два вторых лейтенанта, подшкипер и Джеймс, как старший из мичманов. По обеим сторонам от них стояли сержант и офицер, которому поручено было поддерживать обвинение; оба с непокрытыми головами, а первый еще и с обнаженной шпагой в руке. Как только судьи сели, двери раскрыли и впустили матросов, которые встали в отведенном для них месте; что касается первого лейтенанта, то он оставался в своей каюте.
Привели преступника: он был бледен, но совершенно спокоен, все мы вздрогнули при виде этого человека, которого насильственно лишили жизни безвестной, но спокойной и счастливой. Закон, конечно, был справедлив, но между тем этот человек был некоторым образом вовлечен в преступление нами самими, и, несмотря на все наше сочувствие, мы могли только столкнуть его в бездну, на край которой он ступил. Несколько минут тянулось молчание. Наконец, раздался голос капитана.
– Как тебя зовут? – спросил он.
– Дэвид Монсон, – ответил преступник голосом более твердым, чем голос судьи.
– Сколько тебе лет?
– Тридцать девять лет и три месяца.
– Откуда ты родом?
– Из деревни Сальтас.
– Дэвид Монсон, тебя обвиняют в том, что ты в ночь с четвертого на пятое декабря пытался убить лейтенанта Борка.
– Это правда.
– Какие причины побудили тебя совершить это преступление?
– Некоторые из этих причин вам известны, капитан, и я не стану говорить о них. А вот и другие.
С этими словами Дэвид вынул из-за пазухи бумагу и положил ее на стол. Это было письмо, которое я вручил ему дня три назад в Гибралтаре.
Капитан взял его и, читая, был заметно тронут, потом передал письмо своему соседу; таким образом, оно прошло через руки всех судей, и последний из них, прочитав, положил его на стол.
– Что же в этом письме? – спросил офицер-обвинитель.
– В нем пишут, – заговорил Дэвид, – что жена моя, овдовев при живом муже и оставшись с пятью детьми, продала все, что у нее было, чтобы их прокормить, а потом стала просить милостыню. Однажды ей за целый день ничего не подали, голодные дети плакали, и она украла у булочника кусок хлеба. Из милости и из сострадания к ее горестному положению ее не повесили, но посадили на всю жизнь в тюрьму, а детей моих, как бродяг, отдали в богадельню. Вот что в этом письме… О, мои детки, мои бедные детки! – закричал вдруг Дэвид таким душераздирающим голосом, что слезы навернулись на глаза у всех присутствующих.
– О, – продолжал Дэвид после минутного молчания, – я бы все простил ему, как христианин, клянусь Библией, которая лежит перед вами, господа. Я бы простил ему, что он отнял у меня все на свете, оторвал меня от родины, от дома, от семейства, простил бы ему, что он бил меня, как собаку… Как бы он ни мучил меня, я простил бы его… Но бесчестье жены и детей моих!.. Жена моя в тюрьме, а дети в богадельне! О, когда я получил это письмо, мне показалось, что все духи ада проникли ко мне в душу и вопят: «Месть! Месть!»
– Ты хочешь еще что-то сказать? – спросил капитан.
– Ничего, мистер Стенбау, только, ради бога, прикажите не мучить меня. Пока я жив, у меня перед глазами всегда будут моя несчастная жена и бедные дети. Чем скорее я умру, тем лучше.
– Отведите его назад, в трюм, – сказал капитан, стараясь сохранить твердость в голосе.
Два матроса вывели Дэвида. Нас тоже выслали, потому что суд должен был приступить к совещанию. Но мы не отходили от дверей, чтобы поскорее узнать решение. Через полчаса сержант вышел, в руках у него была бумага с пятью подписями – смертный приговор Дэвиду Монсону. Хотя подобного и следовало ожидать, однако эта весть произвела на всех удручающее впечатление. Что касается меня, то я снова почувствовал раскаяние, которое уже не раз меня охватывало. Не я захватил Дэвида, однако я принимал участие в той экспедиции. Я отвернулся, чтобы скрыть свое смущение. За мной стоял Боб, прислонившись к стене; по простоте душевной он не сумел скрыть чувств: две крупные слезы катились по его суровому лицу.
– Мистер Джон, – сказал он, – вы всегда были благодетелем несчастного Дэвида. Неужели вы теперь его покинете?
– Но что я могу для него сделать, Боб? Если ты знаешь какое-нибудь средство спасти его, говори, я на все готов!
– Да-да, я знаю, – сказал Боб, – что вы добрый и хороший человек. Не могли бы вы предложить команде, чтобы все пошли просить за него капитана? Вы знаете, мистер Джон, он у нас милостивый командир.
– Надежды мало, любезный! Однако попробуем. Только поговори с экипажем ты, Боб: нам, офицерам, нельзя этого предлагать.
– Но вы по крайней мере можете передать капитану нашу просьбу? Вы можете сказать ему, что об этом просят его старые матросы, которые каждую минуту готовы умереть за него.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?