Текст книги "Жизнь же…"
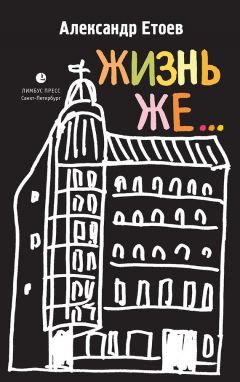
Автор книги: Александр Етоев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
В основном она убегала в Вырицу.
Александр Лаврентьевич Вырицу не любил. Съездил пару раз на разведку, нет ли у неё там тайного друга, успокоился, друга нет, и больше туда не ездил. А сидел на диване, водил носом над тетрадным листом в клеточку, на котором куриным почерком фиксировал доходы от съёмщиков, семьи студентов из Пикалёво, которым он сдал квартиру, и текущие расходы по дому. Или нырял в телевизор, смотрел футболы и новости. Иногда уезжал к сестре, на проспект Гагарина, от неё возвращался нервный, злился из-за недосоленного пюре или пережаренной рыбы.
На правом берегу, в Уткиной Заводи, жила его бывшая супруга с двумя взрослыми незамужними дочерьми, ни с ней, ни с ними он не общался, даже не перезванивался, причину ссоры объяснял то ли её неверностью, то ли своей ошибкой, но всё это говорилось путано, и где правда, Антонина так и не поняла.
Кроме своих лягушек, чужих долгов из тетради в клеточку и нелюбви к родственникам, занимал Александра Лаврентьевича вопрос экономии. Всё началось со спичек. Антонину, как, наверное, большинство домашних хозяек, нисколько не волновало, сколько она чиркает спичек, когда зажигает газ. А сожителя её волновало. Сначала вроде бы шутки ради он начал давать советы по разумному их использованию. Поставил рядом с плитой старую консервную банку, куда следовало складывать не до конца сгоревшие спички, чтобы пользоваться ими вторично и даже третично и четверично. Сам он раз поставил рекорд, с одной спички зажёг четыре конфорки сверху и ту, что была в духовке. Плюс ещё остался огарок, положенный в жестянку – куда положено. Но и это был не предел его бережливости. Александр Лаврентьевич нарéзал из старых газет полосок и учил Антонину использовать вместо спичек их: запалила полоску от уже горящей конфорки и подноси огонёк к другой, ещё незажжённой. Просто, как и всё гениальное.
На ёмком стеллаже в туалете он выстроил в два ряда пустые банки из-под томатов, большие, пузатые, трёхлитровые. Часть банок он заполнил обмылками. В других разместил шурупы, гвозди, прочий мелкий крепёж, каждую банку снабдив наклейкой из лейкопластыря, на которой был указан точный размер гвоздей, шурупов, прочего мелкого крепежа, содержащегося в конкретной банке. Где он всё это насобирал – неясно, особенно неясно с обмылками.
Антонина как-то прикинула, что обычный кусок мыла «Банного» смыливается примерно за месяц, а в банках, стоявших на стеллаже, таких обмылков было тысячи полторы, и откуда они взялись, Антонина понятия не имела.
Под особым контролем стал держать Александр Лаврентьевич бытовые электроприборы, а попросту говоря, стал экономить свет. Здесь ему больше Антонины досаждал Миша. Компьютер Миша выключал редко, только когда выходил из дома. Александр Лаврентьевич сначала бубнил в прихожей, стоя возле Мишиной двери, но уже через пару месяцев после переселения в Купчино прибавил голосу громкости и, просунув голову в дверь, попытался устроить Антонининому внуку разнос. Миша даже не обернулся, а протянул руку к стоявшей на столе чашке и, не глядя, запустил её вместе с кофейной гущей в Александра Лаврентьевича. Тот вовремя закрыл дверь и все свои претензии к внуку высказал Антонине.
Почему она терпеливо сносила эти его скупость и самодурство?
Дело в том, что ещё одним свойством Александра Лаврентьевича было умение влезать человеку в душу. И не просто влезать – вгрызаться, пожирать её поедом изнутри. При этом жертва, в данном случае Антонина, вторжению была только рада. Она воспринимала это как милость, сопереживание с его стороны её волнениям и тревогам. Кому, как не Александру Лаврентьевичу, могла она излить свою душу, болящую за живых и мёртвых? Бог был от неё далеко, за тридевять небес и земель, спрятанный за иконною позолотой и равнодушный к её молитвам. Миша жил в своей скорлупе, которая с каждым днём становилась толще.
Вот за вечерним чаем, или под стрекочущий телевизор, или когда не спится, она и рассказывала Александру Лаврентьевичу о жизни: своей и тех, кто ей близок – был или есть, неважно.
Как она пятнадцатилетней девочкой приехала в Ленинград из деревни, это был сороковой год. В Ленинграде жили мама с отцом, отец мальчиком ещё уехал сюда портняжничать, начал с ученика, сделался полноценным мастером, здесь и остался жить, привёз из деревни маму, отсюда ушёл на фронт, войну окончил в Германии, имел боевые награды. Когда началась блокада, Антонина с мамой остались в городе, в нём бы и умерли в первую блокадную зиму, как умерли тысячи тысяч несчастливых городских жителей, если бы не сестра Фаина. Мамина сестра работала на мельнице Кирова, туда она и устроила их обеих, родную сестру Прасковью и дочь её Антонину.
Рассказывала про брата-лётчика, штурмана истребительной авиации, как он в бою над Ладогой потерял зрение и ногу. Жизнь его сложилась негладко. Сын от первой жены ещё по молодости сел на наркотики, жена Верка умерла рано, сын от второй жены юношей попал под машину, необратимо повредил голову и доживает жизнь дурачком.
Часто рассказывала о муже. Его портрет в полковничьей форме висел в комнате между сервантом и платяным шкафом. Царицын на портрете был важен, бел, по-царски угрюм, грудь расцвечена радугой награднóй ленты. Муж служил в войсках ПВО, политруком, потом замполитом, был всегда по политической части, после войны преподавал в Университете на кафедре научного коммунизма. В квартире, тогда в доме на углу Люблинского и Прядильного переулков, как войдёшь, прямо на тебя со стены с ленинским прищуром смотрел дальнозоркий Сталин, копия с портрета работы художника Селифанова; в начале шестидесятых портрет ушёл на помойку, вынесен был неспокойной ночью, над Фонтанкой выли шторма, и берег был усыпан сорванными с тополей листьями и поломанными ветвями. Плакали, а как не расплакаться, если с этим именем на устах провоевали почти пять лет, зябли, мёрзли, голодовали, гибли и вот ведь выжили, дошли до победы. Квартирка была маленькая, как шкаф. Эта, в которой Антонина жила теперь, от той отличалась, как Австралия отличается от Америк, обеих, Южной и Северной. Ну, по молодости это не важно. Жили весело, деньги были, кафедра научного коммунизма была ценным вплеском свежей советской мысли в картину мировой философии, а то, что её Царицыну из-за смены политических ветров не получалось дописать книгу – то этот был отправлен в заштат, то другой оказался сволочью, – так и бог с ним, и без книги зарплата была хорошая. Плюс гонорары за публикации в малотиражных реферативных сборниках и прочих кафедральных изданиях. И вдруг – умер. Рак желудка. Был Царицын, и нет Царицына. Остался один портрет, тот, что висит на стенке, и его надгробная копия на кладбище в Вырице, и фотографии в семейном альбоме.
Их единственный сын, Володя, рос баловнем, баловнем и остался, пока его не убили. Родился с сухой рукой, призвали в армию, но сразу комиссовали. Играл в оркестре на трещотке-шумелке, это называется джазом, пил почасту, из джаза выгнали, пошёл на курсы по ремонту холодильников и, по совместительству, в уголовники, прятал в холодильниках, которые ремонтировал, трупы убиенных клиентов, потом в труп превратился сам. К Антонине, когда сына убили, явились некие угрюмые личности, сказали, чтобы никаких заявлений, мол, умер сам, упал из окна, перебрав на очередной пьянке, и она испугалась, не заявила.
Но все они, сын, муж, родители, были в прошлом, осязаемом, холодящем спину и в живых оставшемся только в памяти.
В настоящем остался Миша, у Миши своя история. Рос он обычным мальчиком из не очень благополучной семьи (учитывая судьбу отца), с родителями почти не жил, хотя часто бывал в их доме, благо все они жили рядом, в Купчино, – родители Антонины, она с Царицыным, пока тот был жив, и Володя с женой Тамаркой. В основном жил Миша у стариков. Потом старики умерли и переехали жить на кладбище, а Миша переместился к бабушке. Потом умер, то есть погиб, отец, Тамарка нашла нового мужа, и её сын, практически окончательно, поселился у Антонины. Бывал, конечно, временами у матери, но больше чем на день не задерживался. После школы пошёл в ЛЭТИ, это была уже перестройка, влюбился, потому и не доучился; девушка была с его курса, они поженились, он переехал к ней, и всё вроде бы хорошо, Миша нашёл работу, устроился программистом в фирму, занимавшуюся перепродажей компьютеров, потом в другую, первая развалилась, потом что-то переключилось в нём, и он начал писать программу по коренной переделке мира. Всё забросил, работу тоже, почти не ел, исхудал, как мумия, сутками не отходил от компьютера, всё писал и писал программу и более ни о чём не думал. А они уже купили машину, хотели завести сына или дочку, это уж как получится, только Мише хотелось сына. А потом уже не хотелось, кроме как переделкой мира он не интересовался ничем. Когда Мишу позапрошлой зимой выписали из Скворцова-Степанова, жена его не приняла у себя, и больше они не виделись, он окончательно переехал к бабушке писать свою компьютерную программу.
В беседах с ней Александр Лаврентьевич больше упирал на свой опыт военного моряка.
– Я служил на БТЩ, – говорил он Антонине за чаем. – Знаешь, что такое БТЩ?
– Знаю, – отвечала она ему. – Я ж блокадница, как не знать? Брёвна. Тряпки. Щепки. Сокращённо – БТЩ. Так в блокаду называли табак. «Вырви глаз» его ещё называли.
– Сама ты «щепки»! – злился он на неё. – БТЩ – это быстроходный тральщик. Мы всю Балтику после войны протралили, а в войну сопровождали конвои, проводили корабли среди мин. Я три раза подрывался на мине, слава богу всё на месте и цело.
О войне они говорили часто, слишком острым и жестоким ножом полоснула эта война по жизни.
– Мы-то всё с тобой пережили, – говорил ей Александр Лаврентьевич, – а нынешние? Рыба без костей, хлеб в нарезке, резать даже не надо… Знаешь, в блокаду было, мой товарищ на подводной лодке служил, и застряли они здесь в первую блокадную осень, выход в Балтику закрыт, там фашисты, и разместили их экипаж вместе с другими моряками-подводниками на Васильевском острове в знаменитом Пушкинском доме. Зима, значит, есть нечего, моряки от голода пухнут, и увидел кто-то в одном из помещений хороший такой сноп пшеницы, хранящийся под стеклом. Сказал ребятам, они спросили у кого-то из местных, можно ли это дело пустить на кашу, зря же пропадает зерно. А местный, служитель там или кто, замахал на них руками: «Вы что! Это же сноп пшеницы, подаренный когда-то самому поэту Некрасову крестьянами из села Карабиха, и хранится он здесь в качестве музейного экспоната. А вы – съесть!» В общем, не разрешил. Тогда моряки-подводники отправили телеграмму президенту Академии наук с просьбой разрешить им этот сноп позаимствовать. Главный академик дал морякам добро, ну они обмолотили его, помыли, сварили кашу и съели! В общем, всё было честь по чести, никакого самоуправства и воровства.
– Думаю, что того товарища, который им сперва отказал, они тоже слопали вместе с кашей, – пошутила Антонина Васильевна.
Александр Лаврентьевич рассердился и ушёл, не допив свой чай, общаться со своими лягушками.
Ещё он ненавидел Хрущёва – за то, что тот уничтожил флот. Двадцать пятое марта одна тысяча девятьсот пятьдесят восьмого, день, когда вышло постановление Совета министров, поставившее крест на судьбе почти двух с половиной сотен кораблей и судов Военно-морского флота, а заодно на его карьере, стал чёрным днём жизни Александра Лаврентьевича. Он, непьющий по жизни, чуть тогда не запил от бессилия и обиды. И быть может, запил бы, но подохнуть от водки ему было неинтересно. Да и не любил он её, водку-то.
– Я, – говорил он Антонине Васильевне, – когда служить ушёл, вовсе не знал, что такое водка. Помню, год служу, второй, моим товарищам, как положено, сто граммов фронтовых выдают, а я не пью и даже не пробую. Поначалу водку всё на манную кашу в брикетах менял. Как про то узнали, так ко мне целые очереди выстраивались желающих махнуть их кашу на мою водку. И вот в какой-то момент я думаю: «А почему это ко мне за водкой такая очередь? Может, она и впрямь вкусная?» В общем, взял и попробовал. Не понравилось. С тех пор не пью. Вина десертного могу выпить, шампанского. Коньяка армянского, его Черчилль, говорят, очень любил, могу. А вот водки – это упаси боже. В День Победы разве что, четверть рюмки, традиционно.
Время шло, и новый хозяин утверждался в квартире всё основательнее. Число банок с крепежом и обмылками перевалило за два десятка, и заставленный стеллаж в туалете был надстроен вверх на два ряда. Александр Лаврентьевич ежечасно инспектировал помещения самим собой вверенной ему жилой площади, а кроме этого ходил за продуктами, покупая их только там, где они были всего дешевле.
Антонина по-прежнему совмещала пенсию с работой страхового агента, денег это не приносило, но зато было удобной причиной реже находиться в квартире.
Миша стал бывать редко, перешёл на квартиру к матери и унёс туда свой компьютер.
Однажды к Александру Лаврентьевичу в гости пришла сестра. То ли сам он её позвал, то ли она явилась из любопытства – любой женщине всё-таки интересно, как и с кем живёт знакомый мужчина, тем более если он её родственник.
Сестра явилась в гости без приглашения, просто позвонила, и ей открыли.
– Александра, – представилась она и пояснила: – Александра Лаврентьевна. Сестра его, – показала она на брата, возвышавшегося в тёмной прихожей над светлой головой Антонины, открывшей для гостьи дверь.
Познакомились, поцелуев не было, ограничились коротким рукопожатием.
Была суббота, время было не позднее. Из запасов, отыскавшихся в холодильнике, Антонина накрыла стол, быстро накрошила салат, открыла шпроты, отварила картошку – в общем, сделала всё как надо. Даже «Рябину на коньяке» поставила на стол ради гостьи.
Александр Лаврентьевич сдулся, то есть, если верно предположение, что сестра явилась сама собой, вдруг почувствовал себя не хозяином – в смысле, не хозяином ситуации. Он шутил всё как-то не к месту – например, когда Антонина пожаловалась на зелёный горошек, тот, что положила в салат, мол, какой-то он пресный и мелковатый, Александр Лаврентьевич громко испортил воздух, потом, глупо рассмеявшись, сказал: «Не бзди горохом, живём неплохо». Антонине стало неловко, но сестра не то чтоб расстроилась за своего нескромного брата, она заржала, как орловская кобылица, повторила его глупую выходку и сказала: «Это у нас семейное».
– Ни-ни-ни, – отнекивался Александр Лаврентьевич, пока Антонина наливала ему в рюмку «Рябину на коньяке», – ты же знаешь, я напитков крепче чая не употребляю. – Но всё же выпил и мгновенно порозовел.
Сестра молчала с набитым ртом, издавала только громкие охи в ответ на Антонинины откровения и почасту подхихикивала не к месту.
Когда Александр Лаврентьевич взял по привычке военно-морскую ноту и начал вспоминать случай, как он один вручную волок по палубе стодвадцатитрёхтонную глубинную бомбу, сестра опять заржала, как кобылица, и вдруг сказала с набитым салатом ртом:
– Ты-то? Да ты в жизни ничего тяжелее хера не поднимал. Командовал консервами и спиртом на корабле, так за тебя всю тяжелую работу другие делали. Вишь, герой – морда горой. Был начснабом, начснабом и остался. – Похоже, сестру прорвало. Она без спросу наполнила свою рюмку «Рябиной на коньяке» и, ни с кем не чокнувшись, опрокинула её в рот. – Небось и здесь гальюн обмылками весь заставил? Знаешь, за что его прежняя жена от себя попёрла? – повернула она голову к Антонине. – За это и попёрла, что жизни не давал никому в семье своими спичками и обмылками. Я же вижу, – продолжала сестра, – всё в лягушках…
Лишь она дошла до лягушек, как лицо у Александра Лаврентьевича сделалось простыни белее. Он схватил со стола салатницу и метнул её в Александру. Та увернулась ловко, и салатница ударилась в стену, в то святое для Антонины место, где висел портрет её мужа. Тысячью хрустальных слезинок брызнули осколки по сторонам. Полотно на портрете лопнуло, и в том месте, где грудь покойного пламенела орденскими нашивками, образовалась зияющая прореха.
У Антонины потемнело в глазах. Она встала и негнущимися ногами сделала шаг к портрету. Закачалась, схватилась рукой за стену, постояла так недолго, секунды три. Потом, уже отвердевшим шагом, пошла к серванту.
Они трещали, хрустели, лопались под её подошвами. Деревянные, глиняные, фарфоровые. Плющилось пустотелое железо. Крошился камень. Александр Лаврентьевич ползал по полу на карачках и квакал жалобно, собирая осколки своей коллекции. Александра стояла рядом и дико ржала, как сами знаете кто. Всё это продолжалось вечно.
Александр Лаврентьевич съехал на другой день.
Она молча заперла за ним дверь, переоделась и занялась уборкой. До вечера всё мыла и чистила, потом легла в горячую ванну и лежала в ней, пока не сомлела.
Прошло три года. Она готовила, Миша занимался своей программой, когда в прихожей зазвонил телефон. Подошла. Незнакомый голос сказал ей, что звонят из ритуальных услуг. Что Александр Лаврентьевич умер, родственники хоронить отказались, и если она желает взять на себя заботу об организации похорон, то может прийти туда-то и подписать соответствующие бумаги. Иначе Александра Лаврентьевича запечатают в пластиковый мешок и кремируют по общей форме без ритуала.
Она поехала туда, куда ей сказали, всё оплатила без пререканий, организовала кремацию. Жутко было стоять одной в гулком зале петербургского крематория, слушать слова сотрудницы о том, «какого человека мы потеряли». Сестра покойника, Александра, на прощание не явилась.
Потом ей выдали урну с прахом. Антонина знала, что на Волковском кладбище похоронены родственники Александра Лаврентьевича, и она решила его останки похоронить там. До кладбища добиралась на перекладных, метро в ту сторону тогда ещё не ходило, приехала, зашла в здание администрации, там рылись минут сорок в бумагах, ничего почему-то не обнаружили, и она, обругав их мягко, отправилась на поиски средь могил.
Ходила долго, ничего не нашла, зашла в церковь Воскресения Словущего, там поставила свечу за Царицына, за Александра Лаврентьевича ставить свечу не стала. Дошла до Волковки, и что-то её кольнуло.
Речка текла тихо, как в детстве текли по небу белые облака. И сама она была тоненькая, как детство, пережмёшь её тяжёлой рукой, и речка задохнётся и высохнет. К воде клонились тощие тополя, ольха ломалась, отражаясь в воде, и белые берёзы чернели.
Она достала из сумки урну, поднесла к уху. Александр Лаврентьевич сказал изнутри: «Не надо».
На Камчатской Антонина остановила машину с шашечками.
– На Неву, – сказала она водителю.
– Нева большая, хотелось бы поточнее, – сказал водитель.
– К Финляндскому мосту, у мельницы Ленина, – ответила Антонина.
К Неве она спустилась на цыпочках, боясь потревожить прах. Убаюканный плавной качкой, Александр Лаврентьевич ещё спал. Ему снилась река Ямуна, и столица семи империй, как называют город Дели в старинных хрониках, и большая металлическая лягушка, квакающая на всю вселенную и сделанная из метеоритного железа. Он проснулся от голоса Антонины.
Она стояла на берегу Невы. Правый берег был в сизоватой дымке – то ли день, переходя в вечер, красил воздух в голубиные колера, то ли в глаз её попала соринка. Чайки ссорились, отталкивая друг друга, думали, что деревянный ковчежец с криво вырезанным восьмиконечным крестом, который она держала, наполнен чаячьим угощением. Она сказала чайкам: «Подите!» Тогда-то Александр Лаврентьевич и проснулся.
Потом она задержала дыхание и пустила сосуд с усопшим по текучей воде реки.
Пусть плывет он по морям, по волнам и приплывёт туда, куда ему суждено приплыть.
Мария
Жизнь текла, облака текли, кровь текла в моих хрупких жилах, тень текла по её щеке.
А сверху наблюдал Бог. Но Его я, увы, не видел.
Звали её, вы не поверите ни за что, – Мария.
– Можно Маша, – сказала она, когда мы с ней встретились в первый раз.
Было это давно, восемнадцать лет назад, даже больше.
Я успел за эти годы состариться, а она, вы не поверите снова, не постарела за это время ни на секунду.
Кажется, было лето. Кажется, я был пьян. Да, я был точно пьян, потому что она сказала, наблюдая за мной с балкона: «Вот уж точно, этот синяк сейчас склеит эту узкоглазую тёлку».
Я её действительно склеил, эту узкоглазую таиландку.
«Проводи меня, – говорил я ей, обнимая за восточные плечи. – Нет-нет-нет, любовь ни при чём, – мои пьяные, но лёгкие руки перелегли на таиландские бёдра, – не дойти мне одному, понимаешь? До номера мне одному не дойти».
А потом полюбил её, дорогую мою Марию.
После ночи, вернее утра (кажется, полночи мы пили), которое я провёл с ней, голова моя превратилась в рацию, выстукивающую шпионские позывные. Я звал её, а она молчала. Я не мог её звать открыто – жена и двое детей. Потом она позвонила, это было спустя неделю.
«Ну, ты дура, – говорила подруга ей, когда Мария собиралась на встречу. – Ты хоть помнишь, как выглядит этот твой? Нет, ты вспомни, блевать захочется».
Я был в ветхом пальто-реглане светло-серого, асфальтного цвета. Я стоял на троллейбусной остановке и прислушивался к дверной гармошке каждого останавливающегося троллейбуса. Я прислушивался и вглядывался в ручей вытекающих из транспорта пассажиров. Я не помнил её лица. Помнил только запах волос, голос тела и влагу плоти, которыми она меня одарила.
Она сошла – так, наверное, сходят ангелы по ступеням лестницы Иаковлевой.
Я привёл её в свой чертог, славный непобедимыми тараканами. Один из них, уже убиенный, плавал в банке с маслом нерафинированным. Она сказала, кажется: «Ни хрена себе», – ловко вынула его из банки мизинцем и отщёлкнула в раковину на кухне.
Мои жили тогда на даче.
Каждый вечер, уезжая на электричке, я видел её ангельское лицо, опечаленное кратковременным расставанием. Она стояла на вокзальной платформе, почти касаясь стекла вагона, а я махал ей из вагона рукой – уходи, не мокни, до близкой встречи.
Уже осенью я жил у неё.
Это называется счастье.
Помните, как в знаменитом стихотворении: «Он с именем этим ложится и с именем этим встаёт»? У меня было точно так же. Я ложился и вставал с её именем.
Ссоры были, счастья не бывает без ссор.
– На хрен! Всё! Убью! Ненавижу! – говорила мне она диким голосом.
– И уйду! – отвечал ей я. – А ты найди себе монстра с пузом и волосатой грудью, который будет каждый вечер пить пиво, смотреть свой идиотский футбол и трахать тебя по праздникам раз в два года.
Потом был затяжной поцелуй и долгая постельная сцена, подробности опускаю.
Потом в октябре двухтысячного она родила мне дочь.
Потом… К чёрту «потом»! Мы живём в прошлом и настоящем и будущее делаем сами. И когда есть в доме любовь, то стоит он долго, как дерево с корнями, уходящими в землю.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































