Текст книги "Космополит. Географические фантазии"
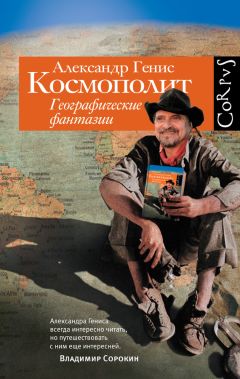
Автор книги: Александр Генис
Жанр: Книги о Путешествиях, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Болонское трио
З амерзнув в очереди, я забрался в такси, ругая весну. Ее явно не красила безнадежная черная туча, напомнившая мне стихи Мандельштама:
В Европе холодно.
В Италии темно.
– Гагарин? – вслушавшись, спросил таксист.
– Почти. Вы говорите по-русски?
– Маленько, у меня бабушка из Ворошиловграда.
– У меня тоже, – удивился я еще и потому, что только бабушки помнили, как дважды назывался Луганск.
Первая встреча оказалась прологом к знакомству с городом, который зовут «красным». «Настоящее образование, – прочел я граффити на стене старейшего в Европе университета, – можно получить только на баррикадах».
Видимо, в память о них в Болонье есть Via Stalingrad, Piazza Lenin и Viale Gagarin. После войны мэрией заправляли коммунисты, которые, как бы необычно это ни звучало, оставили после себя добрую память и цементные новостройки «рвотного», по мнению эстетов, цвета. Но центр остался самим собой: версты крытых аркад, отделяющих стены от мостовой и превращающих улицы в коридоры. Идя по ним, никак не поймешь, внутри ты или снаружи. Источая коммунальное тепло и укрывая от дождя, Болонья с первого шага впускает в уютное нутро странника, позволяя ему почувствовать себя дома, особенно русским и на пьяцце Маджоре.
Ленивый любитель итальянской истории знает, что ее исчерпывают гвельфы и гибеллины. Первые – купцы – были за Папу, вторые – аристократы – поддерживали императора. Поселения одних от городов других можно отличить даже издалека: острые башни замков выдают гибеллинов, круглые купола церквей – гвельфов.
Как, однако, задумался я, назвать город, центральную площадь которого недвусмысленно захватил кремль?
Знакомые по букварю ласточкины хвосты крепостной стены выдавали почерк строителя Фиорованти. Болонья для него была примеркой Москвы. Кроме кремля, ничего похожего, ибо на главной площади здесь всегда дурачатся. Больше всего – выпускники. Они узнавались по свите и лавровому венку, которым завершается учеба. Ряженые и хохочущие, дипломники пели куплеты, плясали джигу и задирали прохожих – как будто Ромео с Меркуцио по-прежнему живут в недалекой Вероне. В определенном смысле, так оно и есть.
Секрет успешного путешествия заключается в том, чтобы выбрать себе эпоху по вкусу. В Италии меню эпох – самое длинное, и мы пользуемся этим краем точно так, как даже не побывавший здесь Шекспир: в Риме ищем античность, в Италии – Ренессанс.
Если присмотреться, он тут и впрямь никогда не кончался. Надо только скосить глаза и приехать вовремя – в мертвый сезон, – когда вместо туристов из домов высыпают местные. Отвоеванный от приезжих город пирует и наряжается, ни в чем себе не отказывая, особенно, как и тогда, – мужчины. Теперь они щеголяют не разноцветными штанами с выдающимися гульфиками, а намыленными коками и гребнями, выстриженными в пилотку. Самые сложные прически носят либо малорослые, либо в прыщах, либо малорослые и в прыщах. За одним, в бигуди, я подсматривал в парикмахерской, где он сушил голову, прикрывшись от позора журналом с подозрительно откровенной дамой на обложке. Алиби, подумал я, но вспомнил, что согласно старой статистике в Италии гомосексуализма нет. В соседней Флоренции за это сжигали.
В воскресенье болонские улицы брызжут праздником – не на продажу, а для своих. Стойки с мороженым, которое, как в Москве, едят невзирая на погоду. Бродячие музыканты с причудливым набором инструментов (меня покорила «Травиата» на тубе). Студенческие шествия с вымпелами любимой команды. А для серьезных, цитирующих Цицерона и Макиавелли, – дискуссии на площадях: Берлускони, как отделаться от юга, куда деть эмигрантов, русские, немцы, евро, опять Берлускони. Говорят подолгу, по очереди, встав на принесенную из дома скамеечку, с риторическими паузами и ладными жестами. Одним словом – форум, другим – опера. О чем бы ни шла речь, она делится на арии и речитатив, хор и солистов. Неудивительно, что только в Италии опера – массовое искусство, как кофе, футбол и пасео. Попав в эту предвечернюю прогулку, я медленно, наслаждаясь демонстративным бездельем, бродил взад-вперед, делая вид, что не отличаюсь от местных, пока не захотелось есть.
В дальних странах, включая Россию, я люблю обедать с местными славистками, несмотря на то что все они начинали с Достоевского и кончали Петрушевской. В этом отношении Сандра ничем не выделялась. От других ее выгодно отличало то, что она постоянно сбивалась с филологии на гастрономию.
– Одни, – оправдывалась она, – называют Болонью «красной», другие – «ученой», но мы зовем ее «la grassa» – «жирной»: здесь готовят вкусней, чем во всей Италии. Конечно, в тосканской Лукке лучше оливковое масло, а на Сицилии – вода для кофе, зато у нас сохранилась ренессансная кухня. Скажем, любимая колбаса Лукреции Борджиа.
– С ядом? – ахнул я.
– Сплетни историков, – отрезала Сандра, накладывая в мою тарелку бурый фарш, – ее год сушат, четыре часа варят в красном вине и никуда не вывозят.
За колбасой шли крупные пельмени с тыквой, паштет из мортаделлы, сало от пармской ветчины, поджаренные на прутике сардинята и толстые угри из устья По. Наконец двое официантов вкатили поднос с царицей крестьянского застолья – «болито мисто». Груду вареной говядины, языка и курятины венчала кишка, начиненная свиньей.
– Никогда не спрашивайте, из чего делают колбасу и законы, – пресекла мое любопытство Сандра, и мы перевели разговор на соседей.
Как все счастливые страны, Италия, на радость себе и туристам оставшись глубоко провинциальной, так и не срослась в одну державу.
– Когда Гарибальди кричал «За Италию», – говорит Сандра, – народ подхватывал, думая, что так зовут любовницу героя. С тех пор мало что изменилось. Типичные итальянцы существуют только за границей и в плохом кино. Дома мы все разные.
– Даже в одной провинции?
– Конечно. Наша, например, называется Эмилия-Романья, ибо делится на две. Из второй выходят прижимистые хозяева, из первой – гордые профессора, и я не знаю, – вздохнула Сандра, – кто хуже. Главное, что у тех и других есть родичи в деревне, где только и умеют готовить.
– А что дальше? – подбил я ее расширить географию.
– Тосканцы – соль нашей земли, жаль, что из них выветрилась душа. Римляне – гордецы, которые всегда помнят, кем они были, даже когда они никем не были. Венецианцы, впрочем, не лучше: им свойственно высокомерие.
– Даже в тюрьме, – поддакнул я, вспомнив жившего в Нью-Йорке жуликоватого потомка дожей. – А Неаполь? Красиво?
– Трудно заметить, надо под ноги смотреть, чтобы на шприц не наступить.
– Так где же хорошо?
– Всюду, – легко заключила Сандра, и мы перешли к ликеру «Ночино», который годами настаивают в скорлупках грецких орехов.
Каждый итальянский город знал свою лучшую пору, когда он выходил на сцену, чтобы блистать на ней всеми красками апеннинской цивилизации. Обычно это случалось в особо удавшемся здешней истории XV веке.
Мир тогда казался новым, война – шахматами, и все, как сегодня, рвались в Италию. Разобранная по маленьким княжествам, она, как Греция времен Перикла, а Германия – Гёте, пестовала науки, кормила муз и увлекалась любовью. Каждая княжеская семья держала художников при себе, врагов – в казематах, поэтов – на жалованье. Окружив себя музыкой и стихами, ренессансные князья вели столь живописный образ жизни, что после смерти попали не в музей, а в оперу. Они даже с трудом помещались в своих карликовых владениях. Как это случилось с гордой династией д’Эсте в камерной Ферраре, не просыпавшейся с того самого XV столетия.
Болонья – исключение. Ее звездный час пробил в XVII веке, когда здесь основали первую, и самую знаменитую, Академию искусств. Успех ее три века отравлял живопись всех стран и народов.
Кошмар, как и сейчас, начался с того, что Болонская школа открыла постмодернизм. Пророк Академии Гвидо Рени, решив, что шедевры Возрождения не переплюнешь, поставил перед художником другую задачу. «Подражать, – учил он, – следует не природе, а картинам других мастеров, взяв у каждого именно то, что ему больше удавалось».
Такая собранная – или содранная – у гениев живопись веками привлекала паломников и считалась образцовой при всех дворах: от Людовиков до Сталина. Сегодня она вызывает бешеную скуку.
В болонском Музее изящных искусств я увидел, с чего оно, искусство, началось и как умерло. В первых залах – распятия варварского романского стиля. На кресте Христос висит зигзагом, из ран его течет деревянная кровь, конечности – декоративны, лицо – экспрессивно, страдания – условны, эффект – неотразимый. Век спустя – круглоголовые святые Джотто, крепко стоящие на своей земле. Тут же спасенные из разрушенных церквей фрески треченто. От «Тайной вечери» сохранился зеленоватый Иуда с кошельком и златовласый Иоанн. Больше других повезло все тому же волшебному XV веку. На стенах музея – остатки чужого праздника. Балюстрады, сады, дамы, кавалеры, питавшие Моцарта, Гофмана и Пушкина. Даже война здесь как в утопическом романе. Рыцарь в ладье поджигает вражеский флот, направляя зеркальным щитом солнечные лучи на деревянные корабли. Гиперболоид инженера Гарина, только намного красивее.
Расставшись с залом, как со сном, в котором летаешь, я вступил в чертог академического апофеоза. Совершенные тела, мелодраматические сюжеты, холсты до потолка – и ни одного зрителя. Дальше можно не смотреть, если б не Моранди.
Прежде чем углубляться в его картины, Умберто Эко советовал навестить дом художника, который тот покидал только летом. Замыкающая старую часть Болоньи узкая улица уставлена одинаковыми домами слегка варьирующейся окраски: сиена – охра – умбра. Вибрация земляных оттенков разбивает монотонность невзыскательной архитектурной шеренги лишь настолько, насколько необходимо, чтобы тянуть ее мотив.
Родившийся в стране и веке, пережившем искусство, Моранди констатировал этот факт. Слава первого (после мэтров Возрождения) художника Италии не могла выбрать менее подходящую жертву. Его ценили все, начиная с Муссолини и кончая Обамой, повесившим две картины в Белом доме. Живопись Моранди цитировали в своих фильмах Феллини и Антониони. О нем писали стихи и романы. Моранди было все равно.
Когда наконец разбогатевшему художнику пришла пора, как всем зажиточным болонцам, строить дачу в горах, архитектор, трепеща перед знаменитым заказчиком, принес блестящий проект. Вместо него Моранди нарисовал на листке квадрат с треугольником крыши. Подумав, добавил дверь и четыре окна. Таким этот дом и стоит – проще не бывает.
В перенасыщенной искусством Италии лишь простота позволила выжить художнику. Моранди никогда не писал портретов, пейзажи – редко и только летом. Все, что он мог сказать, выражали натюрморты, обычно – из бутылок.
Пустая бутылка – странная вещь: она продолжает жить, исчерпав свое назначение. «Дерсу Узала, – писал Арсеньев, – отказался стрелять в бутылку, не понимая, как можно разбить такую ценную вещь».
Моранди тоже ценил бутылки и запрещал с них стирать пыль.
«Она у него поет», – сказал тот же Умберто Эко, и я понимаю, что он имеет в виду, потому что пыль позволяет увидеть, как на стекле оседает время.
К тому же бутылки – маленькая голова и широкое, как в юбке, тело – заменяли художнику мадонн его национальной традиции. Уважая предшественников больше всех, кто им подражал, Моранди вел искусство вспять – к нулевому уровню. Вслед за Галилеем из недалекой Падуи, Моранди искал геометрию в природе. Ради нее он разбирал реальность на простые, как у бутылок, формы. Своими любимыми художниками он называл Пьеро делла Франческа, Сезанна, Пикассо, Мондриана, но был строже их всех. На его картинах, где две-три бутылки едва танцуют со светом, даже лаконизм был бы излишеством.
Треть века я приезжаю в Италию, но только в болонском музее Моранди мне удалось увидеть, чем она кончается.
Галльские радости
ДижонВ придорожном сортире не было унитаза.
«Не Америка», – подумал я. Но стоило закрыть дверь, как из вделанного в стенку динамика раздался мелодичный шепот Азнавура, которого даже сюда транслировало парижское «Радио Ностальжи».
«Не Америка», – опять подумал я.
На самом деле тут была даже не Европа. В этой глубокой провинции Франция оставалась самой собой – страной, счастливо сдавшейся виноградникам. Решительно захватив Бургундию, они обнимали дома с погребами, тесно обступали телеграфные столбы, крепко сжимали дорогу, выкраивая лишний метр у асфальта. Лучшая лоза жила за высокой оградой. Путь к ней преграждали ворота с адресом, который до этого я встречал лишь на этикетках в той части магазина, куда забредал по ошибке.
Одни знатоки ценят в вине вкус, другие – аромат, третьи – год, и все – цену. По-моему, все это глупости. Качество вина определяется радостью и делится на стаканы. Первый служит прологом. Он отрезает день от праздника: пригубив, ты уже по ту сторону. Кто-то отпустил вожжи, и теперь время работает на тебя. С каждым глотком и минутой дух приподнимается над телом. Не отрывается, как с водкой, а неспешно парит. Второй стакан ставит дух на ноги, прибавляя языку уверенности, а сердцу благодарности. Третий включает душевность. И тут – на благодушии – пора остановиться, чтобы все повторить за ужином. Хорошо еще и то, что в Бургундии можно не разбираться, ибо трудно ошибиться, заказывая не белое, не красное, а то, что меняет сны и учит петь. Я не понимаю, как живут люди, ежедневно участвующие в этой мистерии. Еще труднее мне понять тех, кто отсюда уезжает.
Я бы не стал, хотя в этой глуши никто не говорил по-английски. В этом, собственно, не было нужды: иностранцев в городе было двое – мы с женой. Ставни закрывались в девять, фонари стояли редко, не слышно было даже телевизоров. Вечерняя улица казалась скучнее Пруста, но мне она все равно нравилась, ибо по обеим сторонам дома с обнаженными балками вываливали на тротуар брюхо. Один из них, ровесник трех мушкетеров, стоял уж совсем набекрень. За частым переплетом чердачного окошка тлел оранжевый абажур. Я бы туда переехал, но место оказалось занятым, о чем мне и сказала выглянувшая хозяйка.
– Давно вы здесь живете? – спросил я на пальцах.
– Четыреста лет, – ответила она, указав на дату, выбитую над порталом.
Эренбург считал, что даже красота не спасает французскую провинцию от скуки. «Здешние церкви, – писал он, – все равно что музей итальянской живописи в Пензе».
Мне трудно согласиться, потому что я и сам вырос вроде как в Пензе, но – с архитектурой. А с ней не бывает провинции: в старом городе каждый переулок ведет к собору, а он-то уж точно – столица.
ШартрПара разномастных шпилей кафедрального собора, как и раньше, торчали прямо из поля. Собор подавлял город, он был его центром и причиной, поэтому весь день мы не могли отойти – ни далеко, ни надолго. Погода быстро менялась, и мы постоянно забегали внутрь, полюбоваться тем, что натворила с витражами новая туча.
У каждого окна был свой сюжет – полупонятный, полузнакомый, как слова в мессе. Мы знали – о чем, и ладно. От старых мастеров не требовали подробностей: ветвь заменяла сад, плод – соблазн, череп – грех. Рассказ лепился из цвета и не зависел от действительности. Богородица любила синий. Злодеи носили желтое. Рыцари получались зелеными, кони – розовыми, неба не было вовсе.
Каждый витраж в церкви безошибочно балансировал между рассказом и декорацией. Смысл и красота складывались в подвижную гармонию. Любой луч менял состав, но всегда к лучшему. Цветной воздух дрожал в соборе, выжимая последние фотоны из заходящего солнца. Когда оно исчезло, заиграл орган. Сперва я даже не заметил инструмента, да и теперь он терялся в каменных зарослях, но звук нельзя было не узнать: токката и фуга ре минор. В триллерах ее играют свихнувшиеся монстры, здесь она была на месте.
Романтики сравнивали средневековые соборы с лесом, с кружевами, с симфонией, мы, как все умное и сложное, – с компьютером. Чтобы он заработал, в него надо было загрузить программу. Бах писал лучшие из них. Они создавали резонанс музыки с архитектурой, поднимая душу к сводам.
Чтобы все это возникло, не нужен Бог, достаточно было в него верить, и этому помогали мощи. Они питали собор чудотворной энергией, которую мы, путая форму с содержанием, не умеем ощутить. И зря. Ведь плоть святого, его кость или прядь, убеждала прихожан в том, что вся эта дикая история – правда. Мощи служили залогом обещанного бессмертия. Трудно понять? А вы посмотрите на Итигэлова. Как легко нетленный труп бурятского ламы внушил XXI веку те же надежды, что и XIII.
Выйдя наконец наружу, мы повстречали на площади клоуна, на которого я не обратил внимания утром. Сейчас он показался странным. Клоун не собирал мелочь, развлекая публику. Разряженный по-цирковому, он исполнял роль, учтенную средневековым благочестием. Хроники именовали ее «жонглер Господа». К вечеру, однако, он угомонился и тихо сидел на скамье с живой курицей. Между ними стояла бутылка красного.
Шамбор– Вчера мы были в гостях у Бога, – объявил я программу, – сегодня отправимся к царям.
Помня, что во французском письме слишком много лишних букв, я дважды сверился с путеводителем, набирая на клавиатуре навигатора название королевского замка: Chambord.
Путь был не близкий, но мы не торопились – воскресенье. В деревнях народа почти не было, разве что прохожий с багетом. Зато людной оказалась площадь городка, в названии которого фигурировало три дефиса. Народ валил в церковь. Увильнув от службы, мы бегло осмотрели норманнскую колокольню и поехали дальше, погоняемые столь же суровым голосом из GPS. Полагаясь на него, я не взял с собой карты, поэтому мне нечего было возразить, когда пошли уже совершенные закоулки. Сперва исчезли бензоколонки, потом улицы, затем дома. Зато на сжатых полях появились люди с палками.
– Землемеры? – предположила жена.
– А псы?
Издали раздались выстрелы, собаки бросились за добычей. Чем дальше мы ехали, тем чаще встречались довольные охотники: осень, пасмурно, покойно. Когда поля сменились лесом и из чащи вышла пара в капюшонах с грузом дров для камина, я вспомнил, что уже видел такое у Брейгеля – «Рубка сучьев».
Дорога, однако, неуклонно сужалась. Исчезла разделительная полоса, обочина, даже – канава. Мы ехали по лесу, и ветви цеплялись за фары. Но навигатор уверенно сокращал расстояние до цели, а когда жена выражала озабоченность, я отвлекал ее сведениями из ученой монографии, проштудированной до отъезда.
– В Шамборе, – говорил я, – четыреста комнат и сокровищ без счету. Франциск Первый считался законодателем мод, и кавалеры носили на танцах составные шелковые шоссы цвета крамуази.
– Крамуази, – завороженно повторила жена, но все испортила чайка. Ей нечего было делать вдали от трех морей, в самом центре Франции.
– Перелетная, – объявил я с лживой уверенностью, но со мной уже не разговаривали.
Между тем, как торжественно объявил навигатор, мы достигли места своего назначения. В любом случае дальше ехать было некуда, потому что тропа обрывалась в болоте. Из него высовывался невысокий столбик с названием Chambord. Буквы совпадали, но замком не пахло.
– Нечто похожее королю Артуру устроила Фата-Моргана, – попытался я разрядить обстановку, но она не разряжалась. Тогда я вылез из-за руля и отправился за помощью в единственное строение, составлявшее Шамбор. Оно напоминало изрядный курятник и являлось, если верить вывеске, мэрией. Во дворе стоял старик с вилами. Он с таким восторгом смотрел в нашу сторону, что у меня зародилось подозрение: иностранцев здесь не было с войны.
– Шамбор? – спросил я его по-французски.
– Шамбор, – согласился он.
– Шато? – продолжил я беседу.
– Сhâteau?! – с восхищением переспросил он и пошел за женой.
Когда мы разворачивались, они все еще хохотали. Только выбравшись на шоссе, мы узнали, что уехали от замка на триста километров к северу. Зато до Гавра – рукой подать.
– Хорошо хоть в Англию не проскочили, – робко пошутил я, не рассчитывая на ответ. Навигатора тоже никто не слушал. Благодаря ему я узнал, что во Франции есть два очень разных Шамбора, хоть и пишутся они одинаково. Хорошо еще, что на обратном пути у нас было вдоволь времени, чтобы решить, какой из них – настоящий.
Форс-мажорДрузья решили, что я нарочно.
– В Париже? – сказали в трубку. – В апреле? Что же ты там делаешь? Посыпаешь голову пеплом?
– Почти, – ответил я на сарказм, ибо возразить было нечего.
На Елисейских полях зацвели каштаны, и городское небо залила весенняя лазурь, которую не портили самолетные выхлопы. Столь безмятежной я видел атмосферу лишь однажды – 11 сентября, когда в Америке отменили авиацию. Но сейчас все было по-другому: в городе царил почти праздничный хаос.
Вулкан – не террор, вулкан – форс-мажор, препятствие непреодолимое, но законное, в котором винить некого и не хочется. В извержении нет унизительной беспомощности. Природа – достойный соперник, перед которым не стыдно склониться. Мы, конечно, ее покорили, но не всю, не везде, не всегда и ненадолго. Кроме того, вулкан идет Парижу. Жюль Верн был ими одержим и вставлял чуть не в каждый роман. Последний вызов прогрессу, вулкан у него – явление грозное, великолепное, сверхъестественное, но земное, вроде Наполеона или башни Эйфеля.
Туристы, во всяком случае, переносили бедствие стоически. Особенно американские. Наземный транспорт им не светил, и в ожидании лётной погоды они перебирались по городу с чемоданами, не переставая фотографировать и жевать. С официантами американцы говорят по-французски, даже если им отвечают по-английски. По-английски они могли и дома, а сюда собирались всю жизнь. Как известно, после смерти праведные американцы попадают в Париж, а тут они – мы – в нем еще и застряли.
Стихия отключила обычный – ненормальный – распорядок жизни. Внезапно ты выпал из расписания, и появилась возможность сделать все, что откладывалось до следующей жизни. Теперь можно сходить в Лувр – дважды, послушать Рамо в церкви Мадлен, купить на базаре клубники, проведать Пиаф на кладбище Пер-Лашез, смотаться на блошиный рынок, устроить пикник в Булонском лесу, а главное – бродить по городу до ломоты в ступнях и немоты в коленях.
Парижа не бывает много, потому что он построен клином. Каждый бульвар кончается торцом и смотрит в три четверти. Прямой, но не скучный город кажется воплощением вкусной жизни, воплотившейся в роскоши доходного дома. Довольный собой и окружающим, у меня он вызывает зависть и неприязнь к современности. Иногда мне кажется разумным отменить за ненадобностью целые отрасли искусств – живопись, писание романов, архитектуру. Лучше, чем тогда, все равно не сделают.
– «Париж, – написал Вальтер Беньямин, – столица 19-го столетия».
Фокус, однако, в том, что тут оно так и не кончилось. Если Рим – вечный город, то Париж – вчерашний. XX век пронесся над ним, еле задев. В Первую мировую войну парижане обходились без круассанов, во Вторую – без отопления. Чтобы согреться, Сартр писал в кафе, теперь здесь целуются – даже американцы.
Внезапно над Монмартром образовалась туча, и стало хлестать.
– В дождь, – трусливо сказал я, – Париж расцветает, как серая роза.
– Лучше бы ты взял зонтик, – хмуро ответила жена.
Но зонтики, специально купленные от апрельских дождей титановые зонтики, дожидались нас в отеле, и мы спрятались под карниз. Когда небо расчистилось, в нем показался первый за всю неделю самолет. Пауза, похоже, кончилась.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































