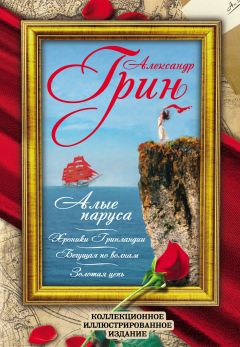
Автор книги: Александр Грин
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 46 страниц)
Так повторилось раз, два, три – десять; причинами внезапной тоски служили, как я заметил, такие разнообразные обстоятельства, настолько иной раз противоречащие самому понятию «тоска», что я не мог избежать их. Чаще всего это была музыка, безразлично какая и где услышанная, – торжественная или бравурная, веселая или грустная – безразлично. В дни, предназначенные тоске, один отдельный аккорд сжимал и волновал душу скорбью о невспоминаемом, о некоем другом времени. Так я объясняю это теперь, но тогда, изумляясь тягостному своему состоянию, я, минуя всякие объяснения, спешил к вину и разгулу – истребителю меланхолии, возвращая часами ночного возбуждения прежнюю безмятежность.
Я стал определенно и нескрываемо равнодушен к Визи. Ее все более редкие попытки вернуть прежние отношения оканчивались ничем. Я стал бессознательно говорить с ней как посторонний, чужой, нетерпеливый, но вежливый человек. Холодом взаимного напряжения полны были наши разговоры и встречи, – именно встречи, так как я не бывал дома по два и по три дня, ночуя у случайных знакомых, которых развелось изобилие. То были конюхи, фонарщики, газетчики, прачки, кузнецы, воры, солдаты, лавочники… Казалось, все профессии участвовали в моих скитаниях по Хераму в дни описанного выше, безысходного, тоскливого состояния. Мне нравился разговор этих людей: простой, грубо-толковый, лишенный двусмысленности и н а д р ы в а, он предлагал вниманию факты в безусловном, так сказать, арифметическом их значении: «раз, два… четыре, одиннадцать, – случилось столько-то случаев таких-то, так и должно быть». Я радостно перевел бы нить своего разговора в описание поступков моих, но поступков, характернее и значительнее приведенных выше, не было и не могло быть. Удивительное чувство порядка, законченности всего, стало, за исключением дней тоски, нормальным для меня состоянием, отрицающим в силу этого всякий позыв к деятельности.
Доктор, противу ожидания моего, появился-таки в нашей квартире, он был расторопен и вежлив, весел и оживлен. Он сделал мне множество предложений, как хитрый медик – замаскированно-медицинского свойства: прогулку на раскопки, охоту, лыжный спорт, участие в музыкальном кружке, в астрономическом кружке, наконец, предложил заняться авиацией, токарным ремеслом, шахматами и собеседованиями на религиозные темы; я слушал его внимательно, промолчал на все это и попрощался так сухо, что он не приходил более. После этого я сказал Визи:
– От чего хочешь ты меня лечить?
– Я хочу только, чтобы ты не скучал, – глухо произнесла она таким усталым, невольно сказавшим более, чем хотела, голосом, что я внутренне потускнел. Но это продолжалось мгновение. Я звонко расхохотался.
– Ты, ты не скучай, Визи! – сказал я. – А мне скучно не может быть – слышишь?! Я, право, не узнаю себя. Какое веселье, какая скука? Нет у меня ни этого, ни другого. Ну и просто – я всем доволен! Чего же еще? Я мог бы быть доктором этому доктору, если уж так говорить, Визи.
– Мы не понимаем друг друга, Галь. Ты смотришь на меня чужими глазами. Давно уж я не видела того выражения, от которого – знаешь? – хочется тихо петь или, улыбаясь, молчать… Наш разговор оборвался… мы вели его словами и сердцем…
– Мне странно слышать это, – сказал я, – быть может, ранее чрезмерная возбудимость…
Но я не докончил. Я хотел добавить… «нравилась тебе», – и вдруг, как прихлопнутый глухой крышкой, резко почувствовал себя настолько чужим самому себе, что проникся величайшим отвращением к этой попытке завернуть в прошлое.
– Как-нибудь мы поговорим об этом в другой раз, – трусливо сказал я, – меня расстраивают эти разговоры. – Мне нестерпимо хотелось уйти. Слова Визи безнадежно и безрезультатно напрягали мою душу, она начинала терзаться, как немой, которому необходимо сказать что-то сложное и решающее. Я молчал.
– Уходи, если хочешь, – печально сказала Визи, – я лягу спать.
– Вот именно, я хотел прогуляться, – заявил я, быстро беря шляпу и целуя ее руку с тайной благодарностью, – но я скоро вернусь.
– Скоро?.. А «Метеор» снова просит статью.
Я улыбнулся и вышел. Давно уже когда-то нежно любимая работа отталкивала меня сложностью второй жизни, переживаемой в ней. Покойно, отойдя в сторону от всего, чувствовал я себя теперь, погрузившись в тишину теплого, с ы т о г о вечера, как будто вечер, подобно живому существу, плотно поев чего-то, благодушно задремал. Но, конечно, это я шел с с ы т о й душой, и шел в таком состоянии долго, пока, взглянув вверх, не увидел среди других яркую, торжественно высящуюся звезду. Что было в ней скорбного? Каким голосом и на чей призыв ответило тонким лучам звезды все мое существо, тронутое глубоким волнением при виде необъятной пустыни мира? Я не знаю… Знакомая причудливая тоска сразила меня. Я ускорил шаги и через некоторое время сидел уже в дымном воздухе «Веселенького гусара», слушая успокоительную беседу о трех мерах дров, проданных с барышом.
VIЗима умерла. Весна столкнула ее голой, розовой и дерзкой ногой в сырые овраги, где, лежа ничком в виде мертвенно-белых обтаявших пластов снега, старуха дышала еще в последней агонии холодным паром, но слабо и безнадежно. Солнце окуривало землю запахом древесных почек и первых цветов. Я жил двойной жизнью. Спокойное мое состояние ничем не отличалось от зимних дней, но приступы тоски стали повторяться чаще, иногда по самому ничтожному поводу. По окончании их я становился вновь удивительно уравновешенным человеком, спокойным, недалеким, ни на что не жалующимся и ничего не желающим. Иногда, сидя с Визи, я видел ее как бы вдали, настолько вдали, что ожидал, если она заговорит, не услышать ее голоса. Мы разговаривали мало, редко и всегда только о том, о чем хотел говорить я, т. е. о незамысловатых и маловажных вещах.
Был поздний вечер, когда в трактир «Веселенького гусара» посыльный доставил мне письмо с надписью на свежезаклеенном конверте: «Г Марку от Визи». Пьяный, но не настолько, чтобы утратить способность читать, я раскрыл конверт с сильным любопытством з р и т е л я, как если бы присутствовал при чтении письма человеком посторонним мне – другому, тоже постороннему. Некоторое время строки письма шевелились, как живые, под моим неверным и возбужденным взглядом; преодолев это неудобство, я прочитал:
«Милый, мне очень тяжело писать тебе последнее, совсем последнее письмо, но я больше не в силах жить так, как живу теперь. Несчастье изменило тебя. Ты, может быть, и не замечаешь, как резко переменился, какими чужими и далекими стали мы друг другу. Всю зиму я ждала, что наше хорошее, чудесное прошлое вернется, но этого не случилось. У меня нет сознания, что я поступаю жестоко, оставляя тебя. Ты не тот, прежний, внимательный, осторожный, большой и чуткий Галь, какого я знала. Господь с тобой! Я не знаю, что произошло с твоей бедной душой. Но жить так дальше, прости меня, – не могу! Я подробно написала о всем издателю „Метеора“, он обещал назначить тебе жалованье, которое ты и будешь получать, пока не сможешь снова начать работать. Прощай. Я уезжаю; прощай и не ищи меня. Мы больше не увидимся никогда.
Визи».
– «Визи», – повторил я вслух, складывая письмо. В этот момент, роняя прыгающий мотив среди обильно политых вином столиков, взвизгнула скрипка наемного музыканта, обслуживавшего компанию кочегаров, и я заметил, что музыка п о д ч е р к и в а е т письмо, делая трактир и его посетителей с в о и м и, отдельными от меня и письма; – я стал одинок и, как бы не вставая еще с места, вышел уже из этого помещения.
Встревоженный неожиданностью, самым фактом неожиданности, безотносительно к его содержанию, осилить которое было мне еще не дано, я поехал домой с ясным предчувствием тишины, ожидающей меня там, – тишины и отсутствия Визи. Я ехал, думая только об этом. Неизвестно почему, я ожидал, что встречу дома вещи более значительные, чем письмо, что произойдут некие разъяснения случившегося. Содержание письма, логически вполне ясное, – внутренно отвергалось мной, в силу того что я не мог представить себя на месте Визи. Вообще же, помимо глухой тревоги, вызванной впечатлением резкого обрыва привычных и ожидаемых положений, я не испытывал ничего ярко горестного, такого, что сразу потрясло бы меня, однако сердце билось сильнее и путь к дому показался не близким.
Я позвонил. Открыла прислуга, меланхолическая, пожилая женщина; глаза ее остановились на мне с каменной осторожностью.
– Барыня дома? – спросил я, хотя слышал тишину комнат и задумчивый стук часов и видел, что шляпы и пальто Визи нет.
– Они уехали, – тихо сказала женщина, – уехали в восемь часов. Вам подать ужин?
– Нет, – сказал я, направляясь к темному кабинету, и, постояв там во тьме у блестящего уличным фонарем окна, зажег свечу, затем перечитал письмо и сел, думая о Визи. Она представилась мне едущей в вагоне, в пароходной каюте, в карете – удаляющейся от меня по прямой линии; она сидела, я видел только ее затылок и спину и даже, хотя слабо, линию щеки, но не мог увидеть лица. Мысленно, но со всей яркостью действительного прикосновения я взял ее голову, пытаясь повернуть к себе; воображение отказывалось закончить этот поступок, и я по-прежнему не видел ее лица. Тоскливое желание заглянуть в ее лицо некоторое время не давало мне покоя, затем, устав, я склонился над столом в неопределенной печальной скуке, лишенной каких бы то ни было размышлений.
Не знаю, долго ли просидел я так, пока звук чего-то упавшего к ногам, не заставил меня нагнуться. Это был ключ от письменного стола, упавший из-под моего локтя. Я нагнулся, поднял ключ, подумал и открыл средний ящик, рассчитывая найти что-то, имеющее, быть может, отношение к Визи, – неопределенный поступок, вытекающий, скорее, из потребности действия, чем из оснований разумных.
В ящике я нашел много писем, к которым в эти минуты не чувствовал никакого интереса, различные мелкие предметы: сломанные карандаши, палочки сюргуча, несколько разрозненных запонок, резинку и пачку газетных вырезок, перевязанную шнурком. То были статьи из «Вестника» и «Метеора» за прошлый год. Я развязал пачку, повинуясь окрепшему за последний час стремлению держать сознание в связи со всем, имеющим отношение к Визи. Статьи эти вырезывала и собирала она, на случай, если бы я захотел издать их отдельной книгой.
Я развязал пачку, просматривая заглавия, вспоминая обстоятельства, при которых была написана та или иная вещь и даже, приблизительно, скелетное содержание статей, но далекий от восстановления, так сказать, а т м о с ф е р ы с о з н а н и я, характера настроения, облекавших работу. От заглавий я перешел к тексту, пробегая его с равнодушным недоумением, – все написанное казалось отражением чуждого ума и отражением бесцельным, так как вопросы, трактованные здесь, как-то: война, религия, критика, театр и т. д., – трогали меня не больше, чем снег, выпавший, примерно, в Австралии.
Так, просматривая и перебирая пачку, я натолкнулся на статью, озаглавленную: «Ценность страдания», статью, написанную приемом сильных контрастов и в свое время наделавшую немало шума. В противность прежде прочтенному, некоторые выражения этой статьи остановили мое внимание, в особенности одно: «Люди с так называемой “душой нараспашку” лишены острой и блаженной сосредоточенности молчания; не задерживаясь, без тонкой силы внутреннего напряжения, врываются в их душу и без остатка покидают ее те чувства, которые, будучи задержаны в выражении, могли бы стать ценным и глубоким переживанием». Я прочитал это два раза, томясь вспомнить, какое, в связи с Визи, обстоятельство родило эту фразу, и, с неожиданной, внутренно толкнувшей отчетливостью, вспомнил! – так ясно, так проникновенно и жадно, что встал в волнении чрезвычайном, почти болезненном. Это сопровождалось заметным ощущением простора, галлюцинаторным представлением того, что стены и потолок как бы приобрели большую высоту. Я вспомнил, что в прошлом году, летом, подошел к Визи с невыразимо ярким приливом нежности, могущественно требовавшим выхода, но, подойдя, сел и не сказал ничего, ясно представив, что чувство, исхищен-ное словами, в неверности и условности нашего языка, оставит терпкое сознание недосказанности и, конечно, никак уже не выразимого словами, п р и н и ж е н н о г о экстаза. Мы долго молчали, но я, глядя в улыбающиеся глаза Визи, вполне понимавшей меня, был очень, бескрайно полон ею и своим сжатым волнением. После того я написал вышеприведенное рассуждение.
Я вспомнил это живо и сердцем, а не механически, – мне не сиделось, я прошелся по кабинету, в углу лежал скомканный лист бумаги, я поднял его, развернул и, с изумлением, чуждым еще догадкам, увидел, что лист, не вполне дописанный красивым, мелким почерком Визи, был не чем иным, как неоконченной, но разработанной уже в значительной степени моей статьей, с заголовком: «Ртутные рудники Херама», статья Г. Марка. Я никогда не писал этой статьи и не диктовал ее никому, я ничего не писал. Я прочел написанное со вниманием преступника, читающего копию приговора. Живое, интересное и оригинальное изложение, способность охватить ряд явлений в немногих словах, выделение главного из массы несущественного и, как аромат цветка, свойственные только женщинам, свои, никогда не приходящие нам в голову слова, очень простые и всем известные, с несколько интимным оттенком, например: «совсем просто», «замечательно хорошие», «как взглянуть» – делали написанное прекрасной работой. «Статья Г. Марка», – снова прочел я… и стало мне в невольных, неудержимых, тяжких слезах спасительно резкой скорби – ясным все.
Я сидел неподвижно, пытаясь овладеть положением. «Я никогда больше не увижу ее», – сказал я, проникаясь, под впечатлением тревоги и растерянности, особым вниманием к слову «никогда». Оно выражало запрет, тайну, насилие, и тысячу причин своего появления. Весь «я» был собран в этом одном слове. Я сам, своей жизнью вызвал его, тщательно обеспечив ему живучесть, силу и неотразимость, а Визи оставалось только произнести его письменно, чтобы, вспыхнув черным огнем, стало оно моим законом, и законом неумолимым. Я представил себя прожившим миллионы столетий, механически обыскивающим земной шар в поисках Визи, уже зная на нем каждый вершок воды и материка, – механически, как рука шарит в пустом кармане потерянную монету, вспоминая, скорее, ее прикосновение, чем надеясь произвести чудо, и видел, что «никогда» смеется даже над бесконечностью.
Я думал теперь упорно, как раненый, пытающийся с замиранием сердца предугадать глубину ранения, сгоряча еще не очень чувствительного, но отраженного в инстинкте страхом и возмущением. Я хотел видеть Визи и видеть возможно скорее, чтобы ее присутствием ощупать свою рану, но это черное «никогда» поистине захватывало дыхание, и я бездействовал, пока взгляд мой не упал снова на не оконченную Визи статью. Мучительное представление об ее тайной, тихой работе, об ее стараниях путем длительного и возвышенного подлога скрыть от других мое духовное омертвение было ярким до нестерпимости. Я вспомнил ее улыбку, походку, голос, движения, наклон головы, ее фигуру в свете и в сумерках, – во всем этом, так драгоценном теперь, не сквозило никогда даже намека на то, что она делала для меня. Долго молчаливая любовь возвращалась ко мне, но как! И с какими надеждами! – с меньшими, чем у смертельно больного, еще дышащего, но думающего только о смерти.
Я встал, прислушиваясь к себе и размышляя к а к прежде: отчетливо собирая вокруг каждой мысли толпу созвучных ей представлений, со всем ее оглушительным эхом в далях сознания. Я видел, что встряхиваюсь и освобождаюсь от с н а. Я встал с единственным, неотложным решением отыскать Визи, спокойно зная, что отныне, с этого мгновения увидеть ее становится единственной целью жизни. Насколько вообще всякое решение приносит спокойствие, настолько я получил его, приняв т а к о е решение, но спокойствие подобного рода охотно променял бы на любую унизительнейшую из пыток.
Белое, еще бессолнечное утро открыло за бледно-голубым окном пустую, тихую улицу. Я вышел, направляясь к озерной пристани. Я хотел верить, что Визи предварительно поехала в Зурбаган. По моим расчетам, она не могла миновать этот город, так как в нем жили ее родственники. На тот случай, если бы я уже не застал ее в Зурбагане и лица, посвященные в ее тайну, отказались указать мне адрес, – я с чрезвычайным, но полным любви ожесточением решил достичь цели непрерывным упорством, хотя бы пришлось пустить для этого в ход все средства, возможные на земле.
Подойдя к пристани, я увидел низкое над обширной водой солнце, далекие туманные берега и небольшой пароход «Приз», тот самый, который увозил нас в прошлом году в Херам. Со стесненным сердцем смотрел я на его корпус, трубу в белых кольцах, мачты и рубку, – он был для меня живым т р е т ь и м, помнившим присутствие Визи и как бы навек связанным со мной этим общим воспоминанием.
На пристани почти никого не было, – бродила спокойная худая собака, обнюхивая различный сор, да в дальнем конце мола медленно переходил с места на место ранний удильщик, высматривая неизвестное мне удобство. У конторы я взглянул в прибитое к стене расписание: «Приз» отходил в десять часов утра, а перед этим, вчера, вышел тем же рейсом «Бабун», в одиннадцать сорок минут вечера. Только «Бабун» мог увезти Визи. Это немного развеселило меня; нас разделяло часов двенадцать пути, – срок, за который Визи едва ли смогла уехать из Зурбагана далее, если даже она и опасалась, что я стану ее разыскивать. Я тщательно разобрал этот вопрос и с горестью заключил, что она могла не бояться встретить меня, все поведение мое должно было убедить ее в том, что я вздохну облегченно, оставшись один. Несмотря на стыд, это прибавило мне надежды застигнуть Визи врасплох, хотя в хорошем исходе свидания я далеко не был уверен. Предупреждая события, я вызывал болезненно напряженной душой призраки и голоса встречи, варьируя их в множестве оттенков и положений, и, мысленно волнуясь, говорил с Визи, рассказывал все мелочи своего потрясения.
Когда солнце поднялось выше и гул ранней работы огласил гавань, я засел в ближайшей кофейне, где просидел до первого свистка. Когда пароход двинулся, вспахав прозрачную воду озера прямой линией кипящей у кормы пены, я долго смотрел на собранные теперь в одну длинную кучу крыши Херама с чувством неудовлетворенного любопытства. Характер и дух города остались мне неизвестными, как если бы я никогда в нем не жил; так произошло потому, что я временно ослеп для многих вещей, понятных изощренной душе и не уловимых ограниченным, скользящим вниманием. Но скоро я спустился в каюту, где, против воли, совершенно измученный событиями прошедшей ночи, я заснул. Проснулся я в темноте, тревоге и ропоте монотонно шумливых волн, поплескивающих о борт. Тоска, страх за будущее, одиночество, тьма – делали неподвижность невыносимой. Я закурил и вышел на палубу.
По-видимому, был глухой, поздний час ночи, так как в пустоте неверного света мачтовых фонарей я увидел только один, почти слившийся с бортом и мраком озера, силуэт женщины. Она стояла спиной ко мне, облокотившись на планшир. Мне хотелось поговорить, рассеяться; я подошел и сказал негромко, в тон глухой ночи: «Если вам тоже, как и мне, не спится, сударыня, поговорим о чем-нибудь полчаса. Обычное право путешественников…»
Но я не договорил. Женщина выпрямилась, повернулась ко мне, и в полусвете падающих сверху лучей я узнал Визи… Ни верить этому, ни отрицать этого я не смел в первое мгновенье, показавшееся концом всего, полным обрывом жизни. Но тут же, отстраняя гнетущую силу потрясения, вспыхнул такой радостью, что как бы закричал, хотя не мог еще произнести ни слова, ни звука и стоял молча, совершенно расколотый неожиданностью. Милое, нестерпимо милое лицо Визи смотрело на меня с грустным испугом. Я сказал только:
– Это ты, Визи?
– Я, милый, – устало произнесла она.
– О, Визи… – начал я было, но слезы и безвыходное смятение мешали сказать что-нибудь в нескольких исчерпывающих словах. – Я ведь опять тот, – выговорил я наконец с чрезвычайным усилием, – тот, и искал тебя! Посмотри на меня ближе, побудь со мной хоть месяц, неделю, один день.
Она молчала, и я, взяв ее руку, тоже молчал, не зная, что делать и говорить дальше. Потом я услышал:
– Я очень жалею, что опоздала на вечерний пароход и что мы здесь встретились… Галь, не будет из этого ничего хорошего, поверь мне! Уйдем друг от друга.
– Хорошо, – сказал я, холодея от ее слов, – но выслушай меня раньше. Только это!
– Говори… если можешь…
В одном этом слове «можешь» я почувствовал всю глубину недоверия Визи. Мы сели.
Светало, когда я кончил рассказывать то, что написано здесь о странных месяцах моей, и в то же время непохожей на меня, жизни, и тогда Визи сделала какое-то не схваченное мною движение, и я почувствовал, что ее маленькая рука продвинулась в мой рукав. Эта немая ласка довела мое волнение до зенита, предела, едва выносимого сердцем, когда наплыв нервной силы, подобно свистящему в бешеных руках мечу, разрушает все оковы сознания. Последние тени сна оставили мозг, и я вернулся к старому аду – до конца дней.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































