Читать книгу "Фанданго (сборник)"
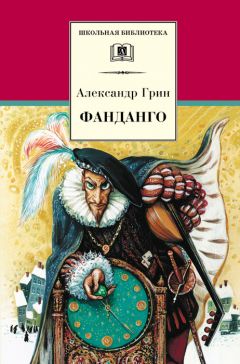
Автор книги: Александр Грин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
IX
Едва я повернул за угол, как принужден был остановиться, увидев плачущего хорошенького мальчика лет семи, с личиком, побледневшим от слез; тоскливо тер он кулачками глаза и всхлипывал. С жалостью, естественной для каждого при такой встрече, я нагнулся к нему, спросив: «Мальчик, ты откуда? Тебя бросили? Как ты попал сюда?»
Он, всхлипывая, молчал, смотря исподлобья и ужасая меня своим положением. Пусто было вокруг. Это худенькое тело дрожало, его ножки были в грязи и босы. При всем стремлении моем к месту опасности я не мог бросить ребенка, тем более что от испуга или усталости он кротко молчал, вздрагивая и ежась при каждом моем вопросе, как от угрозы. Гладя его по голове и заглядывая в его полные слез глаза, я ничего не добился; он мог только поникать головой и плакать. «Дружок, – сказал я, решась постучать куда-нибудь в дом, чтобы подобрали ребенка, – посиди здесь, я скоро приду, и мы отыщем твою негодную маму». Но, к моему удивлению, он крепко уцепился за мою руку, не выпуская ее. Было что-то в этом его усилии ничтожное и дикое; он даже сдвинулся по тротуару, крепко зажмурясь, когда я, с внезапным подозрением, рванул прочь руку. Его прекрасное личико было все сведено, стиснуто напряжением. «Эй ты! – закричал я, стремясь освободить руку. – Брось держать!» И я оттолкнул его. Не плача уже и также молча, уставил он на меня прямой взгляд черных огромных глаз; затем встал и, посмеиваясь, пошел так быстро, что я, вздрогнув, оторопел. «Кто ты?» – угрожающе закричал я. Он хихикнул и, ускоряя шаги, скрылся за углом, но я еще смотрел некоторое время по тому направлению, с чувством укушенного, затем опомнился и побежал с быстротой догоняющего трамвай. Дыхание сорвалось. Два раза я останавливался, потом шел так скоро, как мог, бежал снова и, вновь задохнувшись, несся безумным шагом, резким, как бег.
Я уже был на Конногвардейском бульваре, когда был обогнан девушкой, мельком взглянувшей на меня с выражением усилия памяти. Она хотела пробежать дальше, но я мгновенно узнал ее силой внутреннего толчка, равного восторгу спасения. Одновременно прозвучали мой окрик и ее легкое восклицание, после чего она остановилась с оттенком милой досады.
– Но ведь это вы! – сказала она. – Как же я не узнала! Я могла пройти мимо, если бы не почувствовала, как вы всполохнулись. Как вы измучены, как бледны!
Великая растерянность, но и величайшее спокойствие осенили меня. Я смотрел на это потерянное было лицо с верой в сложное значение случая, с светлым и острым смущением. Я был так ошеломлен, так внутренне остановлен ею в стремлении к ней же, но при обстоятельствах конца пути, внушенных всегда опережающим нас воображением, что испытал чувство срыва, – милее было бы мне прийти к ней, туда.
– Слушайте, – сказал я, не отрываясь от ее доверчивых глаз, – я спешу к вам. Еще не поздно…
Она перебила, отводя меня в сторону за рукав.
– Сейчас рано, – значительно сказала она, – или поздно, как хотите. Светло, но еще ночь. Вы будете у меня вечером, слышите? И я вам скажу все. Я много думала о наших отношениях. Знайте: я вас люблю.
Произошло подобное остановке стука часов. Я остановился жить душой с ней в эту минуту. Она не могла, не должна была сказать так. Со вздохом выпустил я, сжимавшую мою, маленькую, свежую руку и отступил. Она смотрела на меня с лицом, готовым дрогнуть от нетерпения. Это выражение исказило ее черты, – нежность сменилась тупостью, взгляд остро метнулся, и, сам страшно смеясь, я погрозил пальцем.
– Нет, ты не обманешь меня, – сказал я, – она там. Она теперь спит, и я ее разбужу. Прочь, гадина, кто бы ты ни была.
Взмах быстро заброшенного перед самым лицом платка был последнее, что я видел отчетливо в двух шагах. Затем стали мелькать тесные просветы деревьев, то напоминая бегущую среди них женскую фигуру, то указывая, что я бегу сам изо всех сил. Уже виднелись часы площади. На мосту стояли рогатки. Вдали, у противоположной стороны набережной, дымил черный буксир, натягивая канат барки. Я перескочил рогатку и одолел мост в последний момент, когда его разводная часть начала отходить щелью, разняв трамвайные рельсы. Мой летящий прыжок встречен был сторожами отчаянным бранным криком, но, лишь мелькнув взглядом по блеснувшей внизу щели воды, я был уже далеко от них; я бежал, пока не достиг ворот.
Х
Тогда или, вернее, спустя некоторое время наступил момент, от которого я мог частично восстановить обратным порядком слетевшее и помраченное действие. Прежде всего я увидел девушку, стоящую у дверей, прислушиваясь, с рукой, простертой ко мне, как это делают, когда просят или безмолвно приказывают сидеть тихо. Она была в летнем пальто; ее лицо выглядело встревоженным и печальным. Она спала перед тем, как я появился здесь. Это я знал, но обстоятельства моего появления ускользнули, как вода в сжатой руке, едва я сделал сознательное усилие немедленно связать все. Повинуясь ее полному беспокойства жесту, я продолжал неподвижно сидеть, ожидая, чем кончится это прислушивание. Я силился понять его смысл, но тщетно. Еще немного, и я сделал бы решительное усилие, чтобы одолеть крайнюю слабость, я хотел спросить, что происходит теперь в этой большой комнате, как, словно угадывая мое движение, девушка повернула голову, хмурясь и грозя пальцем. Теперь я вспомнил, что ее зовут Сузи, что так ее назвал кто-то, вышедший отсюда, сказав: «Должна быть совершенная тишина». Спал я или был только рассеян? Пытаясь решить этот вопрос, я машинально опустил взгляд и увидел, что пола моего пальто разорвана. Но оно было цело, когда я спешил сюда. Я переходил от недоумения к удивлению. Вдруг все затряслось и как бы бросилось вон, смешав свет; кровь хлынула к голове; раздался оглушительный треск, подобный выстрелу над ухом, затем крик. «Хальт!» – крикнул кто-то за дверью. Я вскочил, глубоко вздохнув. Из двери вышел человек в сером халате, протягивая отступившей девушке небольшую доску, на которой, сжатая дугой проволоки, висела огромная, перебитая пополам черная крыса. Ее зубы были оскалены, хвост свешивался.
Тогда, вырванная ударом и криком из воистину страшного состояния, моя память перешла темный обрыв. Немедленно я схватил и удержал многое. Чувства заговорили. Внутреннее видение обратилось к началу сцены, повторив цепь усилий. Я вспомнил, как перелез ворота, опасаясь стучать, чтобы не привлечь новой опасности, как обошел дверь и дернул звонок третьего этажа. Но разговор через дверь – разговор долгий и тревожный, причем женский и мужской голоса спорили, впустить ли меня, – я забыл бесповоротно. Он был восстановлен впоследствии.
Все эти еще не вполне смыкающиеся черты возникли с быстротой взгляда в окно. Старик, внесший крысоловку, был в плотной шапке седых выстриженных ровным кругом волос, напоминающих чашку желудя. Острый нос, бритые, тонкие, с сложным упрямым выражением губы, яркие, бесцветные глаза и клочки седых бак на розоватом лице, оканчивающемся направленным вперед подбородком, погруженным в голубой шарф, могли заинтересовать портретиста, любителя характерных линий.
Он сказал:
– Вы видите так называемую черную гвинейскую крысу. Ее укус очень опасен. Он вызывает медленное гниение заживо, превращая укушенного в коллекцию опухолей и нарывов. Этот вид грызуна редок в Европе, он иногда заносится пароходами. «Свободный ход», о котором вы слышали ночью, есть искусственная лазейка, проделанная мною около кухни для опыта с ловушками различных систем; два последние дня ход этот действительно был свободен, так как я с увлечением читал Эрта Эртруса: «Кладовая крысиного короля», – книга, представляющая собой отменную редкость. Она издана в Германии четыреста лет назад. Автор был сожжен на костре в Бремене как еретик. Ваш рассказ…
Следовательно, я рассказал уже все, с чем пришел сюда. Но у меня были еще сомнения. Я спросил:
– Приняли ли вы меры? Знаете ли вы, какого рода эта опасность, так как я не совсем понимаю ее?
– Меры? – сказала Сузи. – О каких мерах вы говорите?
– Опасность… – начал старик, но остановился, взглянув на дочь. – Я не понимаю.
Произошло легкое замешательство. Все трое мы обменялись взглядом ожидания.
– Я говорю, – начал я неуверенно, – что вам следует остеречься. Кажется, я уже говорил это, но, простите меня, я не вполне помню, что говорил. Мне кажется теперь, что я был как бы в глубоком обмороке.
Девушка посмотрела на отца, затем на меня и улыбнулась с недоумением: «Как это может быть?»
– Он устал, Сузи, – сказал старик. – Я знаю, что такое бессонница. Все было сказано; и были приняты меры. Если я назову эту крысу, – он опустил ловушку к моим ногам с довольным видом охотника, – словом «Освободитель», вы будете уже кое-что знать.
– Это шутка, – возразил я, – и шутка, конечно, отвечающая занятию Крысолова. – Говоря так, я припомнил вывеску небольшого размера, над которой висел звонок. На ней было написано:
«КРЫСОЛОВ»
Истребление крыс и мышей.
О. Иенсен.
Телеф. 1-08-01.
Я видел ее у входа.
– Вы шутите, так как не думаю, чтобы этот «Освободитель» принес вам столько хлопот.
– Он не шутит, – сказала Сузи, – он знает.
Я сравнивал эти два взгляда, которым отвечал в тот момент улыбкой тщетных догадок, – взгляд юности, полный неподдельного убеждения, и взгляд старых, но ясных глаз, выражающих колебание, продолжать ли разговор так, как он начался.
– Пусть за меня скажет вам кое-что об этих вещах Эрт Эртрус. – Крысолов вышел и принес старую книгу в кожаном переплете, с красным обрезом. – Вот место, над которым вы можете смеяться или задуматься, как угодно.

…«Коварное и мрачное существо это владеет силами человеческого ума. Оно также обладает тайнами подземелий, где прячется. В его власти изменять свой вид, являясь как человек, с руками и ногами, в одежде, имея лицо, глаза и движения, подобные человеческим и даже не уступающие человеку, как его полный, хотя и не настоящий образ. Крысы могут также причинять неизлечимую болезнь, пользуясь для того средствами, доступными только им. Им благоприятствуют мор, голод, война, наводнение и нашествие. Тогда они собираются под знаком таинственных превращений, действуя как люди, и ты будешь говорить с ними, не зная, кто это. Они крадут и продают с пользой, удивительной для честного труженика, и обманывают блеском своих одежд и мягкостью речи. Они убивают и жгут, мошенничают и подстерегают; окружаясь роскошью, едят и пьют довольно и имеют все в изобилии. Золото и серебро есть их любимейшая добыча, а также драгоценные камни, которым отведены хранилища под землей».
– Но довольно читать, – сказал Крысолов, – и вы, конечно, догадываетесь, почему я перевел именно это место. Вы были окружены крысами.
Но я уже понял. В некоторых случаях мы предпочитаем молчать, чтобы впечатление, колеблющееся и разрываемое другими соображениями, нашло верный приют. Тем временем мебельные чехлы стали блестеть усиливающимся по окну светом, и первые голоса улицы прозвучали ясно, как в комнате. Я снова погружался в небытие. Лица девушки и ее отца отдалялись, став смутным видением, застилаемым прозрачным туманом. «Сузи, что с ним?» – раздался громкий вопрос. Девушка подошла, находясь где-то вблизи меня, но где именно, я не видел, так как был не в состоянии повернуть голову. Вдруг моему лбу стало тепло от приложенной к нему женской руки, в то время как окружающее, исказив и смешав линии, пропало в хаотическом душевном обвале. Дикий, дремучий сон уносил меня. Я слышал ее голос: «Он спит», – слова, с которыми я проснулся после тридцати несуществовавших часов. Меня перенесли в тесную соседнюю комнату, на настоящую кровать, после чего я узнал, что «для мужчины был очень легок». Меня пожалели; комната соседней квартиры оказалась на тот же, другой день в моем полном распоряжении. Дальнейшее не учитывается. Но от меня зависит, чтобы оно стало таким, как в момент ощущения на голове теплой руки. Я должен завоевать доверие…
И более – ни слова об этом.
Фанданго
I
Зимой, когда от холода тускнеет лицо и, засунув руки в рукава, дико бегает по комнате человек, взглядывая на холодную печь, – хорошо думать о лете, потому что летом тепло.
Мне представилось зажигательное стекло и солнце над головой. Допустим, это – июль. Острая ослепительная точка, пойманная блистающей чечевицей, дымится на конце подставленной папиросы. Жара. Надо расстегнуть воротник, вытереть мокрую шею, лоб, выпить стакан воды. Однако далеко до весны, и тропический узор замороженного окна бессмысленно расстилает прозрачный пальмовый лист.
Закоченев, дрожа, я не мог решиться выйти, хотя это было совершенно необходимо. Я не люблю снег, мороз, лед – эскимосские радости чужды моему сердцу. Главнее же всего этого – мои одежда и обувь были совсем плохи. Старое летнее пальто, старая шляпа, сапоги с проношенными подошвами – лишь этим мог я противостоять декабрю и двадцати семи градусам.
С. Т. поручил мне купить у художника Брока картину Горшкова. Со стороны С. Т. это было добродушным подарком, так как картину он мог купить сам. Жалея меня, С. Т. хотел вручить мне комиссионные. Об этом я размышлял теперь, насвистывая «Фанданго».
В те времена я не гнушался никаким заработком. Эту небольшую картину открыл я, зайдя неделю назад к Броку за некоторым имуществом, так как недавно занимал ту же комнату, которую теперь занимал он. Я не любил Горшкова, как не любят пожатия холодной, потной и вялой руки, но, зная, что для С. Т. важно «кто», а не «что», сказал о находке. Я прибавил также, что не уверен в законности приобретения картины Броком.
С. Т. – грузный, в халате, задумчиво скребя бороду, зевнул, сказав: «Так, так…» – и стал барабанить по столу красными пальцами. В это время я пил у него настоящий китайский чай, ел ветчину, хлеб с маслом, яйца, был голоден, неловок, говорил с набитым ртом.
С. Т. помешал в стакане резной золоченой ложечкой, поднял ее, схлебнул и сказал:
– Вы, это, ее сторгуйте. Пятнадцать процентов дам, а что меньше двухсот – ваше.
Я называю деньги их настоящим именем, так как мне теперь было бы трудно высчитать, какая цепь нолей ставилась тогда после двухсот.
В то время тридцать золотых рублей по ощущению жизни равнялись нынешней тысяче. Держа в кармане тридцать рублей, каждый понимал, что «человек – это звучит гордо». Они весили пятнадцать пудов хлеба – полгода жизни. Но я мог еще выторговать ниже двухсот, заработав таким образом больше чем тридцать рублей.
Я получил толчок к действию, заглянув в шкапчик, где стояли пустые кастрюли, сковорода и горшок. (Я жил Робинзоном.) Они пахли голодом. Было немного рыжей соли, чай из брусники с надписью «отборный любительский», сухие корки, картофельная шелуха.
Я боюсь голода, – ненавижу его и боюсь. Он – искажение человека. Это трагическое, но и пошлейшее чувство не щадит самых нежных корней души. Настоящую мысль голод подменяет фальшивой мыслью, – ее образ тот же, только с другим качеством. «Я остаюсь честным, – говорит человек, голодающий жестоко и долго, – потому что я люблю честность; но я только один раз убью (украду, солгу), потому что это необходимо ради возможности в дальнейшем оставаться честным». Мнение людей, самоуважение, страдания близких существуют, но как потерянная монета: она есть и ее нет. Хитрость, лукавство, цепкость – все служит пищеварению. Дети съедят вполовину кашу, выданную в столовой, пока донесут домой; администрация столовой скрадет, больницы – скрадет, склада – скрадет. Глава семейства режет в кладовой хлеб и тайно пожирает его, стараясь не зашуметь. С ненавистью встречают знакомого, пришедшего на жалкий пар нищей, героически добытой трапезы.
Но это не худшее, так как оно из леса; хуже, когда старательно загримированная кукла, очень похожая на меня (тебя, его…) нагло вытесняет душу из ослабевшего тела и радостно бежит за куском, твердо и вдруг уверившись, что она-то и есть тот человек, какого она зацапала. Тот потерял уже все, все исказил: вкусы, желания, мысли и свои истины. У каждого человека есть свои истины. И он упорно говорит: «Я, Я, Я», – подразумевая куклу, которая твердит то же и с тем же смыслом. Я не раз испытывал, глядя на сыры, окорока или хлебы, почти духовное перевоплощение этих «калорий»: они казались исписанными парадоксами, метафорами, тончайшими аргументами самых праздничных, светлых тонов; их логический вес равнялся количеству фунтов. И даже был этический аромат, то есть собственное голодное вожделение.
– Очевидно, – говорил я, – так естественен, разумен, так прост путь от прилавка к желудку…
Да, это бывало, со всей ложной искренностью таких умопомрачений, а потому я, как сказал, голода не люблю. Как раз теперь встречаю я странно построенных людей с очень живым напоминанием об осьмушке овса. Это воспоминание переломилось у них на романтический лад, и я не понимаю сей музыкальной вибрации. Ее можно рассматривать как оригинальный цинизм. Пример: стоя перед зеркалом, один человек влепляет себе умеренную пощечину. Это – неуважение к себе. Если такой опыт произведен публично, – он означает неуважение и к себе и к другим.
II
Я превозмог мороз тем, что закурил и, держа горящую спичку в ладонях, согрел пальцы, насвистывая мотив испанского танца. Уже несколько дней владел мной этот мотив. Он начинал звучать, когда я задумывался.
Я редко бывал мрачен, тем более в ресторане. Конечно, я говорю о прошлом, как бы о настоящем. Случалось мне приходить в ресторан веселым, просто веселым, без идеи о том, что «вот, хорошо быть веселым, потому что…» и т. д. Нет, я был весел по праву человека находиться в любом настроении. Я сидел, слушая «Осенние скрипки», «Пожалей ты меня, дорогая», «Чего тебе надо? Ничего не надо» и тому подобную бездарно-истеричную чепуху, которой русский обычно попирает свое веселье. Когда мне это надоедало, я кивал дирижеру, и, проводя в пальцах шелковый ус, румын слушал меня, принимая другой рукой, как доктор, сложенную бумажку. Немного отвернув лицо взад, вполголоса он говорил оркестру:
– Фанданго!
При этом энергичном, коротком слове на мою голову ложилась нежная рука в латной перчатке, – рука танца, стремительного, как ветер, звучного, как град, и мелодического, как глубокое контральто. Легкий холод проходил от ног к горлу. Еще пьяные немцы, стуча кулаками, громогласно требовали прослезившее их: «Пошалей ты мена, торокая», но стук палочки о пюпитр внушал, что с этим покончено.
«Фанданго» – ритмическое внушение страсти, страстного и странного торжества. Вероятнее всего, что он – транскрипция соловьиной трели, возведенной в высшую степень музыкальной отчетливости.
Я оделся, вышел; было одиннадцать утра, холодно и безнадежно светло.
По мостовой спешила в комиссариаты длинная вереница служащих. «Фанданго» звучало глуше, оно ушло в пульс, в дыхание, но был явствен стремительный перелет такта – даже в едва слышном напеве сквозь зубы, ставшем привычкой.
Прохожие были одеты в пальто, переделанные из солдатских шинелей, полушубки, лосиные куртки, серые шинели, френчи и черные кожаные бушлаты. Если встречалось пальто штатское, то непременно старое, узкое пальто. Миловидная барышня в платке лапала по снегу огромными валенками, клубя ртом синий и белый пар. Неуклюжей от рукавицы рукой прижимала она портфель. Выветренная, как известняк, – до дыр на игривых щеках, – бойко семенила старуха, подстриженная «в кружок», в желтых ботинках с высокими каблуками, куря толстый «Зефир». Мрачные молодые мужчины шагали с нездешним видом. Не раз, интересуясь всем, спрашивал я, почему прохожие избегают идти по тротуару, и разные получал ответы. Один говорил: «Потому что меньше снашивается обувь». Другой отвечал: «На тротуаре надо сторониться, соображать, когда уступить дорогу, когда и толкнуть». Третий объяснял просто и мудро: «Потому что лошадей нет» (то есть экипажи не мешают идти). «Идут так все, – заявлял четвертый, – иду и я».

Среди этой картины заметил я некоторый ералаш, производимый видом резко отличной от всех группы. То были цыгане. Цыган много появилось в городе в этом году, и встретить можно было их каждый день. Шагах в десяти от меня остановилась их бродячая труппа, толкуя между собой. Густобровый, сутулый старик был в высокой войлочной шляпе, остальные двое мужчин в синих новых картузах. На старике было старое ватное пальто табачного цвета, а в сморщенном ухе блестела тонкая золотая серьга. Старик, несмотря на мороз, держал пальто распахнутым, выказывая пеструю бархатную жилетку с глухим воротником, обшитым малиновой тесьмой, плисовые шаровары и хорошо начищенные, высокие сапоги. Другой цыган, лет тридцати, в стеганом клетчатом кафтане, украшенном на крестце огромными перламутровыми пуговицами, носил бороду чашкой и замечательные, пышные усы цвета смолы; увеличенные подусниками, они напоминали кузнечные клещи, схватившие поперек лица. Младший, статный цыган, с худым воровским лицом напоминал горца – черкеса, гуцула. У него были пламенные глаза с синевой вокруг горбатого переносья, и нес он под мышкой гитару, завернутую в серый платок; на цыгане был новый полушубок с мерлушковой оторочкой.
Старик нес цимбалы.
Из-за пазухи среднего цыгана торчал медный кларнет.
Кроме мужчин, здесь были две женщины: молодая и старая.
Старуха несла тамбурин. Она была укутана в две рваные шали: зеленую и коричневую; из-под углов их выступал край грязной красной кофты. Когда она взмахивала рукой, напоминающей птичью лапу, – сверкали массивные золотые браслеты. Смесь вороватости и высокомерия, наглости и равновесия была в ее темном безобразном лице. Может быть, в молодости выглядела она не хуже, чем молодая цыганка, стоявшая рядом, от которой веяло теплом и здоровьем. Но убедиться в этом было бы теперь очень трудно.
Красивая молодая цыганка имела мало цыганских черт. Губы ее были не толсты, а лишь как бы припухшие. Правильное свежее лицо с пытливым пристальным взглядом, казалось, смотрит из тени листвы, – так затенено было ее лицо длиной и блеском ресниц. Поверх теплой кацавейки, согнутая на сгибах рук, висела шаль с бахромой; поверх шали расцветал шелковый турецкий платок. Тяжелые бирюзовые серьги покачивались в маленьких ушах; из-под шали, ниже бахромы, спускались черные, жесткие косы с рублями и золотыми монетами. Длинная юбка цвета настурции почти скрывала новые башмаки.
Не без причины описываю я так подробно этих людей. Завидев цыган, невольно старался я уловить след той неведомой старинной тропы, которой идут они мимо автомобилей и газовых фонарей, подобно коту Киплинга: кот «ходил сам по себе, все места называл одинаковыми и никому ничего не сказал». Что им история? эпохи? сполохи? переполохи? Я видел тех самых бродяг с магическими глазами, каких увидит этот же город в 2021 году, когда наш потомок, одетый в каучук и искусственный шелк, выйдет из кабины воздушного электромотора на площадку алюминиевой воздушной улицы.
Поговорив немного на своем диком наречии, относительно которого я знал только, что это один из древнейших языков, цыгане ушли в переулок, а я пошел прямо, раздумывая о встрече с ними и припоминая такие же прежние встречи. Всегда они были вразрез всякому настроению, прямо пересекали его. Встречи эти имели сходство с крепкой цветной ниткой, какую можно неизменно увидеть в кайме одной материи, название которой забыл. Мода изменит рисунок материи, блеск, толщину и ширину; рынок назначит произвольную цену, и носят ее то весной, то осенью, на разный покрой, но в кайме все одна и та же пестрая нить. Так и цыгане – сами в себе – те же, как и вчера, – гортанные, черноволосые существа, внушающие неопределенную зависть и образ диких цветов.
Еще довольно много я передумал об этом, пока мороз не выжал из меня юг, забежавший противу сезона в южный уголок души. Щеки, казалось, сверлит лед; нос тоже далеко не пылал, а меж оторванной подошвой и застывшим до бесчувственности мизинцем набился снег. Я понесся, как мог скоро, пришел к Броку и стал стучать в дверь, на которой было написано мелом:
«Звон. не действ. Прошу громко стуч.».
III
Острые мелкие черты, козлиная бородка чеховского героя, выдающиеся лопатки и длинные руки, при худом сложении и очках, делающих тусклые впалые глаза ненормально блестящими, – эта фигура вышла открыть мне дверь. Брок был в длинном сером пиджаке, черных брюках и коричневой жилетке, надетой поверх свитера. Жидкие волосы его, приглаженные, но не везде следующие покатости черепа, торчали местами назад, горизонтально, словно в разных местах он заложил грязные перья. Он говорил медлительно и низко, как дьякон, смотрел исподлобья, поверх очков, склоняя голову набок, потирал вялые руки.
– Я к вам, – сказал я (в квартире были и другие жильцы). – Позвольте, однако, прежде всего согреться.
– Что, мороз?
– Да, сильный мороз…
На эту тему говоря, прошли мы темным коридором к светлому ромбу полуоткрытой двери, и Брок, войдя, тщательно закрыл ее, потом сунул дров в пылающую железную печь и, небрежительно вертя папиросу, бросился на пыльную оттоманку, где, облокотясь и скрестив вытянутые ноги, поддернул повыше брюки.
Я сел, наставив ладони к печке, и, смотря на розовые, сквозь свет пламени, пальцы, впивал негу тепла.
– Я вас слушаю, – сказал Брок, снимая очки и протирая глаза концом засморканного платка.
Посмотрев влево, я увидел, что картина Горшкова на месте. Это был болотный пейзаж с дымом, снегом, обязательным, безотрадным огоньком между елей и парой ворон, летящих от зрителя.
С легкой руки Левитана в картинах такого рода предполагается умышленная «идея». Издавна боялся я этих изображений, цель которых, естественно, не могла быть другой, как вызвать мертвящее ощущение пустоты, покорности, бездействия, – в чем предполагался, однако, порыв.
– «Сумерки», – сказал Брок, видя, куда я смотрю. – Величайшая вещь!
– О том особая речь, но что вы взяли бы за нее?
– Что это? Купить?
– Ну-те!
Он вскочил и, став перед картиной, оттянул бородку концами пальцев вперед.
– Э… – сказал Брок, косясь на меня через плечо. – У вас столько и денег нет. Еще подумаю, отдать ли за двести, и то потому только, что деньги нужны. Да и денег у вас нет!
– Найду, – сказал я. – Я потому и пришел, чтобы поторговаться.
Вдали, на парадной, застучали.
– Ну, это ко мне!
Брок кинулся в дверь, выставил в щель из коридора бородку и прикрикнул:
– Одну минуту, я тотчас вернусь поговорить с вами.
Пока его не было, я осматривался по привычке коротать время более с вещами, чем с людьми. Опять уловил я себя в том, что насвистываю «Фанданго», бессознательно огораживаясь мотивом от Горшкова и Брока. Теперь мотив вполне отвечал моему настроению. Я был здесь, но смотрел на все, что вокруг, издалека.
Это помещение было гостиной, довольно большой, с окнами на улицу. Когда я жил здесь, здесь не было избытка вещей, ввезенных Броком после меня. Мольберты, гипс, ящики и корзины с наваленными на них бельем и одеждой, загромождали проход между стульями, расставленными случайно. На рояле стояла горка тарелок с ножиком и вилкой поверх, среди кожуры от огурца. Оконные пыльные занавеси были разведены углом, весьма неряшливо. Старый ковер с дырами, следами подошв и щепным мусором дымился у печки, в том месте, где на него выпал каленый уголь. Посредине потолка горела электрическая лампочка; при дневном свете напоминала она клочок желтой бумаги.
На стенах было много картин, частью написанных Броком. Но я не рассматривал их. Согревшись, ровно и тихо дыша, я думал о неуловимой музыкальной мысли, твердое ощущение которой появлялось всегда, как я прислушивался к этому мотиву – «Фанданго». Хорошо зная, что душа звука непостижима уму, я, тем не менее, пристально приближал эту мысль, и чем более приближал, тем более далекой становилась она. Толчок новому ощущению дало временное потускнение лампочки, то есть в сером ее стекле появилась красная проволока – знакомое всем явление. Помигав, лампочка загорелась опять.
Чтобы понять последовавший затем странный момент, необходимо припомнить обычное для нас чувство зрительного равновесия. Я хочу сказать, что, находясь в любой комнате, мы привычно ощущаем центр тяжести заключающего нас пространства, в зависимости от его формы, количества, величины и расположения вещей, а также направления света. Все это доступно линейной схеме. Я называю такое ощущение центром зрительной тяжести.
В то время как я сидел, я испытал – может быть, миллионной дробью мгновения, – что одновременно во мне и вне меня мелькнуло пространство, в которое смотрел я перед собой. Отчасти это напоминало движение воздуха. Оно сопровождалось немедленным беспокойным чувством перемещения зрительного центра, – так, задумавшись, я наконец определил изменение настроения. Центр исчез. Я встал, потирая лоб и всматриваясь кругом с желанием понять, что случилось. Я почувствовал ничем не выражаемую определенность видимого, причем центр, чувство зрительного равновесия вышло за пределы, став скрытым.
Слыша, что Брок возвращается, я сел снова, не в силах прогнать чувство этой перемены всего, в то время как все было то же и тем же.
– Вы заждались? – сказал Брок. – Ничего, грейтесь, курите.
Он вошел, таща картину порядочной величины, но изнанкой ко мне, так что я не видел, какова эта картина, и поставил ее за шкап, говоря:
– Купил. Третий раз приходит этот человек, и я купил, только чтобы отвязаться.
– А что за картина?
– А, чепуха! Мазня, дурной вкус! – сказал Брок. – Посмотрите лучше мои. Вот написал две в последнее время.
Я подошел к указанному на стене месту. Да! Вот что было в его душе!.. Одна – пейзаж горохового цвета. Смутные очертания дороги и степи с неприятным пыльным колоритом; и я, покивав, перешел к второму «изделию». Это был тоже пейзаж, составленный из двух горизонтальных полос, серой и сизой, с зелеными по ней кустиками. Обе картины, лишенные таланта, вызывали тупое, холодное напряжение.
Я отошел, ничего не сказав. Брок взглянул на меня, покашлял и закурил.
– Вы быстро пишете, – заметил я, чтоб не затянуть молчания. – Ну, что же Горшков?
– Да как сказал, – двести.
– Это за Горшкова-то двести? – сорвалось у меня. – Дорого, Брок!
– Вы это сказали тоном, о котором позвольте вас спросить. Горшков… Да вы как на него смотрите?
– Это – картина, – сказал я. – Я намерен ее купить; о том речь.
– Нет, – возразил Брок, уже раздраженный и моими словами, и безразличием к картинам своим. – За неуважение к великому национальному художнику цена будет с вас теперь триста!
Как часто бывает с нервными людьми, я, вспылив, не мог удержаться от острого вопроса:
– Что же вы возьмете за эту капусту, если я скажу, что Горшков просто плохой художник?









































