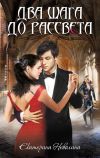Текст книги "Калинов мост"

Автор книги: Александр Холин
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
«Словно снег растаяла свеча…»
Словно снег растаяла свеча,
оплыла под гром аплодисментов.
Чахлый век вздыхает у плеча,
задыхаясь от экспериментов.
От тягучих волоков в пыли
до полуразрушенного БАМа
шорохи зашторенной земли,
словно слезы взорванного храма.
А сугробы тают, как свеча,
землю обнажая понемногу.
Только рукавица палача
молится секире, словно Богу.
«Прошу, не верь в опалу октября…»
Прошу, не верь в опалу октября.
Он просто опалён,
но не опален.
И вскинулась зеленая заря,
не замечая ржавчин и окалин.
Не замечая листьев круговерть,
лесных теней обманчивые пляски.
И все это окрашивает смерть
в неудержимо жизненные краски.
И не было опалы октября,
лишь листья опаленные опали,
целуясь на ветру и говоря
прохожему про все свои печали.
«Так неуютно к шороху за дверью…»
Так неуютно к шороху за дверью
прислушиваться шумною зимою,
когда погасли крылья за спиною
и слышу всюду:
– Я тебе не верю!
Пустое кресло,
сумерки,
свеча,
и старые потрепанные книги,
и капли из-под крана,
как вериги,
и безысходность каплями в плеча.
Колчан часов выбрасывает стрелы
в мои минуты,
годы
и века,
но «я не верю!»
вдруг издалека
мне кто-то бросит безрассудно смело.
Чему не верят?
Содранным рукам
или глазам, до срока опустевшим,
или стихам, родиться не успевшим,
как маленьким печальным родникам?
Я не прошу заступничества зим
перед своей зимою неизбежной.
Но, может, на скрижали этой грешной
мне скажет вдруг такой же нелюдим:
– Я верю, друг, и верую стихам.
«Жалкий жест…»
Жалкий жест.
И сожаленье.
И рычание толпы.
Аура стихотворенья.
И гробы.
Гробы.
Гробы.
Топот ног.
Придых в затылок.
Бесконечный страшный сон.
Звон к вечерне.
Звон бутылок.
Пустословия трезвон.
Снова встретят по одёжке
да верёвкой через сук.
Со стола сметаю крошки —
вороньё кормить из рук.
И небрежным жестом царским
душу чёрту отдаю.
И окно бельмом январским
смотрит в комнату мою.
«Мне бы лечь и уставиться в ночь…»
Мне бы лечь и уставиться в ночь,
и послушать гудящую печь.
Воду в ступе устал я толочь —
мне бы этой игрой пренебречь.
Но вокруг пустота – толчея,
все со ступками лезут вперёд,
чтоб водицы набрать из ручья.
И толчёт, и толчётся народ.
Я устал в пустоте от вещей
и не стал пробиваться в струю.
Вон нашёлся чудак половчей —
мигом ступку присвоил мою.
«Навзрыд…»
Навзрыд,
навзрыв,
навзгляд,
до шёпота навскрик,
когда терзает ад,
когда не дорог миг.
Сказать,
спросить,
успеть
не бросить в бренный шум
залапанную медь
своих протяжных дум.
Не сгинуть,
не пропасть,
растерзанным на треть.
И низко-низко пасть,
что б высоко взлететь.
КНЯЖНА
Крепки крепостные ворота
и глыбы гранитные – в рост.
Коль скоро посадят кого-то,
то выход один: на погост.
Здесь узники чахнут и верят
в скончаемость горя и тьмы.
И дремлет тюремщик-тетеря
в незыблемом мраке тюрьмы.
Княжна Тараканова к двери:
– Тюремщик,
ну, что ты там сиднем сидишь?
Мне было виденье —
грядёт наводненье,
я вижу нашествие крыс!
Тюремщик лениво прошамкал:
– Иди ты – гляди ты кака волхова, —
смахнул таракана на пол, —
зараза, ан тоже живёт однова…
Едва по задворкам забористый ветер
завыл, отпевая живых,
тюремщик очнулся, тюремщик приметил:
острог непривычен и тих.
И лихо не бродит в глубоких подвалах,
не лязгают стражи штыки,
и крысы не хрюкают в драках и сварах,
лишь бури безумной шаги
к стене подбираются ближе
и ближе,
лишь где-то запела вода…
И снова из камеры слышится:
– Вижу —
грядёт наводненье. Беда!
– Вот ведьма, накликала всёжа-ки бурю,
так жди – дожидайся беды, —
и он, озабоченно брови нахмуря,
по лестнице вверх – от воды.
А вон и подвальные рыжие твари
хвостами метут ступеня.
Хоть то на потопе,
хоть то на пожаре —
бегут от воды и огня.
Княжна Тараканова к двери:
– Тюремщик, тюремщик,
открой!
А по полу, зубы ощеря,
крысиный испуганный рой.
Она на лежанку – вода подступает,
а крысы ползут и ползут,
и – к ней разъярённой оскаленной стаей…
– О, Боже, меня не спасут!
О, Боже, не мало ли я нагрешила
за этот терновый венец?
Её оставляют последние силы,
никто не поможет… конец…
И вдруг прошептала:
– Тюремщик-Малюта,
во храме за мя помолись.
Я слышу в последние эти минуты
другой отвратительный писк.
Я вижу в России нашествие смуты,
нашествие смуты и крыс.
«Два зеркала…»
Два зеркала.
Сияние свечи.
И, словно маятник, от одного к другому
блуждает мальчик – мотыльком в ночи.
Блуждает светом солнечным по дому.
Он не от мира грешного рождён.
Он между двух мгновений —
гений света,
но он навеки ночью осуждён
на схиму одинокого поэта.
От зеркала в минувшее полёт
до зеркала в грядущее,
земное.
Взлёт и падение,
падение и взлёт.
Лишь пустота змеится за спиною.
Два зеркала.
Чадящая свеча.
И, словно маятник, от одного к другому
калека, колотушкою стуча,
блуждает по заброшенному дому.

«Опять запамятовал век…»
Опять запамятовал век
кого распял, кого вознёс.
И только смех,
и только снег
из-под колёс, из-под колёс.
Опять судачим впопыхах,
и всяк грядущему судья.
И только смех,
и только страх
небытия, небытия.
Опять вчерашний день багров.
И на отзывчивость скупы
где только смех, где только рёв
толпы,
толпы,
толпы,
толпы.
ПРОРУБЬ УНИЧТОЖАЮЩЕМУ РОССИЮ
Казимиру Малевичу, коменданту Кремля
Чёрная прорубь —
чёрный квадрат,
графика льда и покоя.
Чёрная прорезь
кованых врат
в рай,
где ни сна, ни покоя.
Чёрная пропасть,
голая грудь
влажно мерцающей ртути.
Разовый пропуск
в самую суть
чёрной космической сути.
В ней отраженья жизни резки,
но перевёрнуты часто…
Чёрная рана
белой реки —
русская правда контраста.
«Я помню эти комнаты пустые…»
Я помню эти комнаты пустые:
сквозняк,
какой-то люд,
какой-то хлам.
И самые беспомощные, злые
мои стихи ходили по рукам.
Читали их убогие калеки,
бесстрастные, как тень небытия.
И от беды мои слипались веки,
и с ног сбивала воздуха струя.
И я хрипел им голосом осевшим,
что переправлю строчки набело…
Но кто-то глянул глазом запотевшим:
– Твоё на правку время истекло.
«Я с тобой обязан быть счастливым…»
Я с тобой обязан быть счастливым,
даже если кони понесли
и по их запутавшимся гривам
хлещет тень погубленной земли.
Я в тебя обязан быть влюблённым,
потому что искренность свою
раздарила ты московским клёнам
у зелёной ночи на краю.
Я с тобой обязан быть поэтом…
Но услышал истину строки:
– Господи, ещё один «с приветом»,
для чего мне эти… чудаки?
«Два века мне отмерено…»
Два века мне отмерено,
отмерено из небыли.
Не ты впотьмах потеряна,
а та, которой не было.
И не с тобой под пятницу
пойду я в храм на исповедь,
а с той, которой пьяницы
стихи читают издавна.
Но ведь не зря из небыли
вдруг возникает истина
и та, которой не было,
меня целует истово.
«Такими высокими сны оставались…»
Такими высокими сны оставались,
как сосны в давно истреблённом бору.
Такими весомыми мысли казались,
как мощные лбы валунов на юру.
И на опрокинутых изображеньях
прудов
отпечатался сон тишины.
И листья
в своих отрешённых скольженьях
стремятся попасть в невесомые сны.
Но заключены в искривлённые рамы
все сны
превратились навек в зеркала,
где мир в опадающих хлопьях тумана,
где ангела ведьма в постель зазвала.
«Мы отвечаем за любимых…»
Мы отвечаем за любимых,
за всех, разбуженных в ночи,
за всех, отчаянно ранимых
холодным пламенем свечи.
Молчи.
Не надо обещаний.
Мир и без этого жесток.
Истёк огнём на кровлях зданий
однажды сорванный цветок.
Листок кленового заката
своё падение вершил.
Я рвал с деревьев то, что свято
и святотатство совершил.
И холод, холод по ладони
той, что со мною – не моя.
А ей —
исхлёстанные кони.
А мне —
пустая полынья.
«Темь на платформе…»
Темь на платформе.
Ни огонька.
Фырканье не загоревшейся спички.
Непостоянные облака
дрёмы
в постылой до слёз электричке.
Росчерк ещё не рождённой строки
птицей ночною в окне обернулся.
И померещилось:
кто-то щеки
нежно,
неверно,
нервно
коснулся.
Чей это голос —
чужой ли, родной —
памяти сонной листает странички?…
Но никого в темноте за спиной
и никого за хвостом электрички.
«Светофор догорел…»
Светофор догорел.
Светом фар по глазам.
Я опять не успел
в чудный храм к образам.
Я совсем не хотел
быть у Бога чужим.
Светофор догорел,
а над фарами дым.
Светофор догорел.
Почему – не узнать.
Я, как жид обрусел,
матерясь в Богомать.
В чудном храме свеча
да помоев ушат…
Ах, зачем я сплеча,
если нечем дышать?

«Поэт живёт в невыдуманном мире…»
Поэт живёт в невыдуманном мире
добра и чести,
чести и добра!
Когда гуляют тени по квартире,
ещё не отгоревшего вчера.
Когда ещё не наступило завтра,
но всё уже судьбой предрешено.
И мысли новых
Гегеля и Сартра
пьянят народ, как старое вино.
И речи новых
рвущихся и рвущих
сливаются в полуголодный рык.
И нет уже ни спившихся, ни пьющих,
как нет уже ни храмов, ни вериг.
И лишь поэт в невыдуманном мире
добра и чести,
чести и добра,
последней музой брошенный в квартире,
где холодно с утра и до утра.
«Вцепляюсь продрогшей рукой…»
Вцепляюсь продрогшей рукой
в продрогшее за ночь пространство
и слышу:
вдали за рекой,
как будто бы звуки романса.
Как будто бы чью-то мольбу
уже превратили в потеху —
весёлой звездою во лбу
сверкает зелёное эхо.
Великой вселенской судьбы
поэту, поверьте, не надо.
Но как мы бываем слабы
в ночи посреди звездопада.
И, может быть, там за рекой
поэт,
обалдевший от пьянства,
вцепился продрогшей рукой
в продрогшее за ночь пространство.
«Что тебе пожелать, милая…»
Что тебе пожелать, милая?
Пожелай ты себе – милого.
Пожелай ты себе – главного.
Только что же у нас главное?
А вопросы опять просятся.
За вопросы с тебя спросится.
В храме краденый дух ладана,
а за храмом торга сладили.
Нынче я обряжён в беглого:
в красном снеге следа белого
не видать.
Пропадай пропадом
голова моя – с кем пропита?
Ай, подтягивай мне странную —
не застольную —
застаканную.
Что тебе пожелать, милая?
Не ходи, не люби мытаря.
«Не обращай меня сейчас…»
Не обращай меня сейчас
в свою языческую веру.
И день, и снег сегодня серый —
предупреждением для нас.
Опять метель всему виной,
но даже в эту стынь и стужу
она останется снаружи,
не привечаемая мной.
Не для тебя она метёт,
но ты прислушайся, послушай:
ведь и мою больную душу
распял оконный переплёт.
И не люби меня сейчас —
у нашей книги нет названья,
и лишь одни воспоминанья
играют, как в игрушки, в нас.
ОТСТУПНИЦА
Она за снежной белою стеной,
она за тихо гаснущей лампадой,
она за волчьим воем под луной
укрылась от меня.
Наверно, надо
мне было удержать её, но как?
Тревожным жестом,
словом
или взглядом?
И чародейский круг, и соломонов знак исходят криком:
– Надо было!
Надо!
Не запевает кумару[1]1
Кумара – песня ведьм.
[Закрыть] она,
не ищет тирлича[2]2
Тирлич-трава – растёт на Лысой горе близ Киева. Собирают её колдуны и ведьмы в ночь на Ивана Купала.
[Закрыть] под новолунье.
Сказала лишь:
– Тебе я не жена
и не хочу, как прежде, быть колдуньей.
И жёлтым глазом – глазом горбуна,
украденным у осени в похмелье,
холодный полдень смотрит.
А она —
монахиня в своей постылой келье.
«Опять бредут растерзанные тени…»
Опять бредут растерзанные тени
по неприютной улице.
Темно.
Лишь лунный луч на несколько мгновений
пронзает полночь, как веретено.
Давно уже, не веруя и веря,
я прохожу по лунному лучу
с кощунственной улыбкой изувера,
с уверенностью, данной палачу.
И не плачу налога президенту,
и не кричу в толпе «За упокой!»,
и нищим подаю, увы не центы,
и сам тащусь с протянутой рукой.
Покой мне в этом мире не обещан,
лишь на пустой московской мостовой
я расшифровываю клинописи трещин,
и радуюсь, что мир ещё живой.
«Первый снег, как древняя былина…»
Первый снег, как древняя былина,
пыль веков с небесного шатра.
И лежалый запах нафталина
наполняет улицы с утра.
И, стесняясь древнего разгула,
словно замарашка-сирота,
во дворе тихонько промелькнула
тень окоченевшего листа.
«Ты не грусти, когда уйду…»
Ты не грусти, когда уйду
в поля, не пахнущие снегом.
И, отражением в пруду
являясь древним печенегам,
я стану странной тишиной
и той весной, и этой грустью,
и необорванной струной
я прозвучу над старой Русью.
Там, где два облака вразлёт,
в обмен на нежное объятье
мой саван девочка возьмёт
себе на свадебное платье.
НОРВЕГИЯ
Страна ветров,
страна дремучих скал
который раз является виденьем.
О ней поэт ночами тосковал,
мне завещая это наважденье.
Не северянок тонкие черты,
не призрачного солнца переливы,
но недоступность тихой красоты,
где жизнь спокойна, дни неторопливы,
меня тревожит.
Это ли мои
еще никем не тронутые струны,
когда в тугую темень полыньи
подталкивают северные руны?
Шишкообразный рыцарский доспех
там для меня припрятала Ундина,
под площадную брань и грубый смех
готовясь к новой встрече паладина.
И в этот мир, где воздух чист и густ,
где небо цвета летнего настоя,
слепая полночь падает из уст
прогорклым словом русского застоя.
«Ночь сегодня черна…»
Ночь сегодня черна,
непроглядна,
бездонна.
Задыхаются в ней мотыльки фонарей.
В этой тьме не услышать пасхального звона,
не найти сердобольно открытых дверей.
Окрестили меня в оскверненном соборе,
где купель – это купола ржавый скелет,
где потир словно крынка висит на заборе
и надломленный крест в облака как стилет
впился:
впитывай, парень,
эту горечь твоей многогрешной земли,
эту жалкую жизнь пореформенных парий
и рыдай, если кони тебя понесли.
И рыдай,
если кони тебя опрокинут
прямо в ночь, на фонарь, на малиновый звон.
Окрестили тебя —
значит, грешником примут
в поднебесный «столыпинский» черный вагон.
«Пустая комната, усыпанная снегом…»
Пустая комната, усыпанная снегом.
Все в инее, прозрачные минуты
слетают с маятника маленьких часов.
На бронзу рам, израненную веком,
налипли паутиновые путы
неслышимых замерзших голосов.
Пустая комната, усыпанная страхом:
окно моргнуло заскрипевшей ставней,
заставив вздрогнуть сонный клавесин.
И пол уже не снегом – пеплом, прахом
покрыт на треть.
Забавного забавней:
здесь мертвый по живому голосит.
Пустая комната, усыпанная пылью
пустых планет,
где бродят только души
преступников,
и тени мизантропов
играют тень плохого водевиля.
Что может быть прекраснее и лучше,
чем их язык – воистину эзопов.
Пустая комната – спокойствие могилы
средь судорог истерзанного мира,
порфира идолу, палата для ума.
Кто здесь бывал, тому ничто не мило:
с развязностью подпившего сатира
он жизнь сравнит с остатками дерьма.
Пустая комната, усыпанная снегом.
Пустая комната, усыпанная страхом.
Пустая комната, усыпанная пылью.
Пустая комната – спокойствие могилы.
«Эта, забытая Богом страна…»
Эта, забытая Богом страна
обречена, как Христос, на Голгофу.
В чашке остаток горячего кофе
дремлет остатком кошмарного сна.
В чаше Сократа – истина жизни.
Жаждущий, хочешь ее пригубить?
Приговоренный городом шизик
пьет за здоровье оставшихся жить.
В Чаше Причастий – истина Слова,
не сохраненная смертными суть.
Крест перекрестком впивается в грудь,
истиной также миру не новой.
В чаще из чаш – арифметика истин,
сумма высокой мечты и тоски.
Вновь цифропад нестареющих листьев
льется на лысины и парики.
Снова распятая в небе луна
мертвым диктует забытые строфы.
Значит и эта чудная страна
обречена, как Христос, на Голгофу.

«Чудится…»
Чудится:
будто бы хлопнула дверь,
опалена сквозняком.
Катится время в юдоли потерь,
плачут дожди ни о ком.
Вновь собираются вешать и петь
весело «За упокой!».
Вновь наделяет скульптурная медь
нового новой строкой.
Дверь прожигают насквозь сквозняки,
сердце надсадно звенит,
и обескровленный росчерк строки
взмыть не способен в зенит.
«День сегодня такой погожий…»
День сегодня такой погожий!
Зайчик солнечный ярко-рыжий.
Жалко мне, что я мало пожил.
Жутко мне, что я все же выжил
в чреве матери,
в снах России,
на зеленом осколке лета,
в невеселой листве осины,
в невесомом луче рассвета.
И когда вьюговей нарядный
листья белые кружит в рощах,
я похож на листок тетрадный,
где пера заморожен росчерк.
И тогда я – актер без роли —
по московским гуляю крышам,
и тогда я скулю от боли,
и жалею о том, что выжил.
«Скоро ветер от стужи скорчится…»
Скоро ветер от стужи скорчится,
скоро кончится листопад.
Удержи человека, творчество,
от соблазна спуститься в ад.
Он – как лист, октябрем оторванный
от живого еще ствола,
по дороге, давно проторенной,
мчит на землю.
В земле жива
сила леса,
но сила адова
заставляет кружить, кружить
и себя простодушно радовать,
что дано еще миг пожить.
«Я не колдун. И черной ворожбой…»
Я не колдун. И черной ворожбой
не занимаюсь в ночь на новолунье.
Я не колдун. Но ты – моя колдунья,
играющая собственной судьбой.
И, если звезды холодом в глаза,
и, если в полночь жаркое удушье, —
нас мучают измученные души,
друг другу подавая голоса.
Послушные искусству твоему,
сливаются в единое дыханье,
становятся стихией и стихами,
согрев собой космическую тьму.
И я играю собственной судьбой,
не чувствуя ни страха, ни порока.
Но почему же так мне одиноко?
Но почему так пусто мне с тобой?
«И завоевала мои острова…»
И завоевала мои острова,
и окольцевала руками
певунья,
забывшая в песнях слова,
колдунья,
сожженная в яме.
Изводят меня позабытые сны
на грани тумана и яви.
И руки ее по утрам холодны
как память
от пламени в яме.
«Ты отражаешься в воде…»
Ты отражаешься в воде
и я на отражении
пишу стихи не о беде,
не о хмельном кружении
тобой не принятой любви…
Любуясь белым облаком,
ты из-за строчек позови
меня неслышным окликом.
Ты мне из жалости солги
о веснах неприкаянных.
Но по стихам круги, круги
от слез твоих нечаянных.
«Не меня ты звала и ждала…»
Не меня ты звала и ждала,
но покой у меня забрала.
Скрывшись в ночь, в соловьиную трель,
ты со мной не делила постель,
а среди раскаленного дня
никогда не любила меня.
Сон мой,
стон мой,
тоска и печаль,
пожалей меня, если не жаль.
Посмотри на меня, посмотри
сквозь слезу, сквозь улыбку зари.
Бьется крик, словно птица, в груди.
Не гляди не меня, не гляди!
Я останусь за сеткой дождя,
не глядя на тебя, не глядя.

«Дней моих не унять, не стреножить…»
Дней моих не унять, не стреножить,
как понёсших по небу коней.
Ночь глухую уже не встревожить
перекрестьями шалых огней.
Все длиннее короткие годы,
все надсадней заходится грудь,
только что мне все эти невзгоды,
если слышу твое «Не забудь»…
Не забудь эту самую малость,
эту первую песню твою.
Нам осталась не только усталость,
нам осталось любить на краю.
Озверевшие кони по небу
мчатся, не разбирая пути.
Наша жизнь – это быль или небыль?
Я её не заметил.
Прости.
«Под пунцовым солнцем дремлет…»
Под пунцовым солнцем дремлет
воспалённый край земли.
Что я снова вам про землю,
если кони понесли?
Жизнь былую вспоминаю
под жидовским сапогом.
Свет от края и до края
гаснет, загнанный врагом.
Так волков по снегу гонят.
Кто охотится на жизнь?
И пурга тоскливо стонет,
видя зрелость дешевизн.
Поминальную кантату
заиграли в небеси:
Снова брат идёт на брата.
Боже! Грешников спаси!
Только им дороже жизни —
войны, деньги, святость лжи…
Кто из нас не псих, не шизик?
Если можешь, так скажи.
Звякнет звонкая монета —
подаяние врага.
За неё лишили света —
вот и вся вам недолга.
«Земля пустеет с каждым днём…»
Земля пустеет с каждым днём,
башка тупеет с каждым часом.
Тоска.
Кровавый окоём
твердит: «Испей заката чашу!»
Не наша это жизнь, скажи?!
Когда продажи и продажи,
а мы ловили миражи,
и деньги были всем, как сажа.
А мы ловили ветер с гор
и равнодушие востока
считали просто за позор.
И что теперь по воле рока?
Строка уходит в пустоту,
мой стих уже никто не слышит.
Не «ту» искали мы мечту,
про «ту» никто уже не пишет.
Живёшь без совести, как вор:
бумажки, ложь и обещанья
сложились в вечный приговор
и бесконечные страданья.
Не то, не так и не туда —
зачем живём? – никто не знает.
Лишь Вифлеемская звезда
от возмущенья догорает.
От рая край купили те,
кому он попросту не нужен,
а остальные в пустоте
бредут по вылинявшим лужам.
Натужно тенькает комар,
ему не будет утешенья —
бескровный мир…
Конец.
Кошмар!
От Бога нет благословенья!
Смешное скопище калек,
ты пожинаешь, что посеял.
А что ты хочешь, человек?
Ты продал душу иудеям.
«Не могу я вспомнить то, что было…»
Не могу я вспомнить то, что было,
вспоминаю то, что не пришло.
Мечутся расхристанные силы,
будто бабки-ёжки помело.
Не светло, не сумеречно даже,
лишь туманы, изморось и мрак.
Небосвод, испачкавшийся сажей,
привлекает звёздами зевак.
Как же так?
Всё скомкано и смято,
Новый год навряд ли к нам придёт.
Мы не сберегаем то, что свято,
получаем жизнь наоборот.
А в наобороте всё не чисто,
всё не так, всё хочется вернуть
в руки Богородицы Пречистой
и в глаза ей тихо заглянуть.
Может, с Богом снова к нам вернётся
совесть и ответственность, и честь.
Ёлочка тогда нам улыбнётся,
ангел принесёт Благую весть.
«Снежинка упала в ладошку…»
Снежинка упала в ладошку,
И кончился времени бег.
Мы любим и лжём понарошку,
Как сотни духовных калек.
Но верим, что жизнь необычна,
Что кто-то исполнит мечту,
Ведь истина всё же первична
И дух победит пустоту.

«Зима. Рождественский сочельник…»
Зима. Рождественский сочельник.
Доволен дьявол от смертей.
А за окошком снежный пчельник,
всё заметает вьюговей.
И вся Москва – сплошная пробка,
в толпе гнездится суета.
Лишь чей-то голос крайне робко
напомнил, что была мечта.
Какая тут мечта, простите,
когда в Кремле одни враги?
Народец мыслит о корыте
под покрывалами пурги.
И, как спасение, с экрана
течёт словесная лапша.
Она любезна для баранов,
что смотрят телек, не дыша.
Кружится снег и ослепляет,
как в драме Пушкина «Метель».
Россия тихо умирает —
такая, братцы, канитель.
А что нам делать?
Кто ответит?
Ведь даже Бог пока молчит.
Ответ найти помогут дети,
как пламя маленькой свечи.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?