Текст книги "Осенний театр"
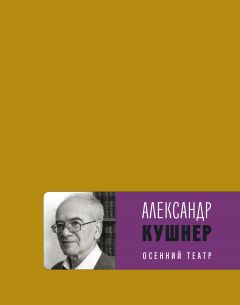
Автор книги: Александр Кушнер
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Александр Кушнер
Осенний театр
Редактор Лариса Спиридонова
Художественный редактор Валерий Калныньш
Корректор Елена Плёнкина
Верстка Светлана Спиридонова
© Александр Кушнер, 2020
© «Время», 2020
⁂
Таинственный смысл бытия
«Таинственный смысл бытия…»
Таинственный смысл бытия
Меня на мгновенье пронзит,
И тут же почувствую я,
Что мной он, счастливый, забыт.
И, как ни старайся, вернуть
Его и присвоить нельзя:
Закрыт к нему наглухо путь,
Дорога, тропинка, стезя.
В какую просунуться щель,
Завесу убрать и туман,
Ни куст не подскажет, ни ель,
Тем более – стол и диван.
Ни просьба, ни клятва, ни лесть
Его не смягчат: произвол
И прихоть… И все-таки есть –
И в сердце меня уколол!
«Блик на полу обманывал…»
Блик на полу обманывал,
Дышал, как мотылек,
Округлый и опаловый,
Сойти за брошку мог.
Серебряную ложечку,
Рисунок и печать,
Хотелось эту блесточку
Нащупать и поднять.
С каким великим автором
Имеем дело мы,
Сравненья и метафоры
Дающим нам взаймы,
Слепящие подобия,
Вложив свой вещий дар
В учебные пособия
По постиженью чар.
«Люстру зажег – и она, оставаясь…»
Люстру зажег – и она, оставаясь
В комнате, вышла еще за окно
Мне в назидание, или на зависть,
Или на радость мою – все равно.
И притворилась огромной луною,
К дереву в темном прижавшись окне,
Жизнью меня соблазняя двойною
И обещая такую же мне.
Я, к своему удивленью, поверил
Ей на мгновенье – и понял, смущен,
Как это просто – в окне ли, за дверью
Нас обольстить или где-то еще.
«У меня под рукой становились стихами…»
У меня под рукой становились стихами
И вино, и вода, и гора с облаками,
Подражавшими в плотности этой горе,
И Афины с забытыми ими богами,
И запущенный клен в петербургском дворе.
У меня под рукой тишина оживала,
Как волшебная флейта, – ни много ни мало!
У меня под рукой серебрилась сирень,
И привычная комната приобретала
Блеск дворцовый, особенно в солнечный день.
И любовь с ее счастьем и горечью тоже,
И Нева с неотрывно глядящим прохожим
На волненье ее, – заслужил я покой,
И живая строка, ни на чью не похожа,
Возникала в стихах у меня под рукой.
Осенний театр
Осенний театр – это лучший на свете
Театр, я люблю декорации эти,
Трагедию ивы и клена люблю,
И тополь как будто играет в «Макбете»,
И дубу сочувствую, как королю.
И ярко, и горько, и пышно, и сыро.
В саду замечательно ставят Шекспира.
С каким замедлением падает лист,
Как будто вобрал в себя боль всего мира,
И я на дорожке стою, как статист.
Английский театр приезжал на гастроли,
Давно это было, работал я в школе,
Волненье свое не забыл до сих пор.
Но сад, что ни год, те же самые роли
Играет не хуже, великий актер!
И каждую осень печальное чувство,
Счастливое чувство большого искусства,
Меня посещает в преддверье зимы.
Да, холодно будет, и снежно, и пусто,
Но дивное зрелище видели мы!
«“Плевать на жизнь”, – шотландская принцесса…»
«Плевать на жизнь», – шотландская принцесса
Сказала, умирая в девятнадцать
Лет, – что ей смерти плотная завеса,
Готовая упасть и не подняться,
И что ей море в пасмурных барашках,
И что ей лес еловый и охота?
Ее душа – не наша замарашка,
А точный слепок с птичьего полета!
А может быть, в ее Средневековье
Другая жизнь за гробом проступала,
Как тот ларец за шторкой, в изголовье,
В котором драгоценности держала?
Или в ней было что-то от повесы
И мудреца, философа-гуляки,
Каких Шекспир вставлял частенько в пьесы
И убивал в пылу кинжальной драки?
Трепещет, вздымается, ерзает, блещет…
О вещая душа моя!..
Ф. Тютчев
Трепещет, вздымается, ерзает, блещет,
Волнуется, дышит, мерцает, сквозит,
Вздыхает, – о ком ты, о чем ты? О вещей
Душе, о листве, о волне, – без обид
Тут не обошлось, без надежды и дрожи,
Без страха и трепета, – да, о душе,
Листве и волне – посмотри, мы похожи
И были волной и листвою уже.
Нас тоже к плотине сносило, к запруде
Теченьем, и маялись мы под грозой,
А если мы не были ими, то будем,
Ручаемся сердцем, клянемся слезой,
Завешены тьмою и залиты светом,
И светом наш гибельный мрак возмещен,
И разве Овидий писал не об этом?
Об этом, об этом, о чем же еще?
«Душе-то что, душа не мерзнет, не скудеет…»
Душе-то что, душа не мерзнет, не скудеет,
Не надо ей носить ни шапку, ни пальто,
Она в других краях опять помолодеет,
Ее там не смутит, не огорчит ничто.
Душе-то что, она, наверное, крылата,
Завидует уже не птицам, птицы – ей.
Как Гоголь ездил в Рим, она спешит куда-то,
Где, может быть, еще светлее и теплей.
Какие там дворцы, соборы, пропилеи,
А улочки – таких и в Барселоне нет.
И с нею, может быть, беседует в аллее
Любимый ею здесь задумчивый поэт.
До горестей земных теперь ей нету дела,
На дольний мир смотреть ей незачем с высот.
Но, может быть, она нет-нет и вспомнит тело,
Лежащее в земле, и по нему всплакнет.
«Так ли уж точно Платон изреченья Сократа…»
Так ли уж точно Платон изреченья Сократа,
А Иоанн и Матфей записали Христа?
Речь забывается – и неизбежна утрата.
Смысл сохраняется – формулировка не та.
Да и записывать не на чем было, и стыдно
Было б записывать в незабываемый час
Всё, что не в розницу сказано было, а слитно,
И заменялось своими словами для нас.
– Встреча в Аиде с тенями нас ждет дорогими,
Здравствуй, Гомер, Гесиод, Одиссей, Паламед!
– Небо прейдет, и Земля и Луна вместе с ними,
Звезды спадут, а словам моим гибели нет.
Всё было
«Боже мой! Боже мой!
На кого ты меня оставил? –
Это он воскликнул, еще живой,
И ни слова к тому не добавил.
Эта боль, эта мука во тьме –
Неужели еще и цитата?
Царь Давид в двадцать первом псалме
Так уже восклицал когда-то.
Отзывалась та боль в струне,
Что рука его теребила.
Мы напрасно о новизне
Так печемся в стихах. Всё было.
«Вспомни Екклесиаста…»
Вспомни Екклесиаста
Или Иеремию, Давида,
Может быть, Соломона, – нечасто
Вспоминаешь ты их, и забыта
Книга Иова и Даниила,
А Захарии и не читал ты.
Ни к чему. И когда это было!
До Афин это было, до Спарты.
Что тебе их пророчества, пенье,
Назиданья, повторы и струны,
Обращения к хору, сравненья,
Лани, серны, и звезды, и луны,
Но подумай, быть может, у Фета,
Пастернака или Мандельштама
В их стихах отозвалось всё это:
И волненье, и пламя, и драма.
«Где жизни нет, там нет и смерти…»
Где жизни нет, там нет и смерти,
И в небе так везде, везде,
И даже ангелы и черти
Жить не могли бы на звезде,
Любой звезде, любой планете –
Там либо пламя, либо газ,
А как влекут нас звезды эти
И как обманывают нас!
И вижу ночью, встав с дивана,
Что звезд, как снега, намело,
Что мирозданье без обмана
Существовать бы не могло:
Как ни убога наша мера
Для мирозданья, ни мала,
Его смущает наша вера
Перед лицом добра и зла.
Всё тот же шмель
Всё тот же шмель, что год назад, что два, что сорок.
Так вот кто, умерев, потом опять живет!
И огненный цветок ему всё так же дорог,
И кто тебе сказал, что этот шмель не тот?
Всё тот же шмель – вот так решается проблема
Бессмертия. Смотри: есть вечная весна!
Насколько же точней и проще эта схема
Придуманной для нас – и радует она.
Как видишь, не нужны небесные селенья.
Один цветок как кисть, другой – как бубенец.
Так может быть, не ты, а шмель – венец творенья?
Ты ссохнешься, умрешь, какой же ты венец?
«Как солнце светит из-за тучи…»
Как солнце светит из-за тучи,
Каким вселюбящим огнем!
Быть может, миром правит Случай,
А Бог присутствует при нем.
Сверкают лужицы, как блюдца,
И паутины блещет нить.
Но можно ль к случаю тянуться,
Его о чем-нибудь просить?
И снова всё накрыто мглою,
Затмилась даль, судьба горька.
И снова тучи надо мною,
Как стихотворная строка.
Но луч прорвется из-за тучи –
И вновь в слепящем серебре
Ты, как Орлов, «попавший в случай»,
Или Потемкин при дворе.
«Вот поезд, отправится он через семь…»
Вот поезд, отправится он через семь
Минут, через шесть, через пять. Надоело!
Как тянется время, не нужное тем,
Кто мается, ждет и скучает без дела.
Он несколько раз поглядит на часы:
Тем уже их шаг, чем глядишь на них строже.
Ему этой жизни известны азы,
Он знает, что время неровно, – и всё же!
Дорожный рабочий пройдет вдоль путей,
Сквозь дымку оплывшее солнце проступит,
Еще он заметит чету голубей,
Бредущих в раскачку, но он их не любит.
Скорей бы уж, что ли! Не вечно же тут
Стоять, – разорвать эти вечные путы,
Они его давят, они ему жмут…
Когда-нибудь вспомнит он эти минуты!
«Кто умер, тот умер. Покуда он жил…»
Кто умер, тот умер. Покуда он жил,
Ему открывались загробные дали,
И лиственный шелест предвестьем служил
Нездешних садов; не вдаваясь в детали,
Он что-то такое себе представлял,
Какой-то кустарник, быть может, аллею,
Где он в этой жизни с любимой гулял
И там обязательно встретится с нею.
Но небо есть небо, там нет ни дубов,
Ни улиц, ни ярких цветов на балконе,
Хотя у художников Средних веков
Ландшафт ему нравился потусторонний,
Но небо есть небо: щепотку земли,
Песчинку, травинку – и ту не достанешь.
Кто умер, тот умер, его погребли –
И он не воскреснет. Откуда ты знаешь?
Жаль занавешивать белую ночь…
«Теперь, когда стихи пишу, меня сомненье…»
Теперь, когда стихи пишу, меня сомненье
Одолевает: кто прочтет стихотворенье
И нужно ли оно кому-нибудь? Вот столп
Александрийский, он внушает восхищенье,
И мало что при нас сравниться с ним могло б.
Как нравится он мне на площади Дворцовой!
Представить без него нельзя ее, подковой
Лежащую под ним, – и в бурях уцелел,
И в бедах – вековой, гранитный, образцовый,
И Пушкин на него задумчиво смотрел.
Он мог, свои стихи с ним сравнивая, даже
По праву вознести их выше, но не наши!
И, шестистопный ямб взяв у него взаймы,
Я думаю о том, что столп стоит на страже
Всего, что он любил, надежнее, чем мы.
У фонтана
Как брызги фонтана на пар от фонтана
Похожи, на влажную дымку тумана,
И тень эта, пар, долетает, как дым,
К садовой скамье, на которой сидим.
Фонтан белогривый, фонтан пышнотелый,
Еще он похож на костер, только белый,
Готовый зайти за любую межу.
Зачем на него я так долго гляжу?
Подумаешь, невидаль! Надо ль об этом
Вертеть так и этак строку и предметом
Таким свое зренье и ум занимать?
Еще он похож на упавшую прядь.
Но тут же приподнята чьей-то рукою.
А я недоволен своею строкою
И, путаясь, вновь возвращаюсь к нему –
К фонтану все в той же пыли и дыму.
И чувствую – можно, и думаю – надо!
И в эти минуты ни боль, ни досада,
Ни зло мировое, ни смерть, ни обман
Меня не волнуют, а только фонтан!
«Одуванчика желтое солнце…»
Одуванчика желтое солнце
Разгорится в ворсистой траве –
И метафора эта придется
По душе нам, их здесь даже две.
И трава не трава еще – травка,
И апрель на дворе, а не май,
Но каемка ее как заявка
На счастливую жизнь, – принимай!
В основанье садовой ограды,
Обрамляя ее зеленцой,
Эта травка, которой мы рады,
Подрастает неспешно, с ленцой.
И плитняк, укрепленный замазкой,
Осыпающийся здесь и там,
Тронут этой брезгливою лаской
И, ветшающий, нравится нам.
1837-й
Франц Антон фон Герстнер с паровозом
На вокзале Витебском стоит.
Паровозик кажется подносом
На руках его, – забавный вид,
Держит он его двумя руками,
Столько сделав для страны чужой,
Бронзовый, лесами и лугами
Соблазняет, скоростью большой.
Что же, ехать подано, садитесь?
Но, пройдя в вагон, – счастливый путь! –
Мысленно еще раз оглянитесь:
Есть что вспомнить, есть о чем вздохнуть.
Первая железная дорога
Шла отсюда в Царское Село.
Кукольник о ней в стихах убого
Написал, но тексту повезло,
Потому что Глинка эти строки
Положил на музыку, пропел.
Пушкин бы проехал по дороге,
Написал бы лучше, – не успел!
Царскосельское
Как трава одела закоулок…
И. Анненский
Ощущалось соседство большого дворца,
Как присутствие моря на юге,
И такое же чувство, как радость пловца,
Возникало во мне на досуге,
И хотелось, уж коли в гостях на полдня
Оказался, к дворцу непременно
Подойти, чтобы там окатила меня
Кружевная барочная пена.
Но пошли мы не к пене узорно-лепной
И парадности многоколонной,
А к скучающей бывшей гимназии той,
В распорядок учебный влюбленной
И директора, – каменный желтый фасад
И квартира его в бельэтаже.
Во дворце не напишешь стихов, что томят,
А ночами преследуют даже.
Нева
Нева – названье для реки
Как будто боги выбирали,
Свои спуская челноки
На эти волны, и едва ли
Им финский корень важен был,
Обозначающий болото.
Гребя к заливу что есть сил,
Они предчувствовали что-то.
Как будто шпиль уже блестел,
Как будто купол за туманом
Уже быть названным хотел
В стихах Исааком-великаном,
И мы не мы, и вы не вы,
А сновиденья, изваянья,
И не придумать для Невы
Другого, лучшего названья.
«Жаль занавешивать белую ночь…»
Жаль занавешивать белую ночь
Шторой, как статую, под покрывалом
Прятать, она, словно царская дочь,
Счастьем запретным влечет, небывалым,
Ей бы стоять в пантеоне богов
Рядом с Афиной или Афродитой,
Если б до невских доплыть берегов
Мог Одиссей, южной ночью накрытый.
Все-таки видишь, как нам повезло
В дальнем краю, на окраине мира?
Отодвигается горе и зло,
Залита белою ночью квартира,
Хочешь – читай, а не хочешь – иди
Шагом по улице быстрым и бодрым.
Пусть даже гибель грозит впереди, –
Под покровительством ты и присмотром.
Ад, если бы он был…
Ад, если бы он был, то готикою ранней
Порадовал бы нас, наверное, и поздней,
А может быть, еще острей и многогранней
Он был бы, горячей, мощней и грандиозней,
Похожий на костер, на вздыбленное пламя,
К нему из райских рощ тянулись бы туристы –
И он бы обжигал своими языками,
Облизывал бы их, дымящийся и мглистый.
А рай, когда б он был, то, может быть, барочным;
Могу его себе представить и ампирным;
А ренессансный рай мне нравился бы точно,
С сиянием его приветливым и мирным,
Меня бы и модерн устроил светлоокий,
Его парадный двор, как сцена круговая,
Гуляете один, но вы не одиноки.
Да только не хочу ни ада я, ни рая.
«Фасад казался мыслящим…»
Фасад казался мыслящим,
Хотелось мысль понять.
Он был в граните высечен
И вечности под стать,
С чудесной асимметрией
Своих полуколонн,
Казалось, при безветрии
Волнами ходит он.
И в нем потустороннее,
Казалось, что-то есть,
И странная гармония,
И сумрачность, и честь,
Не меньше, чем у Гектора,
И знанье, может быть.
Хотелось архитектора
О жизни расспросить.
«Колокольный звон в Венеции…»
Колокольный звон в Венеции
Как качанье на трапеции,
И, как солнце, отражается
Он в воде ее густой,
И как будто утешается
Он несбыточной мечтой.
Колокольный звон в Венеции
Как пример большой коллекции,
Где соборы соревнуются –
Чье звучанье тяжелей,
И как будто практикуются
В утешении скорбей.
Колокольный звон в Венеции.
Потерпи, дождись каденции,
Ты свернул в кривую улочку,
Перешел через мосток?
Не спеши: одну минуточку,
Всё ли понял ты, что мог?
Под мостами
Мы проплыли, наверное, под двадцатью мостами,
Может быть, тридцатью, почему бы не сорока?
Мы проплыли такими блистательными местами,
Что в Венеции их оценили б наверняка
И признали бы Мойку своей, и Фонтанку – тоже,
И просили бы Крюков канал одолжить на час
Или два: пусть Никольский собор как на узком ложе
Возлежит, отражаясь в нем, и вспоминает нас.
Мы проплыли, наверное, под сорока мостами,
Попадая при этом в такую густую тень,
Что сравнить с крышкой гроба хотелось ее, цветами
Завалить, только жаль омрачать столь прекрасный день,
А рассказ «Смерть в Венеции» нравился мне когда-то,
А потом потускнел, подурнел, побледнел, поблёк.
А Нева, – мы вошли в нее, – так широка для взгляда,
Охватить одним взглядом хотел ее – и не мог.
«Старик, как будто он Екклесиаст…»
Старик, как будто он Екклесиаст,
С опущенными уголками губ
За эту жизнь и ста рублей не даст
Не потому, что мелочен и скуп,
А потому, что жизнью утомлен.
Скептические складочки у рта
Не нравились мне: слишком мрачен он,
Всё суета сует и суета.
В троллейбусе сидел передо мной
И на меня посматривал порой
Так хмуро, словно, скукою томим,
Знал, что в душе я не согласен с ним,
Что нравится мне эта суета.
Когда к нему прилипло навсегда
Такое выражение лица?
Мы ехали вдоль Зимнего дворца.
«Где-то видел я, где? – водосточный желоб…»
Где-то видел я, где? – водосточный желоб
С головою химеры, вода из пасти
Выливалась во время дождя – и короб
Лубяной он мне напоминал отчасти,
Только гулкий, железный, прямоугольный,
В ядовито-зеленый был цвет покрашен
И внушал бы, наверное, страх невольный,
Если б не был смешон: кто смешон – не страшен.
Хороши эти выдумки, их старинный,
Фантастический облик, забытый нами.
Где-то видел я, где? – этот зев звериный
И под ним с ноздреватой ложбинкой камень, –
То ли в Марбурге, то ли в английском замке,
Нет, в Венеции вряд ли, там дождик – редкость.
Эти детские выходки и приманки,
Где-то видел, как вечность приходит в ветхость.
«Всё то, что я сказал, и всё, что мне сказали…»
Всё то, что я сказал, и всё, что мне сказали,
И всё, что я прочел, увидел, испытал,
Быть может, это все хранится где-то в зале,
Вся прожитая жизнь, подробности, детали, –
Я побоюсь зайти в такой музейный зал.
Египетский – и тот отрадней с ним в сравненье.
Ну мумии в своем истлевшем облаченье,
Приставленные к ним прислужники, жрецы,
Вся эта ерунда загробная, скопленье
Игрушечных зверей, сосуды, изразцы…
А я… меня страшат мои воспоминанья,
Я радости свои увижу и страданья,
Страданья, – никогда бы так я не сказал
При жизни, громких слов чуждаясь и желанья
Разжалобить себя. Закройте этот зал!
Из века в век…
«Потому что большая страна…»
Потому что большая страна,
Потому что она за полярный
Круг заходит, светла и темна,
Мурманск мрачный и Крым лучезарный,
Потому что есть Дальний Восток,
И Амур, и Охотское море,
Потому что заблудится Бог,
Затерявшись на этом просторе.
Потому что не видно в Москве,
Что творится в Назрани, в Сибири,
Потому что хватило б на две,
Три страны этих дебрей, четыре,
Потому что блестит Петербург
С золотым Петропавловским шпилем,
Потому что смущен Демиург
И присел на валун, обессилев.
Посреди разливанных стихий
И пожаров лесных краснокожих
Вы б хотели народных витий
И партийных дебатов, я тоже,
Но стихами наш путь освещен,
И Алябьев поет с нами вместе,
А до неба в алмазах еще
Далеко, нет, не триста, лет двести.
«А в Англии мы жить бы не могли…»
А в Англии мы жить бы не могли,
Особенно в провинциальной, там
Пришлось бы проводить за днями дни,
Садовым посвятив себя цветам,
Живя для них, прислуживая им,
Пропалывая, поливая, – сплошь
Левкои, орхидеи с отложным
Воротничком, а если не польешь,
Не выровняешь, не подрежешь роз,
Считай, что совершил великий грех.
Ты должен быть на Симпсонов похож
И Джонсонов – нельзя быть хуже всех.
«В Швейцарии, где пыль стирают даже с прутьев…»
В Швейцарии, где пыль стирают даже с прутьев
Ограды, где царят порядок и покой,
Наверное, живут неплохо, но забудьте
Там о стихах, и нет там прозы никакой, –
Так думал я, страну чужую проезжая,
В Женеве день прожив и в Цюрихе полдня.
Озерная мне гладь являлась голубая,
И горы посмотреть сбегались на меня.
Я говорил им, что Руссо от них к французам
Ушел, а вслед за ним и Бенжамен Констан,
Но озеро моим потворствовало вкусам,
И дымкой угождал альпийский мне туман:
Перегородок нет, не может быть и рамок,
Предвзятость вообще несносна, как вранье,
И Байрон показал в стихах Шильонский замок,
Да и Набоков жил в гостинице в Монтрё.
«В Америке есть всё, что надо: и прохлада…»
В Америке есть всё, что надо: и прохлада,
И зной, и мрак лесной, и грохот водопада,
И океаны с двух теснят ее сторон,
А как высок Нью-Йорк: не город, а громада,
А Бостон, Балтимор, Чикаго, Вашингтон!
И жизнь там хороша, и есть там, есть свобода,
Но не хватает мне в Америке чего-то,
Чего? Всего того, чем дорог Старый Свет:
Монтеня, например, Рублёва, Гесиода,
И Аполлон бы там смешон был, Мусагет.
«А может быть, Зевсу, Гермесу, Афине…»
А может быть, Зевсу, Гермесу, Афине
И всем остальным эта жизнь надоела, –
Они и свернули по этой причине
Свое всеохватное, вечное дело,
Как старый ковер, потемневший от пыли,
С чудесным рисунком, волшебным сюжетом,
Свернули и место свое уступили
Другому – и не пожалели об этом.
Другой с той поры надзирает над миром,
К другому в страданье протянуты руки,
И он не с Гомером уже, а с Шекспиром
О счастье и горе, любви и разлуке
Тайком говорил и рассеивал тучи,
Чтоб дать передышку нам в жизненной драме.
Другой! Вы уверены, что не наскучит
Ему это всё, в том числе – и мы с вами?
«Однажды был и я на вилле Адриана…»
Однажды был и я на вилле Адриана
И помню: вспоминал там Царское Село.
Быть может, поздно жить отраднее, чем рано.
Чем позже начал жить, тем больше повезло.
Жить утром хорошо, жить вечером прекрасно,
Или наоборот. Бывает, по утрам
Не хочется вставать, хотя светло и ясно,
А вечером и дождь не досаждает нам.
Смотря где жить, кем быть, что видеть, в чем спасенье
Искать, найти его иль так и не найти,
Но мрамора в воде живое отраженье,
Но Рим! Но Петербург! Но солнце! Но дожди!
«Шествие – и совершенно неважно…»
Шествие – и совершенно неважно,
То ли волхвы, то ли воины, то ли
Боги идут олимпийцы вальяжно,
Преданы каждый порученной роли,
Важно одно, что на фреске, на фризе
Так они шествуют мерно и стройно,
Что в их колонну, себя не унизив,
Хочется вклиниться благопристойно.
Изгородь можно при этом живую
Вспомнить, где столько кустов, что не лишним
Будет еще один, лишь бы в цветную
Шаль был завернут на радость Всевышним,
К вашим соцветьям, узорным, ажурным,
Нет и у пчел никаких нареканий,
Вас и ценитель рельефов, скульптурных
Изображений поймет, изваяний.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































