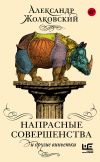Читать книгу "Тризна"

Автор книги: Александр Мелихов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
В принципе за смену можно «запарить» – вбить в горячую грязь здоровенным двуручным чурбаком, «бабой» – две ошкуренные деревянные сваи, но чаще всего труба во что-то упирается, и это «что-то» нужно либо извлечь, либо обойти, сдвинуть сваю так, чтобы она все же не ушла за пределы фундамента. Обычно невидимые валуны подбрасывала морена, но еще больше мороки создавало тяжелое наследие давно исчезнувшего гаража, – зато, если не брезговать, а раздеться до пояса и запустить руку в горячую грязь до самой шеи, то иногда удается извлечь даже и еще один коленвал.
Олег всегда был готов погружаться в грязь первым – тогда он чувствовал себя особенно сильным и красивым.
Хотя долга зубоскальства это не отменяло. И при запарке свай постоянной темой служил метангидрат, он же гидрат метана, помесь метана с водой, топливо будущего, таящееся в вечной мерзлоте, которое когда-нибудь может быть распечатано потеплением. Вот так же вот какой-нибудь чувак однажды запустит руку в оттаявшую вечную мерзлоту, а оттуда рванет метангидратное ружье, – тут и свету конец.
А может, гейзер просто однажды забулькает метаном, – тогда к нему нужно поскорее присобачить крантик и топить газом, когда кончится нефть (через тридцать лет, уверяет Иван Крестьянский Сын, – патриоты обожают запугивать концом света, чтоб Россия наконец поняла, что отступать некуда).
Или метан уже забулькал?.. Что-то стена давно вибрирует, будто палуба миноносца, с которого ухнул за борт Пит Ситников. А, это оранжевый Анатоль работает ножовкой! Стена начинает дрожать, когда что-нибудь пилит любой из парней, но подрожит, подрожит и стихнет, всем нужна передышка, один Анатоль может шаркать пилой вечно, словно пилорама, на которой они из бревен напилили брусьев, чтобы теперь на них восседать на пятиметровой высоте. Еще когда они таскали брусья к будущей стройке, Олег заметил, что Анатоль никогда не устает и ему даже никогда не больно: брус понемногу вдавливается в плечо так, что едва удерживаешься от мычания, а Анатоль шагает как ни в чем не бывало и еще через плечо обсуждает, в чем стилистическая разница между словами «пох…южил» и «попиз…юхал». В первом чувствуется напор, а во втором небрежность, отвечал Олег, изо всех сил стараясь, чтобы ответ не прозвучал стенанием, а Анатоль тем временем обращает внимание на приземистую криволапую собачонку, у которой сосцы почти волочатся по земле, и философически замечает: и эту кто-то вые…л…
При виде собачьих свадеб, когда за какой-нибудь жалкой сучонкой увязывается целая орава кобелей от драного барбоса до звенящего панцирем медалей атласного дога, Олегу тоже приходили в голову подобные философические размышлизмы – сильна-де, как смерть, но под пыточным остроугольным брусом вся его воля была сосредоточена на том, чтобы не прослыть слабаком, а то Анатоль очень уж пренебрежительно махнул рукой, рассказывая о предыдущем своем напарнике – Грошеве: «Бросил го́внарь…» У Анатоля всегда была наготове загадочная поговорка: «Все вы говнари, кроме Коли Хрусталева». В пропахшем распаренным деревом полумраке банного застенка все парни по части мускулов смотрелись неплохо, если не считать толстячка Бори Каца, но и он выглядел милым пластмассовым пупсом, а Юру Федорова и вообще можно было хоть сейчас выставлять на соревнование по бодибилдингу (красивое новопробившееся словцо), и все-таки у Анатоля мускулатура была самая рельефная, он был бы и вовсе похож на какое-то пособие по анатомии, если бы не щедрая россыпь оранжевых веснушек на его плечах и спине.
У него и этот самый казался сухим и жилистым, даже когда в бане не было горячей воды и у всех их хозяйство съеживалось – у пузатенького Бори под его гладеньким животиком так и до почти полной неразличимости (у Грузо тоже было ничего не разглядеть – он до того лохмат, что даже не выглядит голым, словно какой-нибудь орангутанг). «На раз поссать» – любит ронять Лбов, никого конкретно, впрочем, не имея в виду. Мериться х…ями у него означало ссориться из-за нелепых понтов. И когда Грошев однажды упомянул, что у него двадцать первый палец такой же длины, как у Григория Распутина, то тут же приобрел прозвище Лука с намеком на Луку Мудищева, о котором все слышали, но толком ничего не знали, ходил по рукам только потрепанный листок с затертой машинописью, из которой Олег сумел припомнить лишь одно четверостишие: «В придачу бедности отменной Лука имел еще беду – величины неимоверной восьмивершковую елду». Было немножко даже похоже на Пушкина, и Грошев попервоначалу принял крещение с презрительной кислой усмешкой. Но когда Галка, еще не всех запомнившая по именам, спросила простодушно: «А где Лука?» – и Грошеву ее вопрос с большим удовольствием передали, он ответил с уже серьезной злобой: «Я ей матку выверну». Это было так неожиданно и так мерзко, что все замерли, а потом, не сговариваясь, решили не расслышать. И только толстенький Боря поднялся со своей провисшей койки и, стоя по стойке смирно, по-пионерски звонко отчеканил: «Грошев, ты свинья».
– Чего-о?.. – развернулся к нему Грошев, но тут уже все привстали со своих расплющенных матрацев, и Грошев предпочел сплюнуть и удалиться.
Но больше Лукой его никто не называл – здесь никто никого не хотел обижать всерьез.
В последние дни, словно желая доказать, что в том постыдном эпизоде его просто подставили, Грошев, к концу шабашки начавший назло врагам подкручивать вверх щегольские матросские усики, все сверлит и сверлит дырки для шипов, как их именует Мохов, или нагелей, как их, подначивая Крестьянского Сына, называет Грузо; на эти шипы наверху брусья насаживают при помощи киянки – кувалды из целого чурбака. Наносить точные удары этим чурбаком, балансируя на пятиметровой высоте, задача не для слабаков (Галка и на земле не сумела попасть, так ее развернуло), поэтому Олег особенно любит этим заниматься, но Грошев адресует свое усердие не такой заурядной личности, как Сева, а самому неутомимому пахарю – Анатолю, Барбароссе. Анатоль, за пару суток обрастающий солнечной щеткой, невероятно мужественной в контрасте с его миниатюрным носиком, действительно работает без перерывов, как станок, и не корысти ради и не в укор кому-то – просто он не понимает, зачем просто так сидеть, если можно что-то делать. Анатоль после техникума успел поводить экспедиции по тайге и удивил в свое время Олега тем, что таежные волки заботятся о крохах возможных удобств – на чем есть, на чем спать, больше, чем чечако, считающие шиком пренебрегать удобствами. Он и стол у них в бараке не просто сколотил без щелей, но и еще и выстругал до лоска раздобытым где-то фуганком. Но гравитационное поле Обломова и его вытянуло из таежных бабок на студенческую «стипуху».
Его напарник Тарас Бондарчук, он же Джеймс Бонд, пребывает в авторитете уже за одно то, что Анатоль с самого начала шабашки работает в паре именно с ним. Олег, случайно взглядывая на Тараса, не сразу вспоминает, чем он замечателен, пока мысленно не пририсует ему усы Тараса Шевченко, иначе его утиный носик и черные глазки придают ему обличье обычного смазливого парубка. Включенность в Историю – и только она – придает людям значительности, – ведь История теперь единственное подобие бессмертия. И главная значительность Тараса, историческая значительность, так сказать (а какая бывает еще?), – его отца расстреляли как бандеровца. Притом через много лет после войны, когда уже вроде бы не косили всех подряд…
И парни даже за глаза никогда это не обсуждали, как будто не сговариваясь решили: было какое-то всеобщее умопомрачение, в котором не разберешься, лучше и не ворошить. Это мудро и даже великодушно – но ведь отказ от безумства есть и отказ от Истории, не может быть, чтобы это удержалось навсегда. Когда-нибудь захочет же Тарас оправдать и возвысить своего отца… Тогда и других потянут поля их отцов, которые стреляли в Бонда-старшего, да вряд ли и он подставлял другую щеку…
Вот тогда что-то и начнется. Новая История.
Но пока все делается правильно, победители на детях не отыгрываются, – взяли же без всяких-яких Тараса на их аристократический факультет – евреев куда больше притормаживают. Грузо, правда, приняли без экзаменов через городскую олимпиаду, а Кацо пришлось перейти в шаромыгу – школу рабочей молодежи и отмантулить два года у станка ради рабочего стажа, даже грамоту он там какую-то получил. Правда, и в стенгазете его пропечатали за то, что плохо убирал станок (ему по рассеянности казалось, что хорошо): на карикатуре Боря улепетывал прочь с книжкой под мышкой, а станок утопал в стружках. «Гудит гудок, и на работу рабочая шагает рать. А у него одна забота – два года стажа бы набрать», – Лбов откликнулся эхом куда поинтереснее: «Гудит, как улей, родной завод. А мне-то хули – е…сь он в рот».
Однако и стройка гудит, как улей, пора за долото. Но сначала скинуть надетый на голое тело ватник, чтобы на потягивающем ледком ветерке ухватить последнего солнышка – уж очень хочется предстать перед Светкой хоть немножко шоколадным, каким он всегда становился за три первых солнечных дня. А вот здесь он не особенно загорел, хотя каждое утро на улице делал зарядку без рубашки. Пока прыгаешь и машешь руками, вертолеты от тебя отскакивают, и только Лбов не упустит случая пропеть: «Если хочешь быть здоров, закаляйся, голой жопой об забор ударяйся». Олега немножко огорчало, что при всех своих спортивных разрядах он выглядит слишком хрупким, он даже, как ни жалко было терять этот атрибут мужественности, сбрил бороду, подчеркивавшую подростковость его фигуры (не хрупкой, а изящной, протестовала Светка), но здесь он подразъелся и подраздался, и Барбаросса с Бондом, не сговариваясь, снова нашли, что он похож на Кассиуса Клея, превращенного гравитационным полем Нации ислама в Мухаммеда Али. Приятно слышать, теперь можно и перед Светкой покрасоваться (он даже мысленно не мог назвать ее женой – это было слишком уж грубое слово общего пользования).
Бахыт же на их вердикт только усмехнулся: хоть они и друзья, он считает, что мужчины не должны говорить друг другу комплименты, их дружба должна выражаться исключительно в делах. Олег сам когда-то так думал, пока однажды не понял, что слова куда важнее дел, если уж речь не идет о спасении жизни: нам важнее ощущать себя значительными и красивыми, чем приобрести еще одно удовольствие. Или даже миллион. Вот сам же Бах зачем-то отделывает на торцах брусьев чуть ли не до шлифовки «папы» и «мамы» – выступы и впадины, куда выступы должны входить как можно плотнее, – хотя они так и останутся внутри стены, и никто их не увидит, если только зимой их коровник не разопрет снегом, как пугают знатоки трестовское начальство, если оно не достанет материалов для перекрытия (начальство, однако, давно привыкло смиряться с неизбежным). Олега раздражает эта бессмысленная трата времени, он говорит Бахыту, что тот занимается самоудовлетворением, но в глубине души понимает, что самоудовлетворение красотой для человека и есть самое главное, красота самое мощное силовое поле. Если, конечно, речь не идет о спасении жизни. Но ведь когда речь заходит о спасении жизни, человек и перестает быть человеком.
Вот на углу машут топорами два водника – один морской, Пит Ситников, другой пресноводный, Лбов, просто Лбов, имени он как будто и вовсе не имеет – так ему к лицу его фамилия: Лбов, кратко и внушительно. Так для этих водяных волков красота, наоборот, в том, чтобы все тесануть одним махом, что не лезет, вбить киянкой, да поскорее накрыть новым слоем халтуры: не зря же народ называет шабашку еще и халтурой, а волю народа надо выполнять, уверяют они. Способ крепления угловых брусьев друг в дружке называется «ласточкин хвост», но бравые морячки-речнички зовут его «лисий х…й». И держится все у них на этих х…ях пока что не хуже прочих.
Они, пожалуй, самые бравые орлы на нынешней шабашке. Пит своей наружностью очкастого шибздика и щепетильностью в вопросах учтивости довольно часто провоцирует наглецов щелкнуть его по носу, после чего наносит им сильное разочарование, демонстрируя первый разряд по боксу и второй по самбо. Мать когда-то с горя и с бедности сдала его в нахимовское училище как сына морского офицера, погибшего при исполнении особого задания, откуда Пит автоматом перешел в училище военно-морское. Он уже обрел военно-морскую гордость и научился называть моряков торгового флота торгашами, когда на его счастье и на его беду в училище пригласили выступить академика Обломова.
Обломов рассказывал о принципах подобия в механике – как по маленькой модели предсказать, что будет с настоящим кораблем – до того по-простому, что Пит уже тогда готов был пойти за Обломовым хоть в гамельнскую реку. Обломов похвалил англичанина Фруда, но все-таки выше всех поставил академиков Седова и Крылова, торжественно прибавив, что русские ученые всегда царили в нелинейной механике и мы должны беречь славу дедов. И тут же разрядил торжественность анекдотом: при проектировании первого дредноута кто-то предложил взять крейсер и все пропорционально увеличить, а Крылов возразил: «Боюсь, матросы будут в гальюны проваливаться».
Курсанты грохнули, и кто-то решился спросить, каким образом Обломов потерял зрение. «Председателя колхоза хотел гранатой пугнуть», – ответил Обломов, дрогнув уголками губ. Это Пита и доконало: он твердо решил пробиваться к Обломову, а когда ему отказали в вольной, он решил пугнуть начальника училища взрывпакетом. Он надеялся, что его просто вышибут, но вместо этого загремел сначала под суд, а потом рядовым на флот, и теперь свои морские рассказы он начинает присказкой: «Когда я служил под знаменами адмирала Нельсона…» У берегов Абхазии непроглядной субтропической ночью он шел по палубе на ощупь, отыскивая ограждающий леер. А леера не оказалось. И Пит оказался за бортом.
Пит был хороший пловец, а берег вроде мерцал огнями не так уж далеко, но, как на грех, на траверзе его судна впадала в море река Кодори, и он скоро обнаружил, что теряет силы, а берег мерцает все там же. И он решил лежать на спине, лишь слегка пошевеливая руками-ногами… Вода, к счастью, была довольно теплая, хотя до человеческих тридцати шести и шести далеко недотягивала – а теплоемкость у воды, как известно, самая большая на планете. Так что когда его на следующий день подняли на борт, его колотило, он не мог выговорить ни слова, а замполит принялся его трясти за голые плечи: «Признавайся – в Турцию хотел удрать?!»
Пита разыскало его же собственное судно – капитан вычислил, куда его могло отнести течением. Как же ты столько часов продержался на воде, допытывался Олег, и Пит отвечал с роскошной небрежностью: «Жить захочешь, продержишься». Остальные парни тоже снисходительно улыбались Севиной наивности, как будто и для них самое обычное дело восемь часов проболтаться в открытом море. А Лбов мог на автомате и обронить в сторону: говно не тонет. На что Пит так же на автомате реагировал: «Лоб, хочешь в лоб?»
Такой у них, у водников, был принят стиль общения, без обид.
Что еще Пит вынес с флота – искусство резать картошку для жарки, Галка даже иногда звала его на кухню ей помочь, и Олег непременно увязывался полюбоваться: Пит, соскальзывая лезвием с ногтя указательного пальца, начинал мелко-мелко стучать ножом, двигая указательный палец в сторону еще не иссеченной части, и проходил всю картофелину секунды за две, за три.
Но надо что-то ответить Бонду, чтобы переключиться с комплимента на что-нибудь попроще.
– Ну, что, сбацаем сегодня рок для тружеников Заполярья?
После обеда на прощанье бригада задумала отгрохать концерт в бараке культуры, а они с Тарасом с детства были ушиблены рок-н-роллом, эхо которого они мальчишками успели захватить один в Западной Сибири, другой в Галичине.
Пацанов на танцы не пускали, и они пялились на танцплощадку – рассохшуюся кадушку света в облезлом городском парке – сквозь бесчисленные щели, дожидаясь, когда скучные танги и фокстроты, оживляемые только краткими драками да затянутыми обжиманиями, наконец сменятся взрывом, который ни билетерша, ни усатый милиционер Кот Вася никогда не могли предугадать заранее. Внезапно оркестрик умолкал, и где-то среди как бы веселящейся, но на деле томящейся от скуки толпы словно бы сам собой возникал кружок, в котором кто-то из парней начинал ритмически ударять в вогнутые для звучности ладоши, выкрикивая пронзительным фальцетом:
– О бимби, мамбо рок! О бимби, мамбо рок! О бимби, мамбо рок! О бимби, мамбо рок!
А когда все превращались в слух, он вопил еще более пронзительно:
– О хали, хали, аксакали!
И вся танцплощадка, и даже пацаны у щелей грозно подхватывали:
– О бимби, мамбо рок!
– О пати, пати, калапати!
– О бимби, мамбо рок!
– О пури, пури, саксапури!
– О бимби, мамбо рок!
И тут начиналось всеобщее беснование. Под пронзительные вопли диджея – правда, этого слова еще не знали даже самые продвинутые – парни прыгали, кувыркались, во все стороны света выбрасывали руки и ноги, крутили девушек вокруг себя, перебрасывали их через голову, протаскивали между ног, не обращая внимания на пронзительные милицейские свистки.
Ибо милиция и запреты – это был совок, хоть это слово еще и не родилось, а рок-н-ролл, как они называли эту пляску святого Витта – это была Америка, где было разрешено все, что запрещалось у нас. И пока униженный и опозоренный представитель власти со своим жалким колоратурным свистком пробивался к пятачку свободы, оттуда продолжали нестись пронзительные выкрики:
– К нам в кабак пришел Адам, я вам на ночь Еву дам, эта голенькая Ева мне порядком надоела…
И беснующаяся кадушка заходилась в экстазе:
– Пей вино, веселись и за груди ты держись!
Ведь именно так стопроцентные американцы и проводят свою жизнь.
А еще они кладут ноги на стол, ходят все по Броду и жуют чингам, и бара-бара-барают стильных дам.
Но Олег с Бондом превратили рок-н-ролл, для краткости рок, в такой акробатический номер, что даже Лбов перестал называть их педрилами.
Лбов тоже своего рода консерватор, Катон Старший. Он бережно хранит прибаутки, вывезенные с реки Таз: «Видел Савича? Что драл тебя давеча», «Тебя тут искали – двое с носилками, один с колуном»; когда левая рука Обломова доцент Баранов зачитал, что Лбов и Боярский на преддипломную практику направляются в кабэ речного транспорта, Лбов с места отрапортовал: «Все пропьем, а флот не опозорим». В общежитии он время от времени натягивает вылинявшую тельняшку, вытаскивает за ремень из-под койки похрипывающую гармошку и заводит никому не известную песню: геть, ребята, под вагоны, кондуктор сцапает вас враз, эх, едем, едем мы от пыли черные, а поезд мчит «Москва – Донбасс»…
Он горланит с таким шикарным разворотом израненной, как бы малахитовой гармошки, что парни невольно подхватывают: «Сигнал, гудок, стук колес, полным ходом идет паровоз. Мы без дома, без жилья, шатья беспризорная… Эх, судьба моя, судьба, ты, как кошка, черная»…
Гравитационное поле тельняшки провоцирует Лбова и на буйные запои, иногда чуть ли не на неделю. Так бы он и гулял по Тазу, прихватывая с левых пассажиров дань мягкой рухлядью, а с пассажирок натурой, если бы однажды в «Огоньке» его не поразило безглазое рябое лицо академика Обломова. Великий ученый, пробившийся из механизаторов, говорил, что его научный центр остро нуждается в талантах из народа, которых в народной толще непочатая сокровищница…
И притяжение этого светила перевесило земную тягу беспутности.
– Сева, опять заснул?
Откуда здесь Бахыт?
– Сейчас, сейчас, дай хоть с домом проститься.
Он и вправду дома только у себя в воображении, а у реальности он в гостях. Теперь напоследок незаметно, как бы что-то изучая, припасть к свежему распилу, чтобы внюхаться в запах свежего дерева, от которого, он точно знал, теперь до конца его дней будет мучительно и сладко замирать сердце, и пора за пилу, за долото, за киянку.
Но руки делают, а глаза высматривают, чем бы еще тут на прощание восхититься. Тем более что доделывать осталось пустяки – вывести верхний венец на общий уровень, а уж кровлю будут выводить те, кто придет следом. Если коробку и впрямь снегом не разопрет. А пока парни, кому нечего делать, – буквально, из-за исчерпанности фронта работ, – обсуждают более фундаментальную проблему: стены возведены на могучих плахах, вполне пригодных для четвертования, а они, высыхая, начали понемногу закручиваться, превращаясь, как выражаются плотники, в пропеллеры. Галка уже удалилась варить-тушить свинью просто и рыбу-свинью, как в Доусоне называют осетра, и плахи теперь разглядывают, спустившись с обрешетки на землю, Гагарин, Федоров, Кац и Мохов, они же Гэг (изредка Кос, Космонавт), Тедди, Кацо и Крестьянский Сын. Все стоят спиной, и что они говорят, тоже не слышно, но догадаться вполне возможно. Гэг наверняка выдает что-то залихватское типа «Поздно, майор, ну его нахх!..»: его отец на фронте сцепился с каким-то майором, оба схватились за пистолеты, но отец успел свой выхватить раньше и с возгласом «Поздно, майор, ну его нахх!..» застрелил товарища по оружию. «И что потом?..» – «Да что потом, кто там на передовой будет разбираться!»
Это желание изображать гопническую прожженность Гэга и сгубило – он ведь был уверен, что Обломов оставит его при себе, а его отправляют обратно в родной Донецк, что будет там воспринято как поражение, сколько ни хмыкай пренебрежительно, что, мол, на Обломове свет клином не сошелся. Он ведь на Донбассе был первый физик и математик, механик и матрос, вступительные сдал на круглые пятаки, – на собрании «букварей» Обломов поднял его с места всем напоказ: достойно-де носит фамилию первого космонавта, – но гравитационное поле уличной шпаны, из-под обаяния которого Гагарин так и не сумел высвободиться, требовало изображать самородка-гопника, лишь случайно, чуть ли не смеху ради завернувшего в культурное общество. Язвительный Бах любит его подначивать: «Пошли в рабочку, позанимаемся», – чтобы посмотреть, как Гагарин вскинет руки: «Что мне, делать не хер, пошли лучше пивка попьем». Так вот вместе с пивом начали капать и четверочки, а под конец и трешечки.
После каждых каникул Гэг обязательно рассказывает, с кем он подрался в своем Донецке: «Техника этого дела охеренно возросла. Грузин попался здоровый, схватит – задавит, – я его гасил на дальних подступах» (люди с темной кожей во всем мире хорошо знают кулак белого человека). И каждая драка завершалась не менее героическим бегством от милиции: «У них в отделении сержант Янченко тоже хорошо бегает на средние дистанции», – Гагарин чемпион института именно на этих дистанциях. Но однажды на вечернюю пробежку за ним увязался Лбов, и Гэг так и не сумел от него оторваться. Это был цирк – Гэг в облегающем тренировочном костюме, узкобедрый, плечистый, разве что малость плосковатый, почти летит с невесомостью оленя из мультика, и рядом перебирает коротенькими ножками в своем развевающемся пиджачке мощачок Лбов, едва достающий Гэгу до подмышки. Аскетическое лицо Гэга с немножко вытянутым за кончик носом, как у капитана Ахава с кентовских иллюстраций к «Моби Дику», лишь слегка раскраснелось и подернулось испариной, а лбовская надутая физиономия попивающего маленького начальника уже переходила из багрового в фиолетовый, а льющимся из-под волос потом его пиджачок был закапан, будто дождем, – и все-таки Гэгу так и не удалось от него оторваться: если бы пробежка затянулась, Лбов, вполне возможно, реально отдал бы концы, но не сдался. Поэтому, когда однажды чем-то оскорбленный пьяный Лбов начал ломиться в его запертую комнату: «Эй ты, космонавт, выходи! Что, забздел?!» – Гагарин предпочел отсидеться за дверью: он понимал, что со Лбовым пришлось бы драться до тех пор, пока кто-то из них кого-то бы не убил.
И все-таки сейчас Гагарин наряжен в штопаную-перештопаную линялую гимнастерку полузабытого фасона – по его словам, отцовскую фронтовую: все-таки гравитационное поле Истории перетянуло гравитацию гопничества. Правда, при его черкесской талии, стянутой офицерским кожаным ремнем, и широких плечах в этой гимнастерке его можно было бы хоть сейчас снимать в качестве романтического героя из военного фильма, если бы не латаные-перелатаные, линялые-перелинялые джинсы, беспородные, но все равно фирмовые, то есть американские.
– И за эту рванину, тсамое, ты две стипендии отдал?.. – укоряет его Мохов. – В Америке, тсамое, такие в тюрьмах выдают, а ты за них последние деньги готов выложить!
– Ладно, изношу, в спецовку переоденусь. И в лапти.
Им действительно выдали синюю хабэшную форму, напоминающую о китайских товарищах, но носили ее только Мохов и Тед. Тед работал механиком в обломовском «Интеграле» и спецовку носил не корысти ради, а из какого-то неясного шика – в ней он выглядел еще более могучим (двести двадцать фунтов стальных мышц и сухожилий без единой унции жира). Мохов же и впрямь самый бедный у них в бригаде, но синюю пару и кирзачи он каждое утро натягивает больше из принципа: отцы-деды, мол, носили, а мы чем лучше, и солдатские эти сапоги идут его сутулой мосластости больше, чем бесплатные бутсы с шарообразными носами, которые не прорубить топором, а из-за их тяжести ноги аж заносит на поворотах. Мохов и о пропеллерных плахах наверняка провозглашает что-нибудь насчет отцов-дедов типа, сколько народ ни плющи, а рано или поздно он вернет себе свою природную форму. У него глубоко сидящие глаза, темно-синие, как его блуза, так называемое простое русское лицо, он кажется тугодумом – не блистает, как Боярский, не ловит все на лету, но вцепится в проблему, как бульдог, и жует, и жует, и в конце концов что-то разгрызает.
Боря, скорее всего, о плахах уже помалкивает, потому что, дай он себе волю, то провозгласил бы, что на пилораме работают недостаточно интеллигентные люди – в этом вся и беда, истребили интеллигенцию. Слово интеллигент для Бори так же священно, как для Мохова слово народ, только он произносит его в отличие от Мохова не с трагическим напором, а с горькой просветленностью.
Вернее, произносил, а потом перестал, поскольку Федоров постоянно наблюдает за ним, словно за симпатичной зверушкой, чтобы что-нибудь перестебать. Вполне, можно сказать, любовно, но Борю и это обижает. Однажды он не выдержал и припечатал Теда кратко и непримиримо: «Дрянь», – но Тед так смешно научился его передразнивать, что все уже ждали этого номера. Тед долго и внимательно вглядывается в Борю и с неким рокотком задумчиво обращается к нему: «Борьря…» – и вдруг сам себя прерывает, будто говорящий попугай: «Дрянь!» А потом снова впадает в задумчивость, как бы припоминая что-то: «Медведь спрашивает зайца: не найдется бумажки подтереться? Заяц протягивает ему половинку трамвайного билетика, а медведь подтерся зайцем и выкинул в окно… Борьря, у тебя бумажки не найдется?»
У самого же Федорова неожиданно нашлись несколько мятых и блеклых листочков камасутры – все поглядели, похмыкали, – наконец и Боря на своей койке оторвался от гальванопластики и заинтересовался, что это за самиздат пипл друг другу передает. Тед согласился дать и ему почитать при условии, что он будет лежать на спине и не станет прятаться под одеяло. Боря согласился, но уже через минуту перевернулся на живот. «Не смущайся, Борьря, когда мартышка трахалась со слоном, ей было еще хужее: сначала хохотала, а потом лопнула».
Смеются, однако, над Борей едва ли не с умилением – его не просто любят, его уважают. Все помнят, а кое-кто и видел, как Боря получил с женского этажа записку от персидской красавицы Фатьки, писавшей, что весь ее мусульманский клан ее отвергнет, если она выйдет замуж за еврея, а она на такое никак не может пойти, – никто не хотел обмусоливать, а может, кроме Олега никто и не заметил, как Боря сначала долго что-то рисовал пальчиком-сосисочкой в пивной лужице на фанерном столе и только потом вдруг вскочил на стол и оттуда ринулся в окно – с третьего этажа вместе с рамой. Видимо, на раме-то он и спланировал так удачно, что пролежал в больнице всего месяца два, а сейчас даже почти и не хромает, если не приглядываться.
Зато теперь их с беременной Фатимой отправляют в Кременчуг хромировать и никелировать на чудовищных КрАЗах – людоедах, как их ласково именуют водители, – все те же коленвалы или что там у них еще в лакировке нуждается.
Способен ли Сашук (цитаты из «Золотого теленка» уже забываются…), то бишь Тед понимать подобные чувства? Тед, которому, кажется, и вовсе незнакомы такие выражения, как «у них роман», «он ее любовник» – Тед во всем старается дойти до самой сути: он ее е…т. Когда Тед видит тетку, нагнувшуюся к кошелке, он раздумчиво обращается к окружающим: «А представьте, что она без одежды? Подошел бы сзади и зачавкал». Но этот же самый Тед уже чуть ли не месяц перечитывает отыскавшуюся в библиотечном бараке «Душеньку» Богдановича, переполненную амурами, зефирами, венерами, сапфирами… И время от времени, не выдерживая, зачитывает оттуда строфу-другую с такой разнеженностью, что становится очевидно, до чего он похож на молодого Баратынского:
Амур и Душенька друг другу равны стали,
И боги все тогда их вечно сочетали.
От них родилась дочь, прекрасна так, как мать;
Но как ее назвать,
В российском языке писатели не знают.
Иные дочь сию Утехой называют,
Другие – Радостью, и Жизнью, наконец…
Время от времени, поймав Олега за полу, Тед просит его в стотысячный раз выпеть «О Коломбина, верный нежный Арлекин здесь ждет один» – и с каждым разом все сильнее изумляется, каким это чудом Олегу удалось запомнить столь вычурный музыкальный узор.
Тед и концерт начал с изысканной эротики: «Для вас, души моей царицы…» – поигрывая глазками, словно убалтывал млеющую продавщицу через прилавок – млели они, похоже, не столько от его атлетизма, сколько от хорошенького до нелепости личика на могучей шее и губок бантиком.
А потом все пошло вразнос.
Стычка гравитационных полей началась еще за пиршественным столом, с которого ракетами на старте устремлялись в небеса длинношеие бутылки золотого токайского, оскорбленные соседством дюралевых мисок с ломтями свинины и осетрины. На токайском настоял Олег – прежде всего ради нездешнего звучания: токайское… – но и жалко было оставлять эту золотую причуду советского планирования сиротски светиться в убогой лавчонке среди батарей осточертевшего «Горного Дубняка», блекло желтеющего десятой производной краснодарского чая. Парни выколачивали пробки кулаком в донышко (за лето кулак стал таким мясистым, что было почти не больно), а потом клацались плещущимся золотом в зеленых эмалированных кружках с черными лишаями облупленностей, и нездешний напиток уносил их ввысь, в песню.