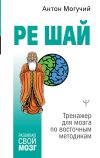Текст книги "Происхождение личности и интеллекта человека. Опыт обобщения данных классической нейрофизиологии"
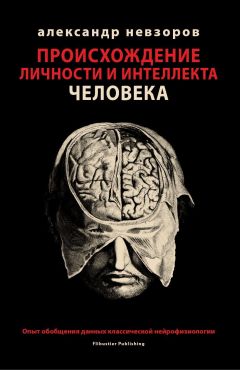
Автор книги: Александр Невзоров
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
При ее поражении возникает сенсорная афазия: «Это проявляется в виде утраты способности понимать свою и чужую речь, хотя больной хорошо слышит, реагирует на звуки, но ему кажется, что окружающие разговаривают на незнакомом ему языке» (Гайворонский И. В., проф. Функциональная анатомия нервной системы, 2007).
К чему приведена эта цитата из источника, который является эталоном концентрированного, радикального академизма?
Лишь к тому, чтобы еще раз напомнить, что Wernicke's area – это некая область головного мозга, которая не является просто «слуховой зоной». Ее функции крайне узкоспециализированны.
Проекционный центр «простого» слуха, или «ядро слухового анализатора», – это другая область мозга, это средняя треть верхней височной, и ущемление ее или повреждение приводит к утрате способности воспринимать звуки. (Частичной или полной глухоте.)
Сенсорная же афазия во всех ее ипостасях оставляет за больным способность полноценно и точно различать любые неречевые звуки и реагировать на них.
Но это, repeto, сегодняшняя ипостась задней височной извилины. Возможно, полтора миллиона лет, когда мозг животного homo оставил ее смутный отпечаток на височной кости, чуть кзади от sutura squamosa, функция этой части мозга была иной?
Вопрос только кажется сложным и коварным.
Ответ на него достаточно прост, ибо мы можем расставить точки над i, вычислив специализацию «тогдашней» Wernicke's area с предельной однозначностью.
Следует лишь отследить пути нервных волокон от интересующей нас зоны к первоначальным глубинам мозга.
«Перевернув» результат, мы получим понимание, какие именно древние структуры имеют своим эволюционным завершением заднюю треть верхней височной извилины.
Alias, сейчас мы узнаем не только «родословную» интересующего нас участка коры, но и его примерный возраст.
И что же мы видим?
Первоначально мы видим, что от нашей Wernicke's area уходят нервные волокна прямиком к нейронам проекционного центра слуха (в среднюю треть верхней височной извилины).
Идем дальше вглубь мозга, от средней трети верхней височной, следуя волокнам слухового пути, и обнаруживаем, что завершаются они в нейронах медиального коленчатого тела, проходя в составе radiatio acustica (слуховой лучистости).
Здесь можно остановиться, «перевернуть» результат и убедиться, что невнятное анатомическое образование на эндокранах ранних homo не может являться ничем иным, кроме как «продолжением» (или завершением) именно древнейших слуховых структур головного мозга.
(Странно было бы даже и предположить, что нейроны древних слуховых структур имеют или имели своим завершением обонятельный или тактильный анализатор. Это бы противоречило как логике мозга, так и его архитектуре.)
Возраст самого образования с точностью установить трудно, но судя по тому, что на древних эндокранах homo мы видим, несомненно, очень зрелую анатомическую структуру, мы вправе сделать осторожное предположение, что ее анатомическое формирование завершилось не менее чем 2–3 миллиона лет назад.
Можно сделать еще одну попытку установить ее возраст.
Для этого следует обратиться к открытию Давида Феррье (1843–1928), которое давно пылилось в закромах нейрофизиологии, будучи забытым и не очень востребованным.
Феррье еще в 1873 году установил, что верхняя височная извилина у всех высших млекопитающих животных является местом локализации слуховых функций. Возраст подобных формаций у животных (по самым робким и скромным подсчетам) – около 15–30 миллионов лет.
Я понимаю, что открытие Феррье не вооружает нас точными цифрами возраста исследуемой нами зоны, но прибавляет уверенности в неизменности функций верхней височной извилины в течение достаточно долгого времени, в который гарантированно «помещается» наш сверхкраткий (по меркам цереброгенеза) срок в два миллиона лет.
Достойно упоминания, что Уайлдер Пенфилд при электрораздражении «зоны Вернике» получил очень странный эффект.
«Когда раздражается слуховая область коры, субъект по-разному описывает звуковые ощущения: как звон, щелканье, прерывистый шум, щебетанье, гудение, стук и грохот, но у него никогда нет впечатления, что он слышит слова, музыку или что-либо, что представлено в памяти» (Пенфилд У. Г., Робертс Л. Речь и мозговые механизмы, 1965).
Имеем ли мы право предположить, что Пенфилд своим экспериментом извлек из верхней височной извилины ее древнюю биологическую программу, заложенный в ней «сложношумовой анализатор», который позже был переориентирован под речь?
Puto, что это было бы очень красивым и смелым, но ничем не подкрепленным предположением, ощутимо оказывающимся ultra limites factorum. Упоминания эксперимент Пенфилда, безусловно, достоин, но права на серьезные выводы он не дает.
Оставим его в покое (для будущих гениев нейрофизиологии) и посмотрим, что мы имеем доказанного и несомненного.
Ergo, та нейроанатомическая формация, которую мы сейчас называем Wernicke's area, или «центр понимания речи», существует как структура мозга не менее двух миллионов лет.
Она никогда и не могла иметь никакой иной специализации, кроме слуховой.
Безусловно, задняя треть верхней височной извилины является «эволюционно финальным» корковым образованием, задача которого – сложная анализация последовательных звуковых сигналов разной интонированности и высоты.
Как я уже сказал, в природе нет ничего, кроме человеческой речи, что полностью подходило бы под это определение и увязывалось бы с видовыми наклонностями и особенностями обладателя такой функции.
(Здесь мы еще не рассматриваем ни очевидную акустическую «скудость» речевого аппарата homo, ни ее причины. Absolute, это очень важная тема, возможно, расставляющая часть точек над i в вопросе зарождения и развития речи, но об этом – чуть позже.)
Да, существует пение птиц, которое фонетически так же сложноинтонированно, и разновысотно, и протяженно, и, возможно, информативно. Но эволюционная ориентация homo исключает потребность в сверхсложном «дешифровщике» птичьего пения. Потребность в нем могла бы быть оправдана только половой необходимостью, но заподозрить животное homo в сексуальном интересе к птицам довольно сложно.
Учитывая почти бесконечную вариабельность языка птиц и само количество этих «языков», расшифровка их звуков не могла дать и никакого особенного преимущества при охоте на них.
К тому же, все, что мы знаем о homo палеолита исключает возможность даже самой простой охоты, не говоря уже о технически сверхсложной охоте за птицами.
Среди млекопитающих тоже, scilicet, есть существа, коммуницирующиеся с помощью очень сложных, многослоговых, голосовых последовательностей.
Это – Microchiroptera (летучая мышь), в особенности, такие ее разновидности, как антрозоусы, щелемордые и футлярокрылые мыши. (Впрочем, безусловным лидером является Tadarida brasiliensis, способный на сложнопротяженный звук из 17–20 «слогов».)
Но и тут мы не сможем обнаружить никакой заинтересованности ранних homo в понимании их «языка», тем более что преимущественная часть «фонетики» летучих мышей располагается в тех частотах, что почти не воспринимаются слухом человека (22-100 кГц).
Alias, из всех фонетически сложных, ритмизованных, протяженных, интонированных и продолжительных звуков естественного происхождения, в расшифровке (понимании) которых могло быть заинтересовано животное homo, остается только речь.
Но речь, по эволюционным меркам, – явление совсем недавнее. «Возраст» речи (даже если брать по запредельному максимуму) никак не превышает двадцати пяти тысяч лет.
В результате всех изысканий нарисовалась еще одна, крайне существенная и важная загадка: зачем в течение как минимум двух миллионов лет была нужна зона понимания речи, если отсутствовала способность к ее генерации?
Впрочем, все просто. У этой истории очень забавный финал, расставляющий точки над i без всяких сложных предположений.
В конце прошлого века центр Брока был обнаружен у обезьян, причем в том же самом месте, что и у человека. Разумеется, в меньшей степени анатомической развитости. Но – идентичный по функции.
«У обезьян нервные клетки в области Брока контролируют работу мимических и гортанных мышц, а также языка» (Pinker S. The Language Instinct: The New Science of Language and Mind, 2000).
Работа Пинкера с обезьяньим мозгом не просто лишний раз доказала, что мозг всех высших млекопитающих животных сконструирован одинаково и имеет полную сопоставимость даже в таких мелочах. Это лишь поверхностный эффект его исследования.
Гораздо важнее другое: на примере Broca's area, т. е. той области мозга, что всегда считалась «сугубо человеческой» и вообще очень специализированной, мы видим, что в мозге и других млекопитающих животных есть аналогичные зоны.
Opportune, крайне любопытно, что еще в 1938 году, в СССР, в Институте Мозга проф. Е. П. Кононова за шестьдесят лет до сенсационного открытия Пинкера установила, что в мозге шимпанзе и даже низших приматов существуют зоны, полностью соответствующие 44 и 45 полям в человеческом мозге, т. е. той самой «зоне Брока».
Что еще любопытнее, за пятьдесят лет до Е. Кононовой проф. Г. Дюре пришел к заключению, «что извилина, расположенная под gyrus sygmoideus мозга собаки, служит местом для центра лая и что она аналогична третьей лобной извилине, или извилине Брока, у человека» (Duret H. Sur la circulation cérébrale comparée chez les animaux, 1877). Примерно такие же выводы были сделаны в 1895 году В. М. Бехтеревым и проф. F. Klemperer (Experimentelle Untersuchungen uber Phonationscentren im Gehirn // Archiv. f. Laryngol. Bd. II).
(Заключение В. М. Бехтерева, вероятно, «утонуло» в огромности его наследия, мнения проф. Г. Дюре и Ф. Клемперера как-то затерялись, а исследование Кононовой было погребено в тоннах «вторичных» или просто фиктивных советских разработок, которые почти никогда не переводились на иностранные языки и были неизвестны западной нейрофизиологии.)
Впрочем, дело не в приоритетности открытия. Для нас эти факты важны лишь как дополнительные академические доказательства несомненной древности зоны.
Оставим на время в покое обезьян – и вернемся к ранним homo, несомненно, имевшим в своем мозгу и речедвигательный центр, и центр понимания речи. (Странно было бы отказать им в этом пустяке после обнаружения центра Брока у обезьян и собак.)
При этом палеоантропы, будучи своеобразными, но достаточно обычными животными, разумеется, не генерировали речь. Соответственно, понимать ее у них тоже не было никакой возможности или необходимости. Но анатомические и функциональные возможности мозга, позволяющие делать как первое, так и второе действие, – у них были.
Данные факты дают право на очередное предположение: в мозге млекопитающих есть формации, которые заготовлены эволюцией для некой окончательной «высшей» метаморфизации.
Но эта высшая метаморфизация происходит «не изнутри». Она запускается некими строго внешними обстоятельствами – и ими же легко отключается, возвращаясь в тот обычный режим, в каком она наличествует у каждого из высших животных.
Explico.
Изначально, вероятно, любая «высшая функция» имеет черты «черновика» или примерного эскиза «самой себя», как мы видим на примере немых обезьян, наделенных полноценной зоной генерации речи.
Да, обезьяны пищат, прицокивают, гудят, воют, визжат, ухают, стонут, кричат et cetera.
Да, и прицокиванием, и визжанием, и гудением, и уханьем у обезьян управляет та же самая «зона Брока», что одарила человечество филиппиками Цицерона, речами Геббельса и Демосфена, но все это, разумеется, у них даже отдаленно не является «речью». Причем, естественно, существует множество анатомических (в том числе) причин, по которым обезьяны говорить не могут – это и респираторные особенности, и строение гортани et cetera.
Opportune, нельзя сказать, что обезьяны лидируют в животном мире по части особого разнообразия издаваемых звуков. Или рекордируют по их количеству.
Отнюдь. О Microchiroptera я уже говорил, они, разумеется, вне всякой конкуренции в этом вопросе.
Но даже лошадь издает около 15 разноинтонированных звуков, именуемых как «ржание», не говоря о еще десятке тоново-высотно различно окрашенных «гуканий» и храпов.
Любые другие высшие животные совершенно равны и обезьянам, и лошадям в мастерстве звукоиздавания, причем механизм подачи звуков идентичен обезьяньему (по принципу формирования и реализации фонем), что позволяет обоснованно предположить наличие Broca's areа практически у всех высших животных.
И вот тут-то мы упираемся в удивительнейший и отчасти драматический факт, который все окончательно расставляет по своим местам.
Перечисляя животных, мы позабыли о homo.
Не о homo erectus или homo habilis, а о самых современных людях, имеющих эволюционно совершенный и здоровый мозг, «заточенные эволюцией» под речь гортань, нёбо, надгортанник и, тем не менее, способных лишь на мычание, рычание, визг, уханье, вой et cetera.
Разумеется, я говорю о тех людях, что вырастают в изоляции от человеческого общества или просто по каким-либо причинам оказываются не выучены человеческой речи.
Бесспорно, что эта же самая зона Брока управляет их невнятным верещанием, рычанием и мычанием, притом что потенциально их современный мозг вполне мог бы, да и «должен» был бы, генерировать настоящую речь.
Но чудо речи исчезает бесследно, Broca's area вновь оказывается способна породить лишь гудение или визжание. (Подробно об этих фактах – в главе VI.)
Причем, заметьте, не произошло никакой эволюционной «отмотки» назад на миллион лет. Не случилось космического или магического катаклизма, который видоизменил бы homo.
Нет, для полной и решительной аннуляции «высшести» функции Broca's area достаточно пустяка – незнания стопроцентно искусственного образования, именуемого «звуковым алфавитом», т. е. букв, слагаемых в слова и фразы.
Igitur, как мы видим, высшая функция может быть молниеносно «упрощена», возвращена в практически обезьянье или палеоантропическое состояние при отсутствии одного-единственного искусственного внешнего фактора.
Ее анатомическое совершенство при этом не будет играть никакой роли.
Igitur, «высшая метаморфизация» зоны Брока, делающая «человека человеком», как приходит, так и уходит. Ее удивительные свойства следует признать непостоянными, в общем-то, добавочными, «проявляемыми» только набором специальных обстоятельств.
Надо признаться, что и в этом выводе нет ничего нового, неожиданного или сенсационного. Еще Ernst Mayr (1977) сформулировал понимание того, что морфологическая перестройка мозга не является непременным условием антропогенеза. Более того, Mayr утверждает, что «для прогрессивной эволюции организмов характерно то, что каждый организм и орган как бы таит в себе большие потенциальные возможности к той или иной функции» (Майр Э. Принципы зоологической систематики, 1971).
На этой эффектной и сложной ноте я прерву тему «Брока-Вернике», чтобы вернуться к ней позже и попытаться разъяснить все эти парадоксы.
Но вернемся к интересующему нас периоду, к последним двум миллионам лет человеческой истории.
На данный момент археология и палеоантропология не позволяют даже заподозрить, что на протяжении этого огромного срока человеком изобретались и реализовывались даже простейшие культурологические игры, вроде «совести», «веры», «справедливости», «права», «бога» и пр.
Нет ни малейших оснований предполагать, что люди того времени культивировали или просто имели понятия о т. н. общечеловеческих ценностях.
Их искусство предельно откровенно. Внимательно рассмотрим т. н. первые «венеры» позднего палеолита. (Разумеется, это уже самый конец интересующей нас эпохи, но одновременно это и первые сформулированные «идеалы» человечества.)
Это «Венера» Тан-Тана и «Венера» Берехат-Рама. Они чуть разные, но их объединяет верность одному идеалу женщины.
У этой женщины лица нет, оно несущественно, но предельно отчетлива вагинальная фиссура.
Фигурки изображают запредельно жирных (в силу этого малоподвижных и, как возможное следствие, беззащитных) самок с ярко обозначенными половыми органами, т. е. воплощают в камне существо одинаково пригодное для совокупления или (возможно) для забоя и съедения.
Стыдливые ремарки искусствоведов о том, что формы палеолитических «венер» были проявлением некоего «культа плодородия», нелепы не только тем, что во время появления первых фигурок такого типа не существовало понятия «плодородие», так как не существовало ни земледелия, ни института семьи, но не было еще даже и культов как таковых.
Ad verbum, по поводу «Венеры из Берехат-Рама» есть разногласия среди археологов; существует мнение о том, что это – древнейшая из «венер», но есть и мнение, что это артефакт природного происхождения. По поводу «Венеры из Тан-Тана» авторитетных сомнений ни в ее датировке, ни в ее рукотворности не существует. Примечательно, что несмотря на временную и географическую отдаленность друг от друга, позднейшие (времен позднего неолита), относительно точно датированные «венеры» решительно однотипны и связаны с ранними «венерами Тан-Тана и Берехат-Рама» общей стилистикой и общей «идеей» скульптурок. «Венера из пещеры Ментон», «Виллендорфская Венера», «Вестоницкая Венера» буквально копируют смысл ранних «венер», опять предлагая образ женщины лишь как носительницы вагины, грудей и жира.
«Врожденный нравственный закон человека» на всей протяженности основного периода истории человечества имел очень забавные проявления.
Вероятно, именно этот «врожденный нравственный закон» обучил homo тщательно обстругивать от плоти человеческие кости и добывать из них костный мозг или совершать иные «разделочные» действия, объясняемые только гастрономическими пристрастиями человека к человеку.
Большинство археологических раскопов (не только палеолитических, но и неолитических) напрямую свидетельствует об «общепринятом, регулярном каннибализме людей каменного века» (П. Вилла).
Данное утверждение ни в малейшей степени не является новацией или экзотической гипотезой.
Мнение о том, что каннибализм был бытовой нормой ранних homo, сформулированное еще Ф. Вейденрейхом в классическом труде «Some Problems Dealing with Ancient Man», было подтверждено исследованиями В. Якимова «Европейские неандертальцы и проблема формирования homo sapiens» (1950), М. Урысона «Начальные этапы становления человека» (1964), А. Blanc «Some Evidense for the Ideologies of Early Man» (1961), G. Koenigswald «A Review of the Stratigraphy of Java and its Relations to Early Man» (1937), A. Keith «New Discoveries Relating to the Antiquity of Man» (1931), H. Vallois «The Fonteshevade Fossil Men» (1949), L. Leakey «Adam's Ancestors» (1953).
Ceterum, о каннибализме как о будничной норме палеолита мы еще поговорим.
Nihilominus, считать эти два миллиона лет не относящимися к истории человека – принципиальная ошибка.
Это колоссальное (трудновообразимое) бесконечье лет, это десятки тысяч поколений людей, сменявшие друг друга без всяких попыток реализации возможностей своего мозга, есть существеннейшая часть человеческой истории.
Без учета данного периода невозможно и правильное понимание человека как вида и особенностей его разума.
Пока что на одной чаше исторических весов есть крошечный отрезочек истории размером в 5,2 тысячи лет (от изобретения примитивной письменности, каковое можно считать началом формирования коллективного интеллекта, до наших дней), а на другой – огромный период в 2 миллиона лет, когда род homo вел чисто животное существование, хоть и был уже выпрямлен эволюцией, снабжен замечательным мозгом и вовсю использовал каменные орудия.
Opportune, моя же собственная формулировка кажется мне здесь не совсем корректной.
Фраза «род homo вел чисто животное существование» по нелепости своей равноценна заявлению «медведь в тайге ведет чисто животное существование», как будто бы у медведя есть некая альтернатива, как будто бы мы повествуем о горьких приключениях профессора, потерявшегося в лесопарке без примуса, микроскопа и биотуалета. Более точной, хотя и более неприятной будет спокойная и трезвая констатация того, что род homo в течение всего этого неизмеримо огромного времени был просто частью животного мира и жил по его законам и правилам, общим для всех животных.
Бедные креационисты бледнеют от мысли о маленьком дриопитеке (dryopithecus proconsul major), чей крошечный пенис почти восемь миллионов лет назад дал жизнь сразу нескольким ветвям приматов. Именно на нем обычно концентрируется «неприятие самой идеи нашего животного прошлого». Единственное, что служит слабым утешением для теологов, так это все-таки огромная отдаленность дриопитека во времени, она как-то смягчает болезненность и пикантность вопроса.
При этом совершенно упускается из вида, что обыкновенным животным человек был еще совсем недавно. Причем именно тот человек, что уже обладал анатомическими параметрами, которые сделали бы его незаметным в сегодняшней городской толпе. (При наличии одежды, разумеется.)
Здесь следует, вероятно, напомнить о т. н. позоре Вирхова. Виднейший и авторитетнейший анатом XIX века, антрополог и археолог Рудольф Вирхов[33]33
Рудольф Людвиг Карл Вирхов (1821–1902) – великий немецкий ученый, врач, патологоанатом, гистолог, физиолог, основоположник клеточной теории в биологии и медицине, теории клеточной патологии в медицине; занимался также археологией, антропологией и палеонтологией.
Илл. 35. Р. Вирхов
[Закрыть], осмотрев и изучив череп, который принес ему на идентификацию и обследование доктор Фульрот (Johann C. Fuhlrott), заключил, что данный череп не является «древностью», как склонен был думать Фульрот, а принадлежит «спившемуся казаку, который в 1813 году погиб в Неандертальской долине во время боевых действий русской армии против армии Наполеона».
Заключение Вирхова было объемным и очень основательным. Великий антрополог продемонстрировал стушевавшему доктору несколько десятков вполне современных пациентарных черепов с такими же точно особенностями лобной кости, надбровных дуг и глабеллы, как и у принесенного Фульротом артефакта.
Надо сказать, что Вирхову удалось убедить не только доктора, но и всю научную общественность Германии, что найденный в пещерке долины Неандер череп не представляет ровно никакого палеоантропологического интереса.
Лишь спустя значительное время было установлено, что осмеянный Вирховым череп является абсолютной сенсацией, первой находкой останков древнего вида людей, которым по месту географического обнаружения черепа дали научное обозначение – неандертальцы – homo neanderthalensis.
Существует мнение, что красивую историю о казаке предложил не Вирхов, а доктор Майер из Бонна, а Вирхов просто характеризовал череп как останки некоего деграданта и алкоголика, страдавшего рахитом, артритом и родовыми травмами. Но «датировка» черепа началом XIX века была поддержана Вирховым.
Бывали, правда, и обратные случаи. В республике Чад, в Коро-Торо, в 1959 году в озерных отложениях были найдены фрагменты черепа, идентифицированные как лицевой скелет homo habilis, т. е. как нечто, имеющее древность не менее двух миллионов лет. В процессе споров о научном имени находки (предлагалась номенклатура – tchadanthropus) было установлено, что находка все же является останками современного человека, череп которого из-за чрезвычайной эрозии ветром и песком приобрел сходство с ископаемым гоминидом.
Ceterum, если пытаться серьезно говорить о некоем хотя бы формальном интеллектуальном прогрессе homo за два миллиона лет, то необходимо найти материальные, однозначные, осязаемые свидетельства его деятельности. Более того, эти свидетельства должны иметь датировку хотя бы относительно точную, чтобы мы могли констатировать происходящие с течением времени изменения. И уже на основании этих изменений делать выводы о наличии или отсутствии прогресса.
Единственное, что в данном случае подходит нам по всем параметрам – это каменные орудия. Но, боюсь, на их примере разговор об интеллектуальном прогрессе, скорее всего, совсем не получится.
Рассмотрим каменные орудия.
Если сравнить «олдувайские»[34]34
Necessario notare, что меж орудиями homo habilis, так называемыми орудиями верхнего виллафранка, обнаруженными Б. Лики, и руби лами – скребками homo erectus некоторая разница все же есть. При этом следует помнить, что это орудия совершенно разных эпох, которые мы сознательно разделяем не только по «рубикону Валлуа», но еще и по этому признаку. «Олдувайские» образцы остаются весьма спорными. Часть исследователей относит их к эпохе homo habilis, часть – к homo erectus. Все дело в том, что «Олдувайские стоянки» формировались как раз на переходе эпох и имеют примерно установленный возраст – от 2,5 млн лет до 1,8 млн лет.
[Закрыть] образцы оббитой гальки, сделанные примерно 2 000 000 лет назад, с гораздо более поздними рубилами питекантропов и образцами «мустьерской» техники неандертальцев, то прогресс либо отсутствует вовсе, либо он есть, но незначителен.
Potius, он есть лишь настолько, чтобы заметить некоторые отличия, но не более. Принципиальных изменений ни в обработке камня, ни в конструкции или форме орудий не происходит в течение всей, поистине космической по своей протяженности эпохи.
Два миллиона лет homo колошматит камнем по камню, чтобы придать ему некоторую приладистость к руке и несколько относительно острых граней, но в результате каждый раз получает крайне неудобный и малоэффективный инструмент.
Специализация орудий в течение всего палеолита не меняется и не расширяется, это всего 3–5 «типов» крайне примитивных орудий. Причем «типами» их назвать сложно, небольшая разница форм и сколов связана, вероятно, лишь с первоначальной формой и породой обколотого камня, но не является намеренной.
Только в Ашельской культуре (а это всего 30 000 лет назад) ассортимент расширяется до 5-15 типов, имеющих некоторые функциональные различия.
(Лишь 20 тысяч лет назад стала известна «огненная» обработка камня, когда острота грани на орудии достигалась нагреванием-охлаждением обсидиана или кремния[35]35
«Кроманьонские времена» вновь изменили технологии – и стали третьей эпохой еще и по признаку усовершенствования орудий. Любопытно, что в начале XX столетия австралийские аборигены, делая наконечники и скребки из бутылочного стекла и керамических изоляторов, явно придерживались «производственной традиции» новейшего типа, которую условно принято называть «отщеповой» (по принципу технологии) или кроманьонской (по эпохе), хотя, разумеется, понятия не имели о существовании таких «традиций».
[Закрыть].)
Здесь уместно будет вспомнить знаменитую лекцию И. П. Павлова на одной из его «сред».
Лекция сопровождалась опытом: обезьяне предлагалось достать «лакомство», вставив палку в отверстие ящика.
Отверстия были трех видов: круглое, квадратное и треугольное.
Три палки, соответственно, тоже имели круглое, квадратное и треугольное сечения. «Обезьяна решала задачу, пробуя поочередно воткнуть ту или иную палку. (Когда задача решалась, то местоположение отверстий менялось. – Прим. автора). Если меняли отверстие, то обезьяна пробовала опять поочередно втыкать каждую из палок, так и не научившись сопоставлять форму палки с формой отверстия» (Сепп Е. История развития нервной системы позвоночных, 1959).
И. П. Павлов комментировал фиаско обезьяны следующим образом: «Теперь вопрос, почему человек в конце концов решает задачу легко, и какими детальными физиологическими процессами определяется поведение обезьяны? Надо думать, что к решению той же задачи человек подходит потому, что имеет общее понятие о форме, а у обезьян этого, очевидно, нет. Обезьяна каждый день начинает снова» (Павловские среды, 1949. Т. 2. С. 296).
В этих выводах Ивана Петровича заметна игнорация как фактора времени, так и фактора эволюционности любого процесса.
Павловские обезьяны имели в своем распоряжении от 15 до 60 минут, пока продолжался эксперимент. Такие эксперименты проводились 2–5 раз в месяц в течение двух лет.
Homo на решение задачи, вполне сопоставимой по сложности с «павловской задачей», имел не менее, а возможно, и более двух миллионов лет. От него требовалось сопоставить форму каменных скребков и рубил – с возможностью воздействия ими на мучительный процесс добывания еды. (Вырубку из подтухших туш относительно съедобных фрагментов.)
Для любого существа с полноценным мозгом этот срок кажется вполне достаточным, чтобы получить понятие о связи формы предмета с эффективностью его использования.
Nihilominus, в течение двух миллионов лет homo не мог установить эту связь, практикуя только самый примитивный и, в известном смысле этого слова, ошибочный вариант из всех возможных в данной ситуации.
Вы можете мне возразить, что эти же два миллиона лет были и у обезьяны.
Несомненно.
Но у обезьяны не было ни малейшей потребности в изготовлении орудий, свои пищевые потребности она решала, мобилизуя возможности к древолазанию и являясь почти единоличным обладателем плодовых ресурсов. (Взаимосвязь еды и инструмента для обезьяны, вероятно, впервые возникла лишь в лаборатории Ивана Павлова.)
А вот для homo инструмент был категорическим условием выживания.
Падальщик, лишенный полноценных когтей и зубов, был обречен на использование искусственных предметов, позволяющих отделять от костей съедобные фрагменты и органы, прорубаться сквозь шкуру, отчленять конечности, дробить кости в поисках костного мозга.
Sine dubio, на протяжении этих двух миллионов лет мы видим отчетливую, более того, настоятельную потребность в совершенствовании орудий. (Это касается как метаморфизации части рубил в реальное оружие, так и улучшения режущих и рубящих качеств бытовых инструментов.)
Более эффективные приспособления в руках homo могли бы обеспечить ему иное место в очереди к падали, а через это: к минимизации риска отравлений продуктами разложения в тушах, к органам, поедание которых не ведет к повреждениям зубов, к чрезвычайно важным возможностям выбора поедаемых фрагментов, к установлению менее жестких отношений внутри собственных стай за счет элементарного увеличения количества еды et cetera.
Nihilominus, мы видим, что на протяжении двух миллионов лет (как минимум) homo неизменно повторял ошибки, сопоставимые с ошибками обезьян из экспериментов И. П. Павлова, будучи не в состоянии соотнести форму предмета с эффективностью его использования.
Тут уместен простой вопрос – а была ли потребность в этом усовершенствовании? Была ли та форма рубил ошибкой?
Лучшим ответом на этот вопрос будет сам факт состоявшегося в конце концов усовершенствования (исправления ошибки), примеры которого я привел в качестве образцов ашельской неолитической культуры.
Следует помнить и то, что совершенство орудий было единственной надеждой homo реализовать свой потенциал агрессий, получить возможность убивать самостоятельно и начать, наконец, свою эволюционную «карьеру».
Ad verbum, И. Павлов, как выяснилось, ошибался, говоря о «знании человеком форм». Естественно, никакого врожденного «представления о форме» homo не имеет, что было доказано исследованиями M. Wertheimer «Hebb and Senden on the Role of Learning in Perception» (A. J. P., 1951. № 64); G. Weill, C. Pfersdorff «Les fonctions visuelles de l'aveugle-né opéré», 1935; M. Senden «Raum– und Gestaltauffassung bei operierten Blindgeborenen vor und nach der Operation», 1932. (Исследования проводились на слепых от рождения людях, которым после удаления катаракты было частично возвращено зрение). Эти исследования были корректно обобщены в академическом труде J. Delgado «Physical Control of the Mind» (1969): «Способность понимать видимое не является врожденным свойством мозга, а приобретается только через опыт». Не менее убедительными были и аналогичные изыскания А. Барнетта: «Ранее полагали, что люди обладают врожденной способностью к распознаванию самых простых форм, таких, например, как квадраты или круги; казалось даже, маленький ребенок „мгновенно“ и без труда определит разницу между ними. Однако это предположение оказалось ошибочным. Человек, слепой от рождения (из-за врожденной катаракты), впервые увидев окружающий его мир предметов и красок, в состоянии сообщить только о смешанной массе света и цветов. Назвать предмет он не может, как бы тот ни был знаком ему из прошлого опыта, приобретенного путем осязания, обоняния и т. д. Формы вообще нельзя „узнать“: чтобы отличить квадрат от треугольника или круга, приходится считать углы, и то, что выучено сегодня, назавтра уже забыто. Известен, например, такой случай: мужчина, уже научившийся определять квадрат из белого картона, не смог узнать его, когда ему показали тот же квадрат, но выкрашенный в желтый цвет» (Барнетт А. Род человеческий, 1986). Любопытно, но примерно такие же результаты приведены В. Д. Глезером и Н. Праздниковой как результат опытов с рыбами: «Выработка различения красного круга от красного квадрата не дает переноса на зеленые круг и квадрат, и различение приходится вырабатывать заново» (Глезер В. Зрение и мышление, 1985; Праздникова Н. Исследование инвариантности опознания зрительных изображений у рыб и обезьян // Механизмы кодирования зрительной информации, 1966).
Разумеется, существует ряд теорий, берущихся объяснить кажущуюся «драматическую невероятность» перехода homo от чисто животного состояния в состояние тщательно скорректированной животности, когда его поведение стало мотивироваться не только агрессиями, но и мышлением, интеллектом и сложными социальными играми.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?